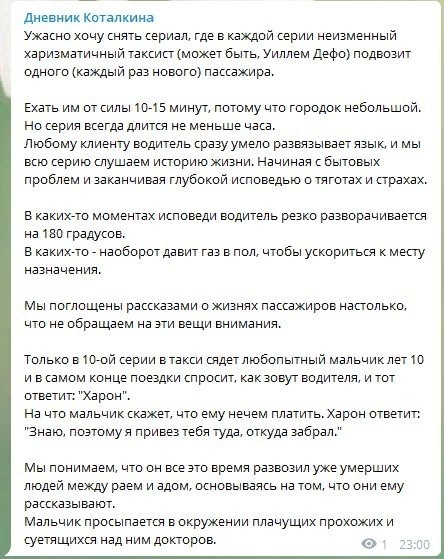Лучшее за всё время
Акси, блог «Гравий через кожу...»
Мышца...
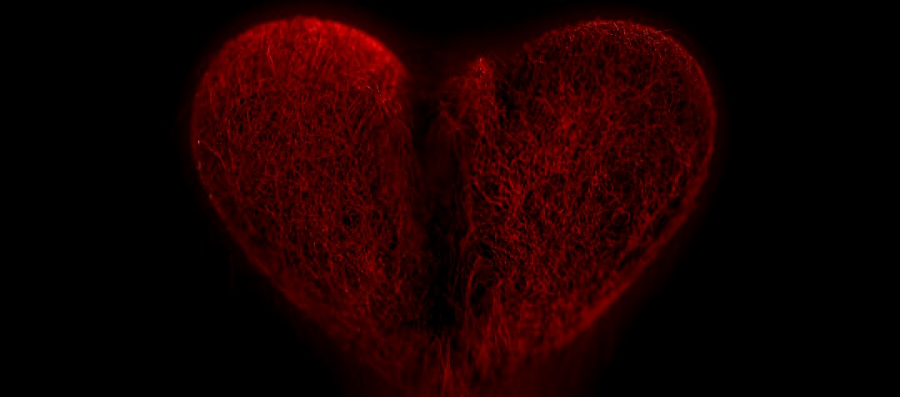
Кому-то Это нужно. Другие Это презирают. Но Эти слова всё равно останутся...
.
Я люблю тебя.
Просто говори. Вслух и шёпотом. Молча. Одному, лишь. Всем и каждому. Другу. Недругу... Самому себе. Если страшно. И не знаешь... Ты стоишь, ты сидишь, ты идёшь... ты едешь, видишь, слышишь... думаешь, спрашиваешь, отвечаешь, отчаиваешься, надеешься... хочешь, не хочешь, просишь, отдаёшь, получаешь, прикасаешься, дышишь... Говори...
Я люблю тебя...
.
И я говорю с Вами, даже если Вы не слышите меня. И я слышу Вас, даже если Вы не говорите со мной.
И я вижу Вас, даже если Вы отвернулись от меня. И я верю в Вас, даже если Вы отвернулись от себя.

Darth Juu, сообщество «Там, где восходит солнце»
Мечи Мурамаса и Масамунэ.
У подножья сосны, где поток пробегал,
И пронзительный ветер слетал к нему пить,
Зову предков внимая, самурай умирал.
Мне ж судьба повелела — его проводить.
Уходил из груди жизни пламенный сок…
Умирающий дар свой успел передать.
Два меча предо мною вонзились в песок.
Прошептал, уходя, он: «Тебе выбирать!..»
Я прохожий буси, но обычай святой,
Перед павшими долг мне велит исполнять.
И, омыв тело воина чистой водой,
Я богов попросил его дух к себе взять!
Что ж, к оружью привык я неплохо, весьма,
И завещан мне был восхищенья исток!
Да! На этих клинках два известных клейма:
Мурасамы – Дракон, Масамунэ – Цветок!
скрытый текстВ созиданьи меча есть родство колдовству.
Мастер должен отречься от всей суеты,
Пролагая пути, своему естеству,
Он поэму кует вековой красоты.
Перед тем, как начать, он уходтит туда,
Где его созерцанью не будет преград.
А затем его тело очистит вода,
И на плечи опустится белый наряд.
Мастер меч свой куёт месяцами порой,
Говоря с ним, как будто с ребёнком своим.
И выходит из горна бесстрашный герой,
А быть может, убийца с изгибом косым.
Имена мастеров, чьи мечи я узрел,
Были славы достойны на множество лет.
Мурасамы клинок — алым светом горел,
Масамунэ — сверканием снежным одет.
Как мне выбрать своё продолженье руки?
Чтобы лезвия кончик был пальцу под стать,
Чтобы души слились, как весной ручейки,
И в бою, словно братья могли мы стоять.
В воду древней реки каждый меч погружён.
В ней опавшие листья неслись на восток.
Каждый встречный листок рассекает Дракон,
А другие легко огибают Цветок.
Будто пеной кровавой вскипала струя,
О багровый клинок разбиваясь, как ртуть.
Что ж, вседа вдалеке от него буду я.
Тот, кто щедр на милость, разделит мой путь…
© Мистраль

ДВА ВЕЛИКИХ МАСТЕРА
В истории создания японских мечей навсегда остались имена двух выдающихся оружейников:Масамунэ и Мурамаса. Кто-то говорит, что они были братьями, кто-то — что друзьями, кто-то — что Учителем и Учеником. Как бы то ни было, мечи этих мастеров отличает то, что у них есть свой собственный характер. И они отражают две возможных испостаси меча — меч разящий и меч, предотвращающий столкновение.
Масамунэ называли Белым мастером. Он был монахом и владел множеством секретов по изготовлению мечей. Говорят, меч Масамунэ обладал такой силой, что его владельцу даже не было необходимости вынимать его из ножен — уже сама сила, вложенная в него мастером, даровала победу.
Масамунэ создал школу ковки меча, его ученики также стали великими мастерами. Но один из его учеников использовал полученные знания и мастерство для того, чтобы создавать мечи, несущие смерть. Имя этого ученика — Мурамаса.
скрытый текстМурамаса, согласно преданиям, совершал суровые аскезы и обладал мистической силой, которая позволяла ему заковывать в свои мечи заклинания и воинствующих духов. Считалось, что меч Мурамаса, который вынули из ножен, требует крови и несет смерть.
По легенде, Мурамаса был не согласен с политикой Токугавы, который стремился завладеть властью над всей Японией, поэтому вкладывал в свои мечи проклятия для всей семьи Токугавы.
Согласно преданиям, когда меч Масамунэ и меч Мурамаса воткнули в дно ручья, то опавшие листья, которые плыли по течению, огибали первый меч. А меч Мурамаса разрезал их надвое. Таким образом была явлена природа этих клинков: клинка, сохраняющего жизнь, и клинка, несущего смерть.
МИСТИКА МЕЧА

На самом деле Мурамаса — это целая династия оружейников. Согласно общепринятой версии, первым в этой семье великих мастеров был Сэнго Мурамаса, который работал в поздний период эпози Муромати (около 1460 года). Он получил духовное имя Нюдо Мёдаи, но подписывался всегда светским именем — оно состояло из двух иероглифов, которые вы можете увидеть на хвостовике меча на следующей фотографии.
Вторым в династии бы его сын, которого также звали Сэнго и он подписывался точно такими же двумя иероглифами — Сэнго Мурамаса. Его сын также стал оружейных дел мастром, а подписывался как Мэису Кувана дзю Мурамаса.
Историки до сих пор теряются в догадках — сколько же на самом деле поколений было в этой династии. Дело в том, что мастера Муромаса не утруждали себя проставлением дат, и до наших дней дошел всего один меч с датой.
Судя по всему, это меч второго Мурамаса. Однако, если это на самом деле так, первый Мурамаса никак не мог жить в то же время, что и его предполагаемый учитель Масамунэ. Между тем, большинство старинных книг и хроник настаивают на том, что между двумя этими величайшими мастерами существует преемственность.
Исходя из этого факта историки сделали предположение, что в династии было еще одно поколение — четвертое — о котором не осталось никаких упоминаний в летописях.

На самом деле Мурамаса — это целая династия оружейников. Согласно общепринятой версии, первым в этой семье великих мастеров был Сэнго Мурамаса, который работал в поздний период эпози Муромати (около 1460 года). Он получил духовное имя Нюдо Мёдаи, но подписывался всегда светским именем — оно состояло из двух иероглифов, которые вы можете увидеть на хвостовике меча на следующей фотографии.
Вторым в династии бы его сын, которого также звали Сэнго и он подписывался точно такими же двумя иероглифами — Сэнго Мурамаса. Его сын также стал оружейных дел мастром, а подписывался как Мэису Кувана дзю Мурамаса.
Историки до сих пор теряются в догадках — сколько же на самом деле поколений было в этой династии. Дело в том, что мастера Муромаса не утруждали себя проставлением дат, и до наших дней дошел всего один меч с датой. Судя по всему, это меч второго Мурамаса. Однако, если это на самом деле так, первый Мурамаса никак не мог жить в то же время, что и его предполагаемый учитель Масамунэ. Между тем, большинство старинных книг и хроник настаивают на том, что между двумя этими величайшими мастерами существует преемственность.
Исходя из этого факта историки сделали предположение, что в династии было еще одно поколение — четвертое — о котором не осталось никаких упоминаний в летописях.
Накайима Хисатае написал короткое стихотворение, посвященное мастерам Мурамаса:
Заключен ли в них злой дух или нет,
Этого мне знать не дано.
Но в реальности
Мечи Мурамаса – большая редкость,
Это я знаю точно

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЧЕЙ МУРАМАСА
В книгах по оружейному искусству, которые были написаны много позже после жизни Мурамаса утверждается, что их мечи больше похожи на традицию Мино, а не Масамунэ. Но по сути, мечи сочетают в себе характеристики и той, и другой традиции.
Мечи всех троих (или четверых) мастеров обладали следующими характеристиками:
— Лезвия были следующих форм:катана, вакидзаси, танто, несколько тати и совсем мало яри (копье). В целом по форме они соответствовали лезвиям Мино, за исключением того, что клинок был более широким и тонким, линия синоги размещалась выше, острие длиннее.
— Текстура поверхности — итамэ-масамэ (прямая слоистость).
— Цвет поверхности — чистый темно-синий с ниэ (относительно крупнозернистые зеркально-подобные частицы мартенситы на линии закалки).
— Линии закалки волнистые или по форме напоминающие голову божества Дзидзо.
— Гравировка на клинке встречается редко, чаще бывают желобки.
— Хвостовик формы «живот рыбы».
— Хамон с поверхностью нанако (поверхность в виде «икры рыбы»), в которой гранулы расположены диагональными линиями с образованием ромбиков, или нотарэ — волнистая линия, смешанная с хако (неровная линия с «коробочками»), многие с укрупнением к рукояти. Основание линий часто продолжается до края, иногда с аси (тонкие секторы мягкой стали на клинке, идущие до самой режущей кромки лезвия). Цвет якибы (закаленной части клинка) чистый кристалльный белый с голубоватым оттенком.
Источник

Darth Juu, блог «Мурлыкать можно»
Суть в мелочах.
На столе лежат два яблока - ароматных, желтых с розовыми штрихами. Я их весь день нюхаю. Режу ножом яблоко. Нож проходит легко, яблоко с легким хрустом разваливается на две половинки. Я беру одну, смотрю на нее и думаю, вспоминаю... Замираю на секунду, восстанавливая в памяти слова, улыбаюсь. Понимаю, что понимаю. Понимаю, что получается, если не делить мир на черное и белое, и что это не больно, не шарахаешься и прочие не, а просто... факт. И это так необычно, что слезы из глаз брызнули. Чувствую мысленное "ты выздоравливаешь", улыбаюсь.
P.S. А яблоки вкусные:) И температуры нет. Правда, ее и не было.
Режу яблоко
Пополам. Без ножа не увидеть
Сердцевины.
ekatheartist, сообщество «Star Wars fest club»
Дом, в котором нет никаких подвалов

Категория: гет
Жанр: AU, драма, психология, повседневность
Персонажи/Пейринг: Люк Скайуокер/Лея Органа, Хан Соло/Лея Органа, Дарт Вейдер
Предупреждения: твинцест, беременность, смерть персонажей, сцены насилия, underage
Призраки прошлого встают перед ними даже теперь, когда они свободны. Сейчас, когда их осталось только двое, им предстоит решить очень важный вопрос - кто будет следующим чудовищем?

Глава 1

Екатерине, Дарье, Гаухар.

Пыльный летний воздух поднимался над дорогой. Молодой мужчина расстегнул пальто и надел шляпу. Он был одет не по погоде: когда его судили, стоял морозный, хрустящий ноябрь, в тюрьме он носил одежду казённую, которую ему выдавали — она почему-то вечно была на размер больше. А когда он вышел из тюрьмы, ему вернули то, в чём он туда пришел: аккуратно сложенный тюк, вплоть до носков. Но ему было только шестнадцать, когда он попал в тюрьму, и он значительно вырос с тех пор. Он достал из кармана пальто сложенную вчетверо маленькую бумажку, на которой чёрными чернилами был написан адрес. Он сверился с ней, огляделся беспомощно и с надеждой, потому что он верил, что сможет разобраться в том, как люди в этом мире ищут людей, которые необходимы.
Он узнал её дом. Это был совершенно обычный дом для этого времени и места, возведенный муниципальными властями, маленький, плохо скроенный, с дешёвой крышей и типовыми дверьми. Однако он узнал дом: у входа росли голубые гиацинты, и молодой мужчина, глаза которого вдруг стремительно тоже поголубели, вздрогнул всем телом от вида этих простых цветов. Он хотел сесть возле её дома, чтобы дождаться, но там не было скамейки. Он подумал, что непременно сработает лавочку, своими руками, из самого хорошего дерева. Что будет сидеть на тёмной скамейке — сидеть и курить вечерами, слушая ее лёгкие шаги на кухне, чувствуя запах готовящегося ужина. Может быть, будет даже играть радио, по которому безостановочно будут крутить какие-то нежные и печальные песни.
 Некоторое время он стоял прямо у её дома, потом, спохватившись, что она, быть может, вернётся ещё не скоро, огляделся в поисках места, где мог бы дождаться. Он был уже замечен бдительными соседями. Слоноподобная миссис Мейзис, у которой только и было дело, что смотреть в окно и слушать радиопередачи, потому что у неё была подагра обеих ног и неоперабельный рак четвёртой степени, уже его заприметила и заучила его портрет. Примерно так, как составляют портреты преступников в захудалом полицейском бюро маленького города, где служат только два сотрудника, являющиеся родственниками друг другу. Она сказала себе: «Молодой мужчина двадцати трех лет, среднего роста, даже ближе к низкому, с обритыми, видимо когда-то светлыми волосами и сорок четвертым размером обуви, в потрепанной старой одежде, в четыре часа вечера стоит у дома мисс Скайуокер».
Некоторое время он стоял прямо у её дома, потом, спохватившись, что она, быть может, вернётся ещё не скоро, огляделся в поисках места, где мог бы дождаться. Он был уже замечен бдительными соседями. Слоноподобная миссис Мейзис, у которой только и было дело, что смотреть в окно и слушать радиопередачи, потому что у неё была подагра обеих ног и неоперабельный рак четвёртой степени, уже его заприметила и заучила его портрет. Примерно так, как составляют портреты преступников в захудалом полицейском бюро маленького города, где служат только два сотрудника, являющиеся родственниками друг другу. Она сказала себе: «Молодой мужчина двадцати трех лет, среднего роста, даже ближе к низкому, с обритыми, видимо когда-то светлыми волосами и сорок четвертым размером обуви, в потрепанной старой одежде, в четыре часа вечера стоит у дома мисс Скайуокер».Мужчина, пожав плечами, вернулся к автобусной остановке, сел на скамью, поставил кейс себе на колени. Немного подумав, спустил его вниз и зажал между ступнями ног, как будто боялся, что кто-то может отнять у него чемодан. У мужчины был очень терпеливый вид, и судя по его позе, он мог прождать так очень долго.
Но ему не пришлось.
Раздалось позвякивание велосипедного звонка, приведённое в движение не пальцем велосипедиста, а ухабами дороги. На проезжей части показался мятного цвета старенький велосипед, с коричневыми прорезиголубненными ручками, управляемый молодой и очень маленькой девушкой с тёмными длинными волосами. На ней была надета форма сотрудницы почтового отделения: узкие синие брюки и голубая рубашка с острым воротником, повязанная строгим шейным платком. Волосы её были заплетены в косу, а на голове красовалась соломенная шляпка с такими же синими цветами.
Молодой мужчина задохнулся, увидев её. Он встал и, забыв о чемодане, выбежал на дорогу навстречу ей, широко раскинув руки, как если бы хотел её поймать.
 Она, до боли в побелевших руках, вцепилась в руль. Она попыталась затормозить или повернуть, но он, казалось, был везде — не осознавая опасности быть сбитым, он бежал навстречу ей так, как если бы не чаял больше её увидеть. Он бежал навстречу так, как возвращаются с войны, объявленные умершими. Так, как приходят те, кому пришлось изменить свое имя и лицо, чтобы их никто не мог найти их. Так, как через сорок лет приходят к постаревшим матерям их блудные, давно потерянные сыновья, проведшие свою жизнь в наркотических притонах, разменявшие её по капле на пустоту иллюзий.
Она, до боли в побелевших руках, вцепилась в руль. Она попыталась затормозить или повернуть, но он, казалось, был везде — не осознавая опасности быть сбитым, он бежал навстречу ей так, как если бы не чаял больше её увидеть. Он бежал навстречу так, как возвращаются с войны, объявленные умершими. Так, как приходят те, кому пришлось изменить свое имя и лицо, чтобы их никто не мог найти их. Так, как через сорок лет приходят к постаревшим матерям их блудные, давно потерянные сыновья, проведшие свою жизнь в наркотических притонах, разменявшие её по капле на пустоту иллюзий.Но она — она не была его матерью. Она не ждала его, так, как жена ждёт пропавшего без вести — отчаянно, безнадёжно, каждый день, до сосущей тоски, которая пронизывает не только всю её, но и дом вокруг, и землю, и соль, и хлеб, и вино.
Она вообще его не ждала.
Они ожидаемо и неминуемо столкнулись, и девушка вылетела из седла.
Руль велосипеда ударил его в солнечное сплетение, как ударил бы бык своими рогами.
Он согнулся от неожиданности, но не обращая внимания на боль, обогнув остов велосипеда, бросился к ней.
Она уже поднималась, когда он попытался схватить её за руки своими широкими ладонями, и спросил судорожно:
— Ты в порядке? Прости. Я не хотел.
Она, сначала не узнав его, отшатнулась прочь, уворачиваясь от его рук. Потом она сказала слабо, приглядевшись к нему:
— Люк?
И он сказал ей, улыбаясь так, как будто был зеркалом, отразившим прямой солнечный луч:
— Да. Это я. Здравствуй, сестра.
Они сидели за маленьким круглым столом, рядом с которым помещалось лишь два стула. Столик стоял неровно, имел обыкновение качаться, если с одной стороны надавить на него слишком сильно. Лея, как человек, живущий с проблемой, и имеющий привычку не опираться на больную ногу, умела обращаться со столом. Но Люк, заглянув под днище, пошатал его ещё, и мирно сказал:
— Я его починю. У тебя есть инструменты?
Лея покачала головой. Он продолжил:
— Значит, завтра с утра схожу в хозяйственный магазин и куплю всё, что нужно для жизни. Карниз штор покосился, его я тоже поправлю. У меня есть деньги, в тюрьме мы работали, и нам выдали зарплату разом, сразу по освобождению. На первое время хватит.
Лея встала из-за стола, подошла к кухонным полкам и спросила:
— Будешь кофе?
Люк спросил:
— Какао нет? Я соскучился по вкусу.
Лее нервно покачала головой и сказала резко:
— Нет. Какао нет.
— Тогда кофе — будет отлично.
Лея поставила чайник, достала кружки — у неё была только одна чайная ложка, поэтому она сначала размешала сахар брату, а потом только себе. Она оставила ложечку в своей чашке, потому что привыкла придерживать её пальцем, когда пьет.
Взгляды предавали их — рассказывали какую-то невыносимо печальную историю, потому что Лея все время отводила взгляд от глаз брата; а он никак не мог на неё насмотреться, пожирал ее глазами, когда она сидела перед ним, когда она готовила еду в нескольких метрах от него, когда она отходила в другую часть кухни. Казалось, он к ней приклеен, и даже если вокруг будет происходить что-то страшное, грянет гром, начнется пожар, он все равно не сможет отвести от неё глаз.
И всё-таки, это был взгляд в первую очередь именно преданный, тоскующий и нежный. Он сказал:
— Я завтра же пойду искать работу. Ты будешь по утрам готовить какао. И все будет хорошо.
Лея поставила перед ним чашку с кофе, бросила пачку запакованного печенья. Он поймал рукой её тонкую ладонь. Она вздрогнула, и мягко освободила пальцы, выскользнула из его хватки. Села напротив и, не глядя на него, начала пить из своей кружки. Он продолжил, уловив её страшное напряжение, и желая его поскорее развеять:
— Тебе больше не придётся работать. Я буду нас содержать.
Лея, наконец, подняла на него глаза. И сказала твёрдо:
— Мне нравится работать.
Он улыбнулся, поймав, наконец, взгляд её карих бархатных глаз.
— Тогда работай, сколько тебе хочется.
Но хотя глаза его улыбались, внутри него, где-то в области лёгких и сердца колола и сжималась маленькая, усиленно давимая им, боль. Боль о том, что сестра не бросилась ему на шею, не улыбалась ему, и, казалось, не была счастлива его возвращению. Он уговаривал себя, что это слишком неожиданно для неё, и она сейчас перегружена эмоциями. Но скоро она начнёт быть прежней его Леей. Той, которая остервенело сжимала спинку стула в зале суда, той, которая кричала ему вслед, когда его уводили, взяв за наручники, той, которая гладила его по голове и говорила что любит.
Он не хотел давить, но мечтал об этом дне семь лет. В тюрьме каждый держится за то, что у него осталось снаружи: этот человек или объект приобретает черты сверх смысла и сверх цели. И он каждый день думал о своей сестре, просыпался с её именем на губах и засыпал с видением её лица перед глазами. Он отодвинулся вместе со стулом, и протянул к ней руки, приглашая сесть к нему на колени:
— Иди ко мне.
Лея вздрогнула — всем телом, крупно, ощутимо. Люк мгновенно убрал руки, обхватил ими себя, придвинулся обратно ко столу, схлопнулся, как в раковину. Он не понимал, что сделал не так, но чувствовал себя неуверенно, как человек, совершивший по незнанию большую ошибку.
Она сказала:
— Теперь, когда ты вышел на свободу, мы сможем наконец-то, открыть дело о наследстве. Пока ты числился в заключённых, все счета отца были заморожены, и муниципалитет, по достижению совершеннолетия, выделил мне этот дом. Но теперь, когда мы получим наследство, ты сможешь купить себе жилье.
Люк потрясенно посмотрел на нее — он и не думал, что когда-либо придётся расстаться с ней снова. Теперь уже по собственной воле. Он, наверно, не так понял. Конечно, не так понял: она хотела, чтобы они купили большой дом вместо этого. Он не против, большой дом — это хорошо. Много комнат, просторная мансарда, заставленная цветами в горшках, кухня с огромным столом, две ванные комнаты — в одной душ, в другой ванна, крыльцо со скамейкой. Только никаких подвалов. Ни одного спуска вниз. И никаких сараев. Ничего такого.
Если Лея хочет большой дом, он может его даже построить. Он сказал:
— Уже поздно, я долго ехал, и был длинный день. Давай спать.
Она проводила его в крошечную гостиную, где стоял раскладной зелёный диван, купленный ею на гаражной распродаже. Журнальный столик был завален периодикой самой разной направленности — психология, глянец, садоводство, политическая литература, даже один журнал про автомобили: как будто Лея никак не могла определиться, что ей нравится на самом деле и на всякий случай интересовалась всем. Через узкое окно в комнату заглядывало яркое око фонаря. Лея задернула занавески, а Люк неуверенно спросил:
— Здесь?
— Да, — твёрдо сказала Лея, — здесь.
— Но в твоей спальне…
— Здесь.
— Хорошо.
Пока он ввозился с диваном, пытаясь понять, как его разложить, она принесла постельное белье в мелкую синюю клетку, а также подушку и не по-июньски плотное одеяло. Люк, наконец, справился с диваном — тот занял почти всю комнату — отряхнул его от внутренней пыли, и быстро, сноровисто, застелил. Он стянул с себя футболку, одним ловким движением сложил ее вчетверо. Со стороны Леи раздался потрясённый выдох, и она медленно сказала:
— Я и забыла, что у тебя столько шрамов.
— Добавилась парочка в тюрьме, — сказал он, почему-то неловко улыбаясь.
Лея подошла к нему и медленно, осторожно обняла за талию, словно держала на ладони маленькую птицу. Он замер и перестал дышать, почувствовав — в первый раз за очень долгое время — прикосновение, которое не было обезличенным и которое не ранило. Ее маленькие руки грели кожу, и он почувствовал, что дрожит.
Она сказала тихо:
— Всё хорошо. Всё теперь будет хорошо, мой бедный.

Глава 2
Когда он проснулся ночью, то сначала не поверил своим глазам: гостиная была заполнена, практически завоёвана предметами, а рядом больше не было никаких людей. Люк вспомнил, что пришел домой. Он выдохнул шумно, и ему захотелось выйти из дома: просто, чтобы убедиться, что такая возможность у него есть, просто чтобы увидеть звёздное небо, почувствовать сладкий ночной запах гиацинтов. Хотел пройти на кухню, съесть вишневый пирог из пластикового контейнера, который Лея принесла с работы. Он хотел пройти в ее спальню, чтобы услышать ее сонное дыхание и окончательно понять, что он вернулся к ней. Но ему почему-то было страшно все это делать: ему казалось, что стоит пошевелиться, как мираж вокруг него растает, холодную камеру зальет беспощадный свет, ворвутся полицейские с дубинками, наручниками и свистками. Когда он всё-таки решился, то вышел, крадясь и вздрагивая от каждого шороха, в коридор. Он вошел в ванную, щелкнул несколько раз выключателем, но лампочка перегорела, и для света он оставил открытой дверь. Люк долго плескал себе в лицо холодную воду, сделал несколько ледяных глотков.
Ему стало легче физически, но усилилось желание увидеть и услышать сестру. Убедиться, что она в безопасности, что никто не стоит над ней с ножом, раскачиваясь с пятки на носок, бормоча что-то себе под нос.
Он вздрогнул. Он почти не боялся за неё, пока был в тюрьме, но теперь, когда она была так близко, ему казалось, что с ней непременно случится зло.
— Глупости. Я убил его. Он не придёт.
И всё-таки, ему хотелось войти в её комнату, удостовериться, что с ней всё хорошо, лечь в изножье её постели или на полу возле, чтобы никто и ничто, никакое зло не могло пройти через него, пока она спит. Невероятным усилием воли он преодолел это желание, вернулся гостиную на свой скрипучий диван. Он видел, что она встретила его напряжением и, возможно, не будет рада такой его заботе. Он лег, укрылся плотно одеялом несмотря на то, что весь пропотевал под ним, и притянул колени к груди, как больной ребенок.
Люк думал, что не сможет заснуть и уж точно встанет утром первым, но разбудил его запах еды — Лея готовила скрембл на завтрак. Пузыристый запах просачивался сквозь дверь, обещал покой и тепло. Люк встал, надел свою вчерашнюю, пропахшую дорожным потом одежду — другой у него не было — вышел на кухню. На ней было горчичное платье, и она была босая. Люк сглотнул — в детстве они тоже ходили босиком, потому что так было тише, но сейчас крутой подъем ее белых ступней обозначал что-то совсем другое, а что — он не мог разгадать.
Она кивнула ему, указывая на стол, и сказала:
— Садись, сейчас все будет.
Он чувствовал себя слишком неловким для этого маленького дома, для этого крохотного стола, для этих занавесок в цветочек, для этой хрустальной вазы с искусственными цветами. Он послушно сел, почесал щеку, которую колола отрастающая щетина — подумал мимоходом, что кроме одежды, нужно ещё купить безопасную бритву — у Леи не может быть таких вещей. Щетка, зубной порошок и запас белья у него был, а вот бритва…
— Ты встала так рано, — сказал он.
— Я же работаю на почте, разношу письма рано утром. Зато к обеду почти свободна. В выходные по привычке вскакиваю также.
Люк улыбнулся ей, получив из её рук чашку с кофе.
— Это хорошо, значит ты не будешь ходить ночами, и мне не нужно будет о тебе беспокоиться.
Лея отвела взгляд:
— На улице со мной не случалось ничего плохого.
Оба замолчали. Молчание их повисло в воздухе, как домашний запах омлета, как пылинки на шкафу, которые Лея не могла стряхнуть, потому что не доставала до верха.
Потом она сказала:
— У меня сегодня и завтра выходные. Давай я приглашу гостей: соседей, девочек с почты? Отпразднуем твое возвращение, заодно и познакомишься со всеми.
Люка ужаснула мысль о большом количестве незнакомых людей, особенно женщин, которые будут рассматривать его, как на витрине. Он быстро сказал:
— Не сегодня, сегодня хочу побыть только с тобой.
Он оглядел кухню, разыскивая подсказку, но нашёл половинку скорлупки, которая спряталась за чайником от бдительного взгляда Леио. Он взял скорлупу двумя пальцами, отколол кусочек, раскрошил ногтем, и спасительная мысль пришла к нему в голову:
— Как твои соседи и друзья отнесутся к тому, что я вышел из тюрьмы, отсидев за убийство?
У Леи немного побелело лицо, она почти жалобно спросила:
— Может быть, мы об этом не скажем?
Люк покачал головой:
— Не получится. Городок маленький, а я буду искать работу. Я не смогу утаивать этот факт, когда буду наниматься, пойдут слухи, и всё окажется намного хуже, чем если бы мы сказали изначально. Люди окажутся оскорблены тем, что мы принудили их здороваться за руку с убийцей прежде, чем они сами решили это сделать.
Близнецы снова замолчали. Они замолкали синхронно, с самого детства: это было их свойство. Люку иногда казалось, что кто-то ему говорил, что они родились срощенными и их разделили. Это объясняло бы потребность в ней и определенную общность сознания. Иногда он думал, что зря их разделили: срощенными бы им жилось счастливее, даже если бы это была лишь тонкая полоска кожи. Но, по размышлении, эта мысль звучала неправдоподобно — они были слишком здоровыми и крепкими. И он знал ее тело наизусть — на нем не было ни одного шрама, происхождение которого было бы ему неизвестно.
Люк сказал:
— В ванной лампочка перегорела.
— Да, — живо откликнулась Лея, обрадованная возможностью сменить тему — Я ношу с собой фонарик. Не достаю даже со стремянки. А Хан, как назло, уехал позавчера в рейс…
— Кто такой Хан? — спросил Люк, чувствуя, как что-то сжимается в животе, и понимая, что ответ ему не понравится. Лея с легким, неуловимым вызовом, сказала:
— Мой высокий друг.
Люк очень равнодушно пожал плечами. Он чувствовал себя, как человек, который принять немедленные меры, чтобы предотвратить ужасные вещи, но знает в глубине души, что уже ничего не поможет. Лея неожиданно продолжила:
— Есть еще, конечно, Чуи, но он живет вместе с остальными мексиканцами коммуной, и у них там один телефон на целую кучу семей, и к нему вечно подходит какая-нибудь не говорящая по-английски бабушка. Можно было бы съездить на велосипеде, это всего два квартала, но ради лампочки, и не зная, не на рейсе ли он… Проще дождаться Хана. Эти типовые лампочки висят слишком высоко…
Люк сказал:
— Я достану.
— Перевесишь патрон пониже?
— Нет, просто поменяю.
Хотел сказать: «И впредь буду менять», — но почему-то поперхнулся этими словами. Ее высокие друзья, знание об обычаях мексиканской местной коммуны, знакомство с соседями — такие обычные и незначащие вещи — почему-то только сильнее закручивали тугой узел внизу живота.
Хуже стало, когда они вышли на улицу: она кивала направо и налево, останавливалась поговорить с тем или другим, а он нависал над ее плечом угрюмой серой птицей. Когда они остановились перед магазином одежды, Люк замер в нерешительности. Ему казалось странным зайти туда, ему казалось, что все сразу поймут, увидев его обритую голову, его пальто — из которого он вырос за семь лет — откуда он прибыл. Прогонят с позором, осмеют публично. А если даже и пустят, то непременно зайдут в кабинку и увидят его шрамы, и тогда, тогда…
«Я сделал все правильно. Я сделал все, что должен был», — сказал он себе и выдохнул, но нервозность не проходила.
Лея вдруг взяла его за руку. Он наткнулся на ее поддерживающий взгляд, и почувствовал, как плавится, обугливается его шкура: она снова была с ним, как тогда.
Лея сказала:
— Все хорошо.
Они вошли в магазин. Белый пол, покрытый неровной плиткой, компенсировал свою неказистость сверкающей чистотой. На плоских белых вешалках висела одежда, которая даже не старалась казаться лучше, чем есть — и так купят. Окна наполовину были заклеены матовой бумагой, и яркий солнечный свет падал откуда-то сверху, как в храме.
— Миссис Финч, добрый день. Познакомьтесь, это мой брат, Люк Скайуокер, — сказала Лея в десятый раз за это утро, — он вернулся из Калифорнии. Там совсем другой климат. Ему бы подобрать что-то по погоде на первое время…
Миссис Финч — подтянутая, стройная женщина с сухим лицом и резко очерченными губами, начала расспрашивать Люка про размеры, но Лея, словно чувствуя, что разговоры ему в тягость, умело перехватывала все вопросы.
— Какая тебе больше нравится?
Перед ним на прилавке легли две рубашки: светло-голубая из льна и более строгая зелёная, из хлопка. Люк замер. Выбор — то, чего он был лишен очень долгое время. Рубашки не значили ничего, но сама возможность решить — стоила всего. Он хотел продлить это мгновение, оставить вопрос повисеть, дать себе время насладиться тем, что остальные ждут его ответа, но Лея истолковала его молчание по-своему и дипломатично сказала:
— Мы возьмем обе.
Когда они вышли из магазина с пакетами в руках, Лея обернулась к нему и сказала нежно:
— Я понимаю, тяжело. Я помню — эту растерянность, эту свободу. Ничего, ты привыкнешь. Я же привыкла. Я тебе помогу.
Растроганный, Люк шагнул к ней, перебросив пакеты на запястье, притянул к себе, обнял за плечи, сгорбился, уткнулся лицом в ее шею. Утренний золотой свет проходил через них, как если бы они были призраками. Копошились голуби, зеленели травы сквера, прохожие безлюбопытно шли мимо.
Когда он оторвался от нее, она слабо сказала:
— Не делай так больше. Люди смотрят.
Когда Люк вкрутил лампочку в ванной, первое, что он увидел, когда слез с табуретки — стакан для щетки и зубного порошка. В стакане стояли две щетки. На мгновение ему показалось, что вторая щетка — маленькая, но она просто была светлее, и в полумраке сливалась с белым фаянсом раковины.
Он сел на край ванной, попробовал закурить — по тюремной привычке все носил сигареты с собой, в нагрудном кармане, потому что часто расплачивался ими за мелкие услуги или просто курил в свободную минуту. Но сейчас пламя все никак не хотело возгораться, потому что пальцы сделались трепещущими, бумажными на ветру, и он впустую тратил газ зажигалки. Наконец, ему удалось добыть огонь, поднести его ко рту, не опалив щетину и бровь.
Он выкурил три сигареты, в остатках бычков собирая решимость для самого страшного вопроса в его жизни.
Он смыл их всех в унитаз, и глядя на то, как они уплывают, сметенные беспощадной волной, понял, что сильнее и хладнокровнее он не станет, даже если выкурит еще три пачки. Тогда он вышел на кухню и спросил, глядя в ее затылок, как будто стрелял подло, в упор, в спину:
— Есть один вопрос, который я должен задать. Тогда, семь лет назад, ты была…
Она вздрогнула. Не поворачиваясь, отошла на максимальное расстояние, которое только могла предоставить кухня. Лея обняла себя руками, и он видел, как ее пальцы с красными ногтями судорожно вцепились в ее локти. Он выдохнул и спросил:
— Что с ребенком, Лея?
Глава 3
Тогда:
Они лежали на железной пружинной кровати, плотно обтянутой чистой, но старой простыней. Они лежали обнявшись, переплетясь руками и ногами, как два молодых побега. Люк пальцами одной руки задумчиво теребил ее волосы, другая рука лежала на её животе, осторожно поглаживая. Она нервно ерзала и дышала тяжело, как человек, который не может и не хочет избавиться от страшных мыслей и усилием воли заставляет себя остаться с ними. Она взглянула на брата: провела пальцами по его лицу, коснулась пушистых бровей, щелкнула по носу.
— Нам нужно бежать, — сказала она, и Люк тоже напрягся.
— Но если мир таков, как он говорит…
— А мы не пойдём к людям. Пойдем в леса, будем жить в хижине только вдвоём.
Люк возразил:
— Но, если ты умрёшь родами, как мама?
Лея посмотрела на него с тоской и сказала:
— Если мы не сбежим, он убьет тебя. Он обязательно убьет тебя. Я останусь одна. Я не хочу оставаться одна. Я не могу потерять тебя. Он убьет тебя за то, что сделала я… Нет, Люк. Нет.
— Не ты сделала, мы оба.
— Я не жалею. Я люблю тебя.
Может быть, он убьет не только Люка. Может быть, он убьет и её, и ребёнка. В тёмные минуты, которые не то чтобы сильно отличались от светлых, он причинял ей зло. Он бил её, швырял в нее предметы. Никогда так целенаправленно, как в Люка, никогда так вдумчиво и садистски, как с Люком, но он мог это сделать. Люк почувствовал, как из глубин поднимается что-то могучее, упрямое и темное. Что-то, чего он не знал очень долгое время. Люк мучительно вспоминал название: злость — не то, горечь — не то… Гнев. Это был гнев.
— Он прав, мужчины действительно разрушают все, к чему прикасаются. Они не могут защитить то, что любят. Так и со мной. Я тоже такой.
Лея отчаянно затрясла головой:
— Нет. Не слушай его. Это не случится с тобой. Ты не разрушаешь, ты защищаешь. Сколько раз ты меня спасал!
Он взял ее за руку, отдернул рукав, обнажая россыпь разноцветных синяков:
— Недостаточно.
Лея, вместо ответа, притянула его к себе и нежно поцеловала в губы.
И он снова почувствовал гнев: он не даст больше Вейдеру мучить ее. Или ребёнка. Он станет сильным, сильнее Вейдера, сильнее всех на свете. Он убьёт каждого, кто только будет угрожать его сестре или ребёнку. Он посмотрел на ее лицо: на темные печальные глаза, на белый овал лица, и сердце его задрожало от нежности и любви. Словно почувствовав его мысли, Лея потерлась щекой о его плечо, закрыла глаза, будто показывая величайшее доверие.
— Как думаешь, он все чувствует?
— Не знаю. Он же ещё такой маленький… Наверно, нет.
Иначе было бы слишком страшно. Лучше бы он и дальше оставался маленьким и неприметным, затерянным в облаках ее тела, защищенным ею со всех сторон, как самой лучшей броней. Этот мир слишком страшен, чтобы жить — в нем бродит ненасытное зло. Останься в утробе, малыш, где никто не сможет мучить тебя.
Обессилившая от своих мыслей, Лея закрыла глаза и прильнула ближе к брату. Ее мутило и голова кружилась, но его холодные руки, лежащие на ее лбу, делали ее состояние во всяком случае выносимым.
Они — два потерянных ребенка — лежали в полной темноте, согреваемые объятиями друг друга.

Сейчас:
— Что с ребенком, Лея?
Мир рассыпался на части и стал пропадать, выцветать, как старое письмо, оставив, как драгоценную подпись в конце, только лишь их двоих. Осыпался и пропал запах пищи, белый пар над кофе, звуки улицы, проникающие через открытую форточку, негромкое бормотание телевизора в гостиной. Пропало тепло кружки под руками, пол и потолок поменялись местами, осталось только лицо Леи, которое заполнило собой все измерения, все пространство и время.
— Ты видишь кроватку? Игрушки? Слышишь детский смех?
Люку было трудно дышать, но он сказал:
— Что с ним, Лея?
Она сказала тихо:
— Его нет.
Ее уклончивость действовала на него, как в прежние времена действовала только агрессия других мужчин: кровавые круги расстилались по краям обзора, туманили зрение, сходились и расходились, темнели и алели. Она была в центре, пока еще не затронутом огненным колесом его ярости, но Люку все труднее было удерживать его от разрастания.
Он вспомнил: кровь отца, которая все никак не хочет вымываться из-под ногтей; тепло ее еще плоского живота под ладонями; надежда и трепет.
Он страшно спросил, чувствуя себя на последнем пределе:
— Что случилось?
Она молчала так, как молчат только мертвые.
— Ответь мне! — закричал он, — Я имею право знать!
— Люк…
— Он настолько же мой, насколько твой! Ты не можешь держать меня в неведении, у тебя нет такого права!
— Я отдала его. В приёмную семью.
У него сделалось слишком страшное лицо, и она резко бросила:
— Мне было шестнадцать! Я не смогла бы выжить с ним…
— Значит тебе нужно было умереть вместе с ним, но не отдавать его!
Он понял, что говорит неправильную вещь уже в тот момент, когда слова сорвались с его языка, он в ужасе ударил себя по губам, понимая, что сейчас сказал.
Лея прожгла его взглядом черных глаз, а потом выбежала из кухни. Она схватила сумку и ключи у порога, и выбежала из дома — дерганной прыгающей походкой — куда угодно, прочь, навсегда, не видеть, не слышать, не дать его словам проникнуть в ее разум. Она их еще не осознала, но знала, что скоро они дойдут до души, отравят ее разум, сердце, тело. Что нет никакой возможности остановить этот яд от распространения, что нет никаких сил удержать его.
Что Люк был чудовищно жесток, а она — чудовищно виновна.
Он побежал за ней, свалил по дороге журнальный столик, зашипел от боли, ударившись ногой, но не остановился. Он выбежал на улицу и повертел головой: зрение у него вдруг стало туннельным, и он не сразу ее заметил. Несколько секунд он просто стоял, мотая головой туда и сюда, во всех, даже бессмысленных направлениях: посмотрел на небо и на землю, обратно на дом. Но потом он заметил ее родную фигуру, стремительно удаляющуюся по улице вниз, и бросился, очертя голову, за ней.
Он догнал ее, схватил кончиками пальцев за плечи, неловко развернул к себе (она даже не сопротивлялась) и умоляюще сказал:
— Прости меня, я сказал ужасную вещь. Конечно, ты не могла поступить иначе. Меня не было рядом. Прости, я не должен был говорить этого. Это неправда.
— Нет, — очень спокойно ответила она, глядя ему прямо в глаза, — Нет, ты был прав. Мне нужно было умереть вместе с ним. Мне нужно было умереть родами. Как наша мать.
— Лея, пожалуйста, не говори таких вещей.
— Оставь меня. Уйди.
— Лея…
— Оставь, я сказала!
Она вырвалась, и пошла прочь, чувствуя, что если он еще раз к ней прикоснется или скажет хоть слово, она, если сможет, его просто убьет.
Что-то внутри пылало и горело, требовало разжечь пожар сильнее или погасить его: исторгнуть из груди, физической болью забить духовную. Немного оправившись от удара, она начала замечать дорогу, которой шла. Органы чувств начали возвращаться, и Лея вошла в первый попавшийся дорожный бар — дешевый, темный, полуподвальный, с липкими, не протертыми от разлитого пива столами, с шумными и очень молодыми компаниями. Она прошла прямо к барной стойке, твёрдо, очень прямо и сказала:
— Виски. Двойной.
Бармен поглядел в ее темные глаза, смял неловко купюру и сунул в карман — она вдвое превосходила цену — и, не говоря ни слова, подал ей стакан с масляной жидкостью. Первый глоток Лея сделала прямо у стойки. Не закашлялась. Поднесла к глазам стакан, покатала виски по кругу, любуясь остающимся обводом на стенках.
Дышать было по-прежнему больно. Она выбрала самый дальний столик, села за него, прижгла взглядом стакан. Ей хотелось поджечь жидкость, выпить пылающий огонь, выжечь все внутри, чтобы не болело. Когда все сгорело – нечему болеть.
Интересно — ему больно тоже?
Пусть страдает. Пусть мучается. Пусть терзается. Он заслужил.
Лея опрокинула ещё один глоток. Должно было стать легче, но легче не становилось. Она не чувствовала никакого вкуса, только огненный шторм, прошедшийся по языку, гортани и желудку.
Она подняла глаза, огляделась. Улыбнулась молодому темнокожему парню за соседним столиком. Ей нравились завитки его кудрей, глаза, похожие на деготь, ей нравилось, что он не схож с ее кипельно-белым братом, ей хотелось узнать — во всех ли местах он такой темный. Ей хотелось, чтобы он подсел к ней, взял ее за руку, долго слушал, а потом поцеловал — терпко, табачно, крепко. Тогда она сама возьмёт его за руку, сама положит его смуглую руку себе на бедро, а когда он, в испарине от ее согласия, дрожа от радости и возбуждения, предложит ей подняться наверх, она не только не скажет «нет», она поощрит его поцелуем.
Стоп. Она хочет отомстить Люку — целуясь с другим мужчиной? Последовав за ним в тесную каморку мотеля наверху? Своему брату?
Нет. Она перепутала. У неё есть Хан. Ее нагловатый, пылкий, но преданный Хан, который точно не заслужил такой измены.
Люк виноват, но он не ее парень, он ее брат. Брат, который помог ей выжить в аду. Брат, чья любовь и защита превратились в неправильную связь. Брат, который убил ее отца. Брат, который подло ударил по самому больному. Под дых.
Пусть мучается.
Ей захотелось позвонить Хану, но было некуда: он, как всегда, на рейсе, адресов нет, телефонов тоже… Может, у него даже есть девушки в городах, которые он часто проезжает, наверняка они были, остались ли теперь, когда она появилась в его жизни… Странно, это ее не трогало.
Она вздрогнула. Ей стало холодно.
Все преследовал виноватый взгляд Люка, его несуразное пальто, его бритая голова, его дрожащие губы, умоляющее лицо…
Не такой, совсем не такой вид у него был, когда она в последний раз видела его — когда его уводили из здания суда, чтобы увести в колонию для несовершеннолетних. У него был взгляд как у человека, который исполнил свой долг и готов принять любые последствия. Он стоял, держась скованными руками за прутья, и улыбался ей — ей одной — из-за решетки. Она хотела говорить в его защиту, и пыталась, пыталась целых десять минут, отчаянно хватаясь за кафедру, как за доску в шторм, но слезы текли сами собой, из горла неостановимо рвались хрипы, ее увели — она отбивалась — сделали успокаивающий укол. Она слышала голоса медсестер, сочувственное воркование врача «Деточка, милая» — от этого становилось еще страшнее. Ее держали вдвоем, пока кололи, потому что она испугалась иглы и шприца. Сквозь дымку седативного лекарства она слышала лживые, кошмарные слова про ее брата: что он чудовище, что он убил отца, что он изнасиловал ее — этого не было! не было! он не чудовище! — пыталась объяснить, но ее опять не слушали.
Лея умолила вернуть ее в зал суда, но попала на самый конец, услышала только приговор.
И увидела его любящие глаза. Он снова улыбнулся ей краешком губ, и лицо у него было светлое.
Это она жила семь лет нормально, а он вчера вернулся из тюрьмы. Она семь лет жила, лелеемая добрыми, хоть и чужими, людьми, а для него ад закончился позавчера. Вчера. Сегодня. Не кончался никогда.
Он огненный и саморазрушительный, как зарождающаяся звезда, он тянет на себя даже ту вину, которая не его, так что он сделает сейчас, зная, что смертельно ранил самого близкого человека? Единственного любимого человека?
Она вернется домой, а он повесился.
Как ей потом жить?
Она тихо вошла в прихожую, стараясь не шуметь. Сняла туфли, осталась в белых носках. Повесила сумку на крючок, но ключи чуть звякнули, когда коснулись столика.
Люк, сидящий до этого в гулкой, ослепительной тишине, напряженно прислушивающийся к каждому скрипу и шороху, с шумом вскочил со стула. Она вернулась, и он может оправдаться.
Он стояли в коридоре, не зажигая света, но Лея все равно видела: его нижняя губа дрожала, лицо покраснело, и она исполнилась ужаса.
— Люк…
— Лея…
— Я не злюсь… Я понимаю. Мне тоже было больно. Но это случилось для меня — давно. Для тебя — сегодня.
— Ты не злишься? Ты злишься. Ударь меня.
— Что?!
— Ударь. Тебе так будет легче простить меня.
— Ты что, с ума сошел?
— Пожалуйста. Мне так будет легче простить самого себя. Я так смогу простить себя.
Ей казалось, что, раня его, она ранит саму себя. Но Лея подняла руку и легонько хлопнула его по щеке. Другой рукой схватилась за свою щеку — ей показалось, что кто-то дал ей пощечину. Ей показалось, что она чувствует ожог, что ее кожа покраснела. Испугавшись, она обвиняюще-саркастично спросила:
— Доволен? Идем теперь на кухню.
Люк послушно последовал за ней.
Кухня встретила раздраем: остывшим кофе, брошенными приборами, как будто они вышли покурить на пару минут, а не выворачивали наизнанку души друг перед другом, не вырезали скальпелем друг у друга сердца, не вкладывали в отверстую грудь всякий хлам, не зашивали аккуратным хирургическим швом, не пытались сделать вид, что так хорошо, и они смогут так жить.
Как нормальные люди. Только с дрянью, зашитой в груди. Люк сел на свой стул — с каких пор у него появился свой стул? он тут два дня! — и сказал несмело:
— Я подумал… Может быть, они отдадут его? Отдадут мне. Я его отец.
— Я сказала, что Вейдер его отец.
Люк содрогнулся. Представил, как это чудовище мнет её белые плечи, как нависает над ней… Испуганный, беспомощный взгляд Леи… В нем зашевелился кромешный ужас, что он не смог ее защитить — опять — ужас, что она не говорила ему — а он был преступно слеп — и что Вейдер…
— Зачем? Он?
— Нет! Нет. Он ничего не сделал.
Лея задавила голос, кричащий, что Вейдер был близок, близок, слишком близок — с тех пор, как ей исполнилось пятнадцать лет, он иногда называл ее чужим именем, именем ее матери, говорил, что она хорошая жена, гладил по волосам и шее…
— Но зачем? — пробормотал Люк, сбитый с толку.
— Чтобы они не добавляли тебе срока! Не судили еще и за это! Я и не знала, что по согласию это законно… Вейдер всегда говорил, что это непростительно! Я так боялась за тебя…
Она не знала, что ее слова только все усугубили.
Люка спросили: «Вы вступали в половые сношения со своей сестрой?». Он задохнулся, чувствуя волну отвращения от этих суровых, сильных мужчин, обладающих властью. Сама формулировка вопроса казалась ему отвратительной, оскорбительной для той обволакивающей нежности, для той трогательной, головокружительной близости, для того чувства финального и очень чистого единения, которое он разделял с Леей.
Люк сидел на перекрестье их взглядов, как будто уже на расстреле. Они расположились полукругом, спокойно, вальяжно — все они были намного старше него, крупнее, они походили на хорошо организованную свору охотничьих псов. А у него были длинные золотые волосы до плеч, синяя рубашка, болтающаяся на худых мальчишеских плечах, и вера в то, что он сделал все то, что должен был.
«Я вынужден повторить вопрос», — они смотрели на него, как сам он когда-то смотрел на Вейдера. «Да», — сказал он твердо, зная про себя, что это и была любовь, как бы ее ни называли сейчас все остальные люди в мире. Что только это и было — любовью.
Мужчины переглянулись между собой, сделали пометки в тошнотворно-одинаковых папках, пытались расспросить о подробностях, но Люк больше ничего не сказал. Он вздрогнул лишь на одном вопросе: «Вы насиловали ее?», но даже тогда ничего не ответил.
Тогда мужчины записали себе в кожаные блокноты, что словам девочки нельзя верить. И не верили Лее даже тогда, когда она, охрипнув и оглохнув, как проклятая пророчица, все выкрикивала и выкрикивала сверкающую правду.
— Это мальчик? Он здоров?
— Да, мальчик. Крупный, крепкий. Насколько я знаю, здоровый.
— Лея…
— По документам ты ему дядя. Дядя, который вышел из тюрьмы за убийство.
Люк склонил голову ниже плеч.
Лея выдохнула, в первый раз за вечер, села напротив. Сказала кротко:
— Это к лучшему. Какие из нас родители? Как ты это вообще себе представлял? Нам бы самим справится с собой. Найти равновесие. Мы же больные, Люк. Мы раненные звери. Мы как безногие, и нам нужно долго и трудно учиться ходить на костылях. Это не то, что нужно детям. Он не знает, что появился на свет в результате инцеста. Он счастливо живет в приемной семье, которая наверняка его любит. Отпусти его, Люк.
Ему не становилось лучше, он тяжело, раскатисто дышал, как вулкан, под пепельной шапкой которого дремлет кипящая лава. Она подошла к нему и положила руку ему на плечо. Он поднял глаза на нее и спросил тихо:
— Чьи глаза у него, Лея?
— Не нужно. Не думай об этом.
— Твои глаза? Я хотел бы, чтобы у него были твои глаза.
— Пожалуйста, Люк. Отпусти его.
Он замолчал, а Лея вспоминала мысль, которая, как проклятье, нависла над ней, когда ей принесли вымытого, красного, сморщенного ребенка.
Она подумала тогда, что он похож на Вейдера.
Глава 4
Люк спросил у сестры, не нужны ли на почте грузчики. Лея обещала узнать, и действительно пришла к заведующей отделением — вернее, к ее двери. Некоторое время она стояла в узком коридоре, разглядывая ручку — латунную, всю в разводах от пальцев. Ей представлялось, как они с Люком, выпив кофе, едут на велосипедах на работу. Как они вместе ходят на ланч, молчат за едой — потому что слишком хорошо понимают друг друга. Как он заходит к ней в перерыве, а другие почтальонши подтрунивают над ним: потому что он молод, и у него — несмотря ни на что — светлая улыбка. Когда он уходит, обласканный и слегка смущенный женским вниманием, не пообщавшись толком с ней, то девушки начинают расспрашивать ее о нем. В отделе вечно находится одно или два разбитых сердца, а Люк так добр и внимателен даже к чужим людям… В нем видно за версту рыцарское отношение к женщинам, что среди людей этого круга встречается нечасто.
А потом они узнают, за что он провёл семь лет в тюрьме.
Потому что этого не утаить.
Лея погладила латунную ручку, пытаясь стереть следы. Вечером сказала Люку, что вакансий пока нет — но возможно будут, надо проверить через пару недель.
Он поверил. Она обещала себе, что рано или поздно, если он ничего не найдёт, то она приведёт его на почту. Ей было стыдно, но хотелось жизни, отдельной от него. Ей претило лгать — она прежде никогда ему не лгала.
Но ей было страшно представлять, как он аккуратно раскладывает им еду с собой и прячет в свой рюкзак. Как ждёт ее у дверей почты.
Ей казалось, что просто нечем будет дышать.
В дверь постучали.
Люк, всегда, когда оставался дома один, без нее, ходил бесшумно и не включал никакие приборы, радио, телевизор, — даже воду поворачивал не на полную мощность. Он ходил, прислушиваясь, жил незаметно: почему-то тишина давила на него, и в тоже время он боялся ее нарушать. Дом холодел без Леи и начинал цвести в ее присутствии.
Это она. Ключи опять забыла.
Он подошел к двери, распахнул её, и даже не глядя на то, кто за нею, начал говорить:
— Лея, я…
За порогом стоял высокий, растрёпанный молодой парень в несвежей одежде и с обаятельной ухмылкой, которая сменилась не менее обаятельной гримасой удивления. Казалось, что он немного актёр, который как способ взаимодействия с миром выбрал вечное заигрывание.
— Ты кто такой?
— Нет, это ты кто такой?
Они застыли глядя друг на друга, и никто не хотел отвечать первым. Потом Хан расслабленно сказал:
— Без обид, парень, но может быть ты мне объяснишь, что ты делаешь в доме моей девушки? И почему ты, черт возьми, спрашиваешь у меня, кто я такой?
— Твоей девушки? — Медленно сказал Люк, пытаюсь что-то сделать с этой мыслью, которая застряла у него на корне языка, и он не мог не сглотнуть её, не выблевать. Он не хотел верить, но память услужливо подсовывала ему доказательства: Лия говорила о высоком другие, он видел мужскую рубашку, и зубную щётку, даже, кажется, зубную щётку… Он все равно несколько глупо уточнил, надеясь, что высокий парень просто ошибся домом:
— Лея — твоя девушка?
Парень кивнул:
— Да. А вот ты кто такой?
— Я… — И правда, кто он ей? Её первый любовник? Её рыцарь, который раз за разом претерпевает неудачу в стремлении ее защитить? Отец её ребёнка? Ужас, который не оставляет её даже после долгих лет нормальной жизни?
— Я её брат.
Хан не понял, он просто не мог понять, что в простом коротком слове, обозначающие родственные отношения, Люк сказал так много. Брат — было всё. Он — её всё.
Хан, расслабившись, вспомнил что Лея говорила о том, что у неё есть брат, который отбывает срок в тюрьме. Хан почти забыл этот факт, как незначимый, несущественный, существующий за пределами его мира, не оказывающий ни на что никакого влияния. И вдруг эта факт биографии возник на ее пороге, синеглазый, бритый, молодой.
— А, слышал. Лиам, верно?
— Люк.
Хан протянул ему руку, и Люк ее пожал.
— Забавные у вас имена. Редкие. А я — Хан.
— Созвучные, — сказал Люк, внимательно разглядывая нежданного гостя — в попытке его разгадать, понять, чего в нем, из всех мужчин, такого, что… Хан же поглядел на него светло, и счел, что все ритуалы вежливости на сегодня он уже выполнил:
— Ну ладно, бывай. Передавай привет сестричке!
Лея вошла, сдувая прядку со лба, открыв незапертую дверь плечом, потому что руки у нее были заняты. Люк — словно караулил ее у двери — перехватил пакеты с продуктами, и отнес их на кухню, пока она снимала куртку и ботинки. Она размяла затекшие запястья и дежурно спросила:
— Как твои дела?
— Я нашёл работу. Грузчиком в Подкове, — сказал Люк с кухни, а потом вышел в коридор.
— Правда? Здорово.
Она действительно обрадовалась, хоть и неглубоко: мыслями была размазана в пространстве и времени, и не хотела собираться обратно.
Лея встала у зеркала, развязала шейный платок, повесила его к остальным, сняла часы, серьги. Она наблюдала за зазеркальной Леей, а Люк наблюдал за нею. Он всегда любил смотреть, как она надевает на себя что-то и как снимает: во всем штате Мэн не было мальчика, который бы в детстве более послушно играл в публику на показе мод. Ему казалось, что она с каждым новым украшением, с другой лентой в волосах превращается в совершенно новую Лею, как воплощение тысячеликой богини.
Может быть, именно поэтому, в итоге он больше всего полюбил ее полностью обнаженное тело: как вершину света, как абсолют красоты.
Он отряхнул эти мысли, как собаки отряхивают воду, и спросил:
— Как твои дела? Зачем ты вообще притащила эти огромные пакеты? Я бы сходил в магазин.
— Я не привыкла.
— Привыкай, — грубовато сказал он. Потом задал вопрос, не удержавшись:
— А твой парень тебе не носит пакетов?
— Мой парень?
— Хан. Он заходил.
— Хан?! Он вернулся? Так что ты молчишь!
Он с болезненным чувством смотрел, как она метнулась в свою комнату, и через несколько минут вышла в платье — чёрном, с узором из золотых цветов, танцующих вокруг ее колен — как она перезаколола волосы в высокую косу и обернула ее вокруг головы. Коснулась губ помадой, схватила сумку и снова начала выволакивать велосипед.
Люк спросил:
— Куда ты на ночь глядя? Там хоть есть телефон? Позвони, я встречу тебя!
— Телефон есть… Ой, да зачем меня встречать! Хан проводит. Или сразу на работу поеду утром…
И слушая ее счастливый щебет, Люк все мрачнел и мрачнел.
Он лег на свой диван, думая о том, что в первый раз в жизни спит в доме совсем один. Сон не шёл. Он прошёлся по дому, заглянул в ее спальню. Сел за туалетный столик, слегка изменил угол наклона, чтобы видеть своё осунувшееся лицо. Огляделся вокруг: и вдруг удивился, как помещается на ее кровати Хан — она ведь довольно короткая.
Мысль о Хане была болезненной.
Лея обрадовалась ему.
Ты знаешь, что он будет с ней делать.
Она прямо светилась, когда выволакивала велосипед.
Она раскинется под ним, и он… ее тело, которое Люк знал как своё, ее душа, которая была его душой — его сестра во власти чужого человека…
Ей это нравится. Она сама пошла.
А ей это всегда нравилось. Помнишь, как они дрожала в твоих руках?
Бодрый стук застал Хана за откупориванием второй бутылки пива — оно лежало в холодильнике, и, хотя за время его отсутствия с ним не должно было ничего произойти, вкус был плоский, немного прогорклый, и первую бутылку он осилил только из фирменного соловского упрямства.
Он распахнул дверь, и Лея, почти подпрыгнув, повисла у него на шее, впечатавшись огненным поцелуем.
Они чаще встречались у Леи, потому что ее раздражал вечный бардак, который самозарождался вокруг него, а его квартирную хозяйку раздражали девицы, шастающие к нему домой. Хотя Лея ей нравилась, но все равно не заслуживала одобрения — по меркам хозяйки, девушка, ночующая у мужчины, который не являлся ее мужем, на приличное общество рассчитывать не могла. Лея про себя называла ее мамонтом.
Хан подхватил ее под бёдра, поволок в свою нору, сдергивая по пути предметы одежды и сосредоточенно пыхтя «Принцесса!».
Они опрокинули нагромождение автомобильных журналов, прижатых гаечным ключом, и журналы разбежались по полу, как стая воробьев.
Хан поскользнулся на мягком глянце, чертыхнулся, но не упал, только крепче прижал к себе Лею.
Когда она запрокинула голову, увидела все те же трещины на потолке, что и всегда, и загадала, что если когда-нибудь Хан их заделает, то у них все будет хорошо, они поженятся, она будет в золотом платье, и она никогда не вспомнит свою жизнь до семнадцати лет…
А после, его умелые руки, большое крепкое тело закрыли от нее потолок, он куда-то уплыл и стал совершенно незначимым.
Хан закурил: он всегда соловел после секса, а она, как он видел, после его долгого отсутствия, хотела поговорить. Сигарета была некоторой гарантией, что он не заснёт и не получит тумака под ребра от Леи, но она неожиданно выхватила у него вторую — это случалось нечасто. Ей не нравилось вымывать запах из длинных волос. Хан спросил как-то — почему не обрежет. Она ответила, что хочет заплетать их, потому что в детстве всегда носила их распущенными, и что это было не ее решением. А теперь она выросла и хочет делать по-своему.
Она прикурила у него — она всегда на мгновение глядела ему в глаза перед тем, как сделать затяжку, которая подпалит ее сигарету — он находил это невероятно эротичным.
— Ты познакомился с моим братом?
— Да. Он такой… подозрительный. Защищает. Хотя, на месте братца я бы тоже так себя вел. Ты такая принцесса у меня — того и гляди украдут.
— Он отсидел в тюрьме, ты же знаешь.
— Ну и что? Чуи тоже сидел.
— За убийство?
— Да. Там была драка стенка на стенку. Пьяная. Кто-то достал нож — и дело закончилось трупом. А он просто сел рядом, вытащил нож, пытался остановить кровь. Но его замели. Мексиканец, да еще такой звероподобный — чего тут разбираться! С тех пор он не верит в правосудие…
— Немудрено, — пробормотала Лея, и завертела головой, ища, куда бы стряхнуть пепел. Хан подставил ей стакан с прогорклым пивом, и она отточенным двойным ударом низвергла пепел с тлеющего конца сигареты.
— А твой брат, что, тоже за драку?
— Нет. Он убил человека, который был нашим отцом.
Весь сон слетел с Хана, и тот поежился:
— Ничего себе. Тоже по пьяни?
— Трезвее не бывает.
Хан помолчал, потом спросил:
— Что за человек был отец?
Лея ответила, не чувствуя, как огонь догоревшей сигареты обжигает ее пальцы:
— Мудак. Конченый. Отбитый на всю голову ветеран Вьетнама. Надышался газом, потом обгорел в напалме. Урод. Жалко только, что Люк не убил его раньше.
— Лея, подойди сюда.
Она замерла на мгновение — чисто инстинктивно, но этого ему хватило — вызвала вспышку ярости:
— Немедленно!
Она приблизилась, чувствуя, как в дверях замер Люк, натянулся, как струна, готовый сделать хоть что-нибудь. Лея глядела на подбородок Вейдера — это было безопаснее всего, потому что полностью опущенный взгляд вызывал в нем гнев «почему ты на меня не смотришь?!», ровно, как и взгляд прямо в глаза «что ты так нахально пялишься?!»
Он пребывал в хорошем расположении духа, может быть, сегодня обойдется. Ведь может им повезти хоть раз?
Он за руку притянул ее к себе — Лея почувствовала, как в дверях опять зашевелился брат. Вейдер задрал ее рукава, с удивлением и яростью обнаружив следы от собственных же ударов.
— Подними юбку.
Она подчинилась, чувствуя спиной, как дрожит Люк, готовый броситься под удар вместо нее, и прохладная ткань скользнула вверх. Она остановила юбку, доходящую до пола, чуть выше колен. К счастью, ему хватило этого.
Ноги у нее тоже были в следах ударов, хотя и не так, как руки. Вейдер откинулся на спинку стула и сказал с мрачным удовольствием:
— Ах ты мразь.
Лея знала, слишком хорошо знала, что не поможет, что она сделает только хуже, но не могла не сказать:
— Вейдер! Это не он, он ничего не делал!
Он не поверил ей. Она говорила только правду, но нет. Никто не верил ей, как прорицательнице Кассандре. Той, которую герой в сверкающих доспехах, благородный, богоподобный Ахиллес изнасиловал прямо на алтаре ее богини…
— Молчи. Иди прочь, лгунья. Люк, ко мне.
Он подошел, а она не могла отойти — это казалось ей предательством и трусостью — хотя она знала, что ему намного легче защищать одного только себя.
— Что ты делал со своей сестрой, ублюдок? Откуда у нее эти синяки?
Когда звуки ударов и сдавленных хрипов затихли и тяжелые шаги Вейдера рассказали о том, что он ушел, Лея, змеей вившаяся вокруг подвала, сразу проскользнула внутрь. Она нашла Люка на полу, он лежал на животе, без рубашки, и медленно открывал и закрывал мутные глаза. У него была окровавлена вся спина, словно его щедро полили краской. Лея подошла к нему — он ее узнал, тяжело оперся о ее плечи, и они, шатаясь, пошли наверх, как диковинное, спаянное воедино чудовище. Они миновали пролет, Люк совсем зашатался, и Лея опустила его отдохнуть, посидеть на ступеньке. Она некоторое время стояла, тяжело дыша, опираясь на перила, но внизу послышались неторопливые шаги, и Лея метнулась к брату, вытянула его вверх и на адреналине почти понесла его на руках.

Лея втолкнула его в комнату, затащила на кровать, помогла лечь так, чтобы ничто не касалось больной спины. Он смотрел на нее расфокусированным взглядом.
— Потерпи, милый, я сейчас вернусь, — прошептала она, склонившись к нему.
Она выбежала на лестницу с тряпкой, быстро затерла темнеющие на глазах пятна крови — если Вейдер увидит их, то это спровоцирует новую вспышку агрессии, и им несдобровать.
Она вернулась к Люку. Бережно, чистой тряпкой прошлась по его спине, промакивая кровь.
— Лея…
— Тише… Все хорошо. Он завалился спать. Дрыхнуть будет до завтра. Я ему в чай коньяка плеснула. Сам дурак, раз не почуял.
— Лея, твои синяки…
— Что с ними? — легко спросила она.
— Это… я?
— Да ты что! Не смей его слушать. Не смей, слышишь, — она вцепилась ногтями в его щеку, — Ты никогда и ничего не делал плохого. Ты ничего не сделаешь. Я тебя знаю.
— Он так убедительно говорит… Я начинаю верить. Мне начинает казаться, что это следы моих рук…
— Ты — лучший из всех людей, которых я только знаю.
— Как будто ты многих знаешь, — сказал он, но слабо улыбнулся.
О, она знала троих, и точно знала, что если обычные люди балансируют между ней и Вейдером, то Люк стоит на недосягаемой нравственной высоте.
— Помнишь, как к нам птица залетела? Помнишь, как ты всю ночь ее ловил, помнишь, как ты отказался ее сбивать шапкой, потому что боялся ей повредить что-нибудь? Помнишь, как ты ее выпустил? Вот кто ты на самом деле. Не верь ему. Верь мне. Я нормальная, Люк, и я знаю, что все зло — дело его и только его рук.
— Что бы я делал без тебя, сестра…
— Получал бы в разы меньше ударов?
Они улыбнулись друг другу, и Лея коснулась его лба своими губами.
Глава 5
— Мы могли бы продолжать встречаться у тебя, — сказал Хан, глядя на то, как она расчесывает волосы, которым требовалось очень много времени, чтобы высохнуть. Фена у него не было, он не видел смысла его заводить даже для Леи. Она закусила губу и резким, привычным движением скрутила прядь.
— Мне кажется, это нервировало бы Люка, — сказала она мягко. Каждый раз, когда она уходила к Хану, у брата делалось очень сложное, недоброе лицо, хотя в остальном у них были нормальные отношения. Однажды она вернулась домой позже обычного — ее выбрали в профсоюзные работники, и она была на собрании. Подходя к дому, она услышала через открытую форточку, как они оживленно и дружелюбно разговаривали о спорте, и Хан сказал:
— Мы играем в регби по воскресеньям, в центральном парке — приходи, малыш. Я дам тебе форму на первое время.
Лея постояла некоторое время под окном, вспоминая, как внимательно и вдумчиво пыталась их состыковывать, но вдруг оказалось, что они прекрасно ладят без неё, а ее присутствие только все усложняет.
Недавно они чинили телевизор: Хан, как обычно, ленился, но глядя на то, как Люк хлопочет вокруг проводов, тоже заразился его энтузиазмом. Пришлось забираться на крышу к антенне, Люк сосредоточенно и молча лез, Хан держал веревку и матерился, как заправский моряк. Солнце высветляло их головы, целовало лица и открытые участки тел — Хан разделся по пояс, но Люк никогда не закатывал рукава.
Лея стояла в тени крыльца, вынеся им на подносе два стакана пива, и чувствовала, как пахнут августовские яблоки — покоем и счастьем. Ей казалось, что все хорошо, что все нормально, что Люк рано или поздно обретет свое собственное равновесие, перестанет опираться и оглядываться на нее, перестанет так тяжело, так исступленно, так удушающе-страшно любить ее, найдет себе девушку, и они будут жить… Не в соседних домах — это слишком — но на соседних улицах. Что их дети будут играть друг с другом — у Леи будет девочка, конечно. Маленькая, боевая, с каштановыми волосами, которые Лея будет заплетать в три хвостика, у Люка… Тоже кто-нибудь будет.
Его шрамы побелеют, и когда он загорит, они сделаются совсем незаметными. Они будут иногда вместе отряхивать яблони, варить джем под веселые песни из радиоприемника, ходить в гости на Рождество друг к другу, звонить друг другу раз в неделю и ссориться. Но Хан — будет тем, с кем она будет просыпаться по утрам. Хан. Ландо. По. Кто угодно, но не Люк. Только не Люк.
Ее парень и брат слезали с крыши добрыми друзьями, но все опять рассыпалось, стоило ей подойти к ним. Как только они взяли по стакану, Хан резким движением, сбоку притянул ее к себе, и поцеловал в висок — как благодарность за этот светлый день, за то, что она стоит в простом белом платье под осыпающимися яблонями, за то, что она принесла холодное, сверкающее на солнце золотом, пиво. За то, что она — его.
Лея не осмелилась посмотреть на брата.
Ей казалось, что там, где он стоит, зашевелилось что-то темное, страшное, многорукое.
Сегодняшний Хан зевнул и сказал:
— Прости, конечно, но какая разница, что мы делаем за закрытой дверью? Это его не касается.
— Он очень защищающий. С раннего детства только и делает, что выискивает угрозы для меня.
Это прозвучало параноидально, потому что Лея умолчала о том, что все угрозы ее детства были более чем реальны.
— Ну так объясни ему. Ты даже напрягаешься, когда я тебя при нем целую. Это ненормально. Мне не пятнадцать лет, чтобы прятаться от родителей…
— Ох, Соло, не вешай мне лапшу на уши: как будто в пятнадцать тебя это останавливало!
Хан довольно оскалился.
В один день, когда она мыла зелень на кухне, чья-то тень накрыла ее, чьи-то большие руки обняли за плечи. И словно стерлись все эти семь лет, вся эта нормальная жизнь, все потом и кровью выстроенные границы. Ее ужас, ее отец, вернулся к ней, подкрался незаметно, сзади, и она была полностью в его власти: и она знала, что будет дальше.
Дальше будет боль.
И кровь.
И снова, по кругу, боль — без конца!

Она, задыхаясь, забилась в этих страшных руках, чувствуя животный ужас, страх кролика перед удавом, страх быка, которого будут забивать, но руки почему-то разжались, она повернулась и увидела встревоженного Люка, который что-то говорил ей.
— Не трогай меня! — закричала она, умирая от ужаса, — Никак! Никогда! Не прикасайся ко мне!
Она выбежала, всхлипывая, с кухни, и, прежде чем упасть на кровать, защелкнула задвижку своей комнаты.
Прошла неделя. Они общались друг с другом вежливо, но несколько отстранённо: Лея думала, что ей будет от этого легче, но почему-то было больно. Неужели она так привыкла пользоваться его теплом, поддержкой, любовью, не давая ничего взамен? Чужое обожание — мощный наркотик…
Воскресным вечером, когда по телевизору шёл матч по регби, а Лея сидела, свернувшись в кресле, и читала книгу по политологии, он спросил у неё, не отводя глаз от экрана — примерно так, как просил бы передать соль:
— Почему Хану можно тебя касаться, а мне нельзя?
— Он мой парень, а ты мой брат.
Он повернул голову к ней, и она увидела, какие у него широкие зрачки — в гостиной было полутемно. Он сверлил ее этими огромными зрачками, и ей казалось, что из них изливается тьма:
— Другие братья целуют своих сестёр, они обнимают их. Друзья прикасаются к своим друзьям. Мужчины, даже при знакомстве, жмут руки друг другу! Я видел, я специально смотрел. Я смотрел на всех, кого только мог найти. Люди касаются друг друга. Почему мне нельзя тебя касаться? Назови мне настоящую причину.
— Не заставляй меня, — замялась она, но любое ее колебание в последнее время он почему-то расценивал, как приглашение надавить. Он делал это неосознанно, просто видел и знал, что, когда ей нужно, она может быть невероятно тверда с ним и даже жестока к нему.
— Скажи мне, Лея.
— Ты похож на него.
— На кого?.. — и страшная тень отца снова возникла над ними, нависла так, как будто никогда их не покидала. Его голос просел, — Нет… Нет!
— Внешне, — неловко запинаюсь, пробормотала Лея, — Чем ты старше, тем больше ты похож на него. У тебя его прищур, его разворот плечей, его прическа, даже то, как ты пьешь чай… Прихлебываешь. Дуешь. Это его жесты.
— Нет, — беззащитно и потерянно сказал он, — Я не похож на него. Я совсем не как он.
— Внешне! Только внешне, Люк. Но… Ты прикасаешься, как он. Это больше, чем я могу вынести.
Люк потрясённо молчал, и она отвела взгляд: смотрела в пол, в сторону, в потолок, куда угодно, только не на него. Она чувствовала себя виноватой за то, что сравнивает отца и сына. Лея долгое время пыталась примириться, но у нее не получалось. Она вздрагивала каждый раз, когда видела его тень, когда смотрела на его подбородок. Она понимала, что для Люка ужасна мысль о сходстве с отцом, что для него оскорбительно предположение о похожести. Она также догадалась, что Люк тоскует по прикосновениям, как тосковали некоторые пожилые люди в шелтере, в котором она провела год. У них было всё: уход, личные вещи и пространство, книги и журналы, дела, которыми можно было заняться. Но им не хватало прикосновений, и Лея иногда просто брала их под руку при прогулке по лесу, прилегающему к зданию. Они все любили её за это, хотя ее история людей поначалу отпугивала: беременная шестнадцатилетняя девушка… Она не хотела лишать Люка этого, а он был пока слишком нелюдим для того, чтобы самому, с чужим человеком, преодолеть этот барьер. Поэтому она примирительно сказал:
— Давай договоримся так: я буду тебя касаться, а ты будешь делать это, только если я прямым текстом скажу. Я обещаю, что буду делать это часто.
— Ты сказала очень серьезные слова, мне нужно над этим всем подумать.
— Это не про тебя! Это про него. Ты не виноват, что похож на него! Как я не виновата, что похожа на маму…
— Ты ни в чем не виновата, — сказал он серьезно, — И я обещаю тебе не касаться тебя, если ты не скажешь.
Хуже стало, когда они подросли.
Лея — со всей генетической беспощадностью, со всей мягкостью и пламенем в больших карих глазах, со всей мраморностью кожи и тонкой статью — стала походить на мать. Это было страшно для нее, мучительно для Люка и слишком дразняще для Вейдера.
Однажды отец поднялся к ним, на третий этаж: он редко это делал.
Лея и Люк делили одну постель, всегда, с самого раннего детства. Вейдер знал, что наверху живет Лея, но никогда не интересовался, где спит сын.
Вейдер — огромный, двухметровый, тяжелый мужчина — ходил медленно и очень громко. В отличие от его детей, которые боялись лишний раз потревожить дом, которые смазывали маслом все двери в доме, чтобы те их не выдавали.
Сквозь сон Люк чудом услышал тяжелые шаги, толкнул сестру — Лея рывком села на кровати. Ее каштановые волосы рассыпались по плечам, скрыли руки. Люк соскользнул с постели, и, пометавшись по комнате, спрятался за шкафом, надеясь на слабое зрение Вейдера. Он смутно понимал, что, в представлении отца, место ему — в лучшем случае на чердаке сарая.
Дверь распахнулась, и отец вошел. Лея напряжённо и испуганно глядела на него — Люк поклялся себе, что выйдет, если поймёт, что Вейдер в своей темной фазе: когда он больше похож на зверя, рычит, бормочет и дерётся, ходит, как заведенный, кругами и бьет все, что попадёт под его руку. Но сейчас, кажется, он сохранил остатки рассудка:
— Падме… Почему ты здесь? Почему ты не навещаешь меня? Зачем ты мучаешь меня?
— Вейдер, это я, Лея. Твоя дочь.
— У меня нет дочери. Я мечтал о дочери. Но у меня есть только сын, белобрысый урод. Как я сам. Он убил свою мать.
Лея увидела, что он держит ворох разноцветных нарядов в руках. Он положил их на кровать перед нею и продолжил:
— Я принес твои платья. У тебя столько красивых платьев, а ты ходишь в каких-то закрытых серых тряпках. Помнишь прием у сенатора нашего штата? Твое черное платье на корсете, и блестящую ленту, обвивающую шею. Все мужчины в зале смотрели на тебя, все хотели тебя, но ты выбрала меня. Надень это платье и спускайся вниз. Я открою бутылку твоего любимого вина.
Он вытащил золотое платье на корсете, разукрашенное маленькими розовыми цветами. Положил его перед Леей, как будто предлагал купить. Потом, как выключенный, ни слова не говоря, вышел. Лея встала и приложила к себе платье, разгладила очень взрослым, совершенно женским движением, оправила юбку.
Люк с ужасом сказал:
— Ты же не собираешься к нему в этом спускаться!
— Нет, конечно! Но оно такое красивое… Я просто его примерю…
Она беззастенчивым, открытым движением сдернула с себя ночную рубашку.
Люк не отвернулся — ее нагота не смущала его, он привык: они росли вместе, купались вместе.
Ее нагота не значила ничего, кроме доверия: она не соблазняла, не слепила, не убивала. Ее нагота говорила просто: мы дети, а ты мой брат-близнец.
Ее нагота начала значить потом: когда ее груди налилась, как маленькие яблоки, когда он стал просыпаться ночью в мокром белье, после невыносимо-сладостных снов. Когда Лея, обнаружив в первый раз месячную кровь, прибежала в испуге к брату. Как они молча смотрели на окровавленное белье и платье, как Люк, холодея от переживаний, вдумчиво прошёлся руками по ее телу, плотно, но бережно нажимая: болит? Нет? Он бил тебя в последнее время? По груди, по животу? Сильно? Ты падала? Нет?
В конце концов, они нашли книгу по беременности и родам — со следами небрежных пометок, оставленными красными чернилами рукой их матери — так странно было думать, что у Вейдера была жена, их мать, что она хотела их и ждала. Что она озаботилась купить книгу — и книгу по уходу за младенцами тоже — хотя Падме не суждено было ею воспользоваться. Лея нашла ее и утащила в спальню, спутанно отвечая на вопрос Люка — зачем? Но на обложке был изображен беззубый складчатый малыш, и Лее страшно хотелось ощутить его кожу под своими руками, вдохнуть его запах, и носить, не спуская, с рук.
Как бы там ни было, но мамины книги рассказали о том, что с Леей все в порядке, поведали близнецам о том, откуда появляются дети — и тогда нагота Леи стала значить все.
И тогда же Вейдер, видя, что они вырастают, начал преследовать их с ужесточенной, удвоенной яростью.
Но сейчас — сегодня — Лея ещё не была молодой девушкой — это был последний отсвет детства, который умер в глазах ее отца, увидевшего в ней жену.
Который умер, когда ее брат, коснувшись шнуровки золотого платья, впервые подумал о том, что она красивая.

Глава 6
Лея знала за собой это: знала свою ненормальную страстность. Она знала, что плывет лишь при прикосновении ладоней и что очень легко заводится.
Она знала, вернее подозревала, что это как-то связано с желанием иметь защиту, чувствовать себя любимой, подчинить мужчину, а не дрожать перед ним — со мной ничего не случится, если я сама откроюсь тебе. Это значит — я добровольно, это значит — насилия нет. Если я первая скажу, что согласна, то сделаю вид, что контролирую ситуацию. Сделаю вид, что согласна там, где моего согласия могут не спросить. Она знала, что это часто бывает с женщинами, пережившими домашнее насилие, эта мысль облегчала ей принятие своего состояния…
Но рефлексия не помогала ей справиться с собой, своим поведением, особенно поначалу. Когда она только вышла из шелтера, и была в растерянности перед открывшимся миром, она готова была пойти за любым, который только позовет. Сейчас ей казалось, что она избежала проблем только при помощи чуда и терапии. Она мучительно и долго выстраивала свои границы, и все равно они трещали, стоило ей попасть в тяжелую для нее ситуацию. Или выпить чуть больше положенного.
Сегодня, на дне рождения Хана, когда миновал уже двенадцатый час и количество выпитого превысило все ее обычные нормы, она почувствовала, что смеется слишком громко тем шуткам, которые на грани. Она осознала, что в голове приятно шумит, и какой-то внутренний голос сказал ей «хватит». Она огляделась: нашла Хана среди множества веселых, пьяных и диких гостей. Он бренчал на гитаре и что-то напевал, скорее сам для себя, нежели для аудитории. Она подошла к нему, дождалась конца песни, села напротив, потянулась поцелуем.
— Хан, я устала…
В этих словах было больше, чем она сказала: страх одиночества, страх перед собой, страх утратить контроль, желание защиты. Но Хан не понял этого. Это была не его вина, он просто не мыслил такими категориями, не видел такую Лею: перед ним она была язвительной, пылкой, нежной, но никогда — безумно хрупкой и уязвимой.
— Ну что ты, детка? Иди приляг на диван.
— Я хочу домой…
Он погладил ее по щеке: он совсем не знал, что делать с такой несобранной Леей. Она вдруг страшно обозлилась на себя — за то, что ей нужен провожатый, за то, что она пошла к Хану с этим вопросом, зная, что он действительно ничего не сделает. Не выгонять же всех гостей? Не уходить же с собственного праздника?
Она подумала о том, что нужно вызвать себе такси — и все, но вдруг, сквозь толпу увидела брата. Она подошла к Люку, улыбнулась парням, с которыми он разговаривал, и попросила:
— Уведи меня отсюда.
И добавила для окружающих:
— Сил нет никаких, голова разболелась.
Люк пригляделся к ней, коснулся холодными пальцами ее виска, словно мог почувствовать ее боль. Лея вытерпела это стоически, даже улыбнулась для окружающих: все хорошо.
Но Люк, видимо, что-то такое понял, поэтому наскоро попрощался со всеми, и они пошли домой. Им нужно было идти около получаса, ночной августовский вечер был прохладным, а темно-оранжевое платье Леи только притворялось шерстяным. Она обхватила себя руками, чтобы согреться, и Люк снял свою кожаную куртку на молнии, легко приблизил руки к ее плечам, чтобы надеть, но замер, не донеся. Сказал:
— Возьми ты.
Она приняла куртку из его рук, продела в рукава, застегнула, стала похожа на нахохлившегося воробья.
— Возьми меня за руку.
Лицо Люка мягко осветилось, и он протянул ладонь, и взял ее руку. Сжал плотно, но бережно, и они пошли вперед. Лея почувствовала, что выдыхает. Ей глупостями показались свои страхи перед его касаниями, свои сомнения, свое желание держать его на расстоянии. Что случится, если она просто откроется своему брату? Она шла все медленнее, и он подстраивался под ее шаг, пока они сами собой ни остановились под круглым фонарем. Стрекотали насекомые, окна домов смотрели на них желтыми глазами, и свет фонаря запутывался в ее куртке, в его волосах. Он повернулся к ней — и она задохнулась при виде его лица, которое знала дольше, лучше, чем свое — потому что она видела его все время, а как часто люди встречают свои отражения?
Лея тихо сказала:
— Поцелуй меня.
Она не знала, почему и как у нее это вырвалось — может быть, просто из озорства, или из желания проверить свою власть над ним, или из страха — из попытки опередить, прежде чем он захочет сделать это сам, но Лея с пугающей ясностью вдруг увидела, как слова становятся реальностью. Какой властью они обладают. Какой ужас и какую красоту способны создавать. Люк вспыхнул, глаза у него сделались совершенно дикими — и Лея испугалась, что за страшные силы она разбудила.
Он негнущимися пальцами взял ее за плечи, жадно притянул к себе.
И накрыл ее ледяные губы своими голодными губами.

Она закрыла глаза, чтобы не видеть его лица, этих страшных и черных в ночном свете глаз — но его прикосновение было удивительно нежным, трепетным, таким, как если бы он боялся разрушить мираж. Они разделили поцелуй так, как преломляют хлеб, желая побрататься, как пьют из одного кубка вино на свадьбе. До красных кругов перед глазами, до жара и задыхания, и Лея почувствовала, что ее мурашки переходят в дрожь, а потом ее начало колотить, как в судорогах. Она почувствовала, как его руки разжались, и он отступил от нее на несколько шагов — дальше, чем когда-либо.
— Идём, сестра, — сказал Люк, нахмурившись. Она кивнула, и дальше они пошли в молчании. Лея чувствовала себя ещё более потерянной, чем была пару часов назад, но не осмелилась больше с ним заговорить или взять за руку.
Ей казалось, что он уберёг ее от чего-то разрушительного и страшного для неё самой.
Так, как это делают самые преданные братья.
На следующий день она выползла на кухню ближе к десяти часам, что для неё было очень поздно.
Она тихо села на стул, полуприкрыв глаза, откинулась на стену. В комнате пахло водой и свежестью, синтетической ромашкой моющего средства, и Лея сквозь ресницы увидела, как блестит и бликует от солнечных лучей вымытый пол. В отличие от многих мужчин, Люк не чурался никакой работы по дому, хотя он делал все намного медленнее и тщательнее, чем она сама. Иногда ее это раздражало. Он стоял спиной к ней, волосы его уже немного отросли, засияли прежним золотом. Веревочка фартука перерезала его рубашку на две части и Лее вдруг страшно захотелось потянуть за неё — зачем он такой педант?
Он повернулся и спросил:
— Голова болит?
— Слегка, — тихо сказала она, — Нет, ладно, не слегка. Сильно.
Люк только хмыкнул.
— Будешь есть?
— Попробую. А что ты там приготовил?
— Яйца Бенедикт.
Она кивнула, и сразу об этом пожалела. Он поставил перед ней тарелку с белым воздушным яйцом, и она нечаянно удивилась. За всю жизнь она не встречала человека, который готовил бы их так же, как она сама. Но с Люком она не встретилась, с Люком она родилась. Все браки происходят из двух родов, порождают метисов из двух семей, из двух домов, даже если эти дома стоят друг напротив друга, все равно в них по-разному вытирают посуду… Это так несущественно, когда любишь, это почти не имеет никакого значения, но Лея в том, как он отряхивает кружки, подметает пол и готовит — ощущала нежное, обволакивающее присутствие родного существа, детства, в котором, несмотря на все ужасы, случалось иногда ощущение беспредельного восторга и счастья.
Она отрезала кусочек, поднесла ко рту, но почувствовала тошноту и опустила вилку обратно. Сказала жалобно:
— Ты такой молодец, что не пьешь… Я тоже не буду теперь. Никогда.
— Все так говорят. Но ты передумаешь через пару дней, — сказал он с улыбкой.
— Ты же вообще не пьешь? Почему?
— Не люблю терять контроль, — сказал он задумчиво, отвернулся, чтобы вымыть кружку и сформулировать мысль, — Я становлюсь… неприятным, когда теряю контроль.
Почему-то это ее задело. Тот Люк, с которым она росла, не понимал все так четко и ясно, не обладал таким уровнем рефлексии, как этот. Тот Люк был более открытым, менее знающим — про нее и про себя, и где-то в глубине души она хотела, чтобы он всегда оставался таким.
— Когда ты мог это узнать? Ведь ты здесь всего несколько месяцев, и я никогда не видела тебя пьяным…
— Ты полагаешь, что в тюрьме совсем нет жизни? Все там есть. И ссоры, и дружба, и книги. И наркотики, и алкоголь. Добыть труднее, но все есть. И если не держаться — влегкую можно скатиться. Хуже, чем на воле.
Она посмотрела на него внимательнее — головная боль проступала, рассеивалась, как дождевые тучи, и один момент тоже следовало прояснить. Она несколько раз глубоко вздохнула — дважды открывала рот, чтобы начать говорить, но потом малодушно передумала. Но Люк знал ее слишком хорошо:
— Что такое? Что ты вздыхаешь?
— Насчет вчера. Извини. Я не должна все это поощрять.
Он медленно и тщательно вытер полотенцем руки, повесил его, разгладив все складочки.
— Тебе действительно не следовало… — Он запнулся, подбирая слова, — …манить меня, если ты на самом деле этого не хочешь. Я понял, что не хочешь. Но если бы я позволил себе обмануться?
Лея устало закрыла глаза.
— Извини. Не знаю, что на меня нашло. Ты мой брат. Это ненормально.
— Ну почему это ненормально? — медленно сказал он, глядя куда-то в сторону.
— Почему? — воскликнула она, забыв, что ей эти вещи тоже объясняли семь лет назад — и она тоже недоуменно спрашивала — почему? Она уже почти уяснила для себя, что он не просто выпал из жизни на эти семь лет, но был где-то, думал о чем-то, мыслил, читал — как может он не понимать, не желать понимать, как может он оставаться ребенком в этом, став таким взрослым в остальном? Но Лея не знала, как все это спросить, поэтому просто воскликнула:
— Боже, неужели тебе никто не объяснил? Неужели в тюрьме не говорят о женщинах?
Люк хмыкнул, как будто обрадовавшись возможности перевести разговор.
— В тюрьме постоянно говорят о женщинах. О подружках и жёнах, о том, что и сколько будут с ними делать, когда вернутся. О, не бойся, когда речь заходила о насилии, я их останавливал. Впрочем, не думаю, что они намеревались все это выполнять. Так, грезы. Хоть и грязные.
Лея потрясенно посмотрела на Люка: кажется, Вейдер вбил в него просто поклонение по отношению к женщинам.
— Так они тебя и слушали.
— Сначала нет. Но потом я сломал одному палец, другому нос, и со мной перестали связываться.
Лицо Леи расслабилось. Люк умолчал о многом: о пелене кровавой ярости, которая помогала выживать в тюрьме — ему, с клеймом отцеубийцы и насильника.
О том, что в момент боя у него отключалась всякая защита себя, и он нападал не так, как обычно дерутся все мальчишки, как пробуют друг друга, накручивают, обмениваются предварительными ударами. Он нападал так, чтобы убить, зная, что второго удара не будет. Это был единственный способ убить отца, и он оказался работающим. Люк оказался хорошим учеником — плохие не выживали.
Никто не ожидал в нем этого: он был болезненно честным, светлым, немного застенчивым. Он позволял над собой шутить, и предел его терпения был действительно велик.
И он сломал не нос и не палец, конечно, у одного его соперника был разрыв селезенки — Люку повезло, что раненный напал на него первым, достав откуда-то пронесенный запретный нож, и действия Люка классифицировали как превышение самообороны. Во второй раз на него напали трое — он вцепился в глотку одному, как бульдог, почти придушил его до смерти, пока оставшиеся два били его из всех сил по голове, он все не ослаблял хватки.
Оба раза в качестве наказания его сажали в одиночку. Многие заключенные боялись ее, сходили в ней с ума, но не Люк: он представлял себе Лею. Как она сидит, поджав ногу, на узкой койке, как она улыбается ему, как рассказывает о том, что прочитала. Как расстёгивает перламутровые пуговички старомодной маминой кофты, а под ней нет белья — и обнажает восхитительные белые груди, стоящие, как безе.
Он представлял себе, как она сидит у него на коленях, как болтает ногами, пока он проводит перламутровым гребнем, похожим на ракушку, по её длинным волосам. Как он чешет нежно, невесомо, и как она говорит мечтательно:
— У дома я посажу гиацинты. Знаешь, синие такие? Как твои глаза. Будут волшебно пахнуть. И лавочку поставим. Темную. И радио повесим. Пусть играет танцевальные песни. Я буду круглыми сутками танцевать среди гиацинтов. На улице спать! В дом меня больше не загонишь.
Сегодняшняя Лея — немного грустная, с упрямой складкой на лбу, сидела перед ним — и он сказал:
— В тюрьме говорили о женщинах. Но не о сёстрах, а ты — моя сестра.
Глава 7
Лее снился дурной сон.
Она проснулась от него так, как снова начинают дышать умиравшие от удушья: с судорожными всхлипами, с содроганием, с пропотевшими насквозь простыней и одеялом — колышущимися, как живые, обильно политыми ее потом.
В ее сне был Вейдер. Как бывал всегда. Люк был мертв — это она знала, видела, и теперь Вейдер нависал над ней. Правой рукой без перчатки — отвратительной, покорёженной, погорелой рукой — вдумчиво перебирал на столике недобро блестящие хирургические инструменты.
Она лежала перед ним, связанная, нагая, и понимала, что он использует все, что вонзит их в каждую часть ее тела, что сумма боли не изменится от перемены мест слагаемых, что ее никто не спасёт, но молила — чтобы он хотя бы начал с выносимого.
Она лежала перед ним, раскинув тело, не могла пошевелиться или закричать, только плакала обильными и бессильными слезами.
Люк держал ее за плечи, тряс. Она, дрожа от ужаса, прильнула к нему. Он погладил ее по голове, поцеловал в макушку, прошептал что-то успокоительное.
Он был здесь, ее сон был ложью. Он был здесь, никто не пройдёт через него. Она обвила руками его шею и сказала:
— Ты здесь…
— Ты кричала во сне. И плакала.
Он коснулся ее щеки, и она поняла, что ее лицо мокрое не от испарины, а от слез. Он чуть ослабил хватку — это было очень сознательно, очень нехотя — и Лея вдруг представила, что он сейчас совсем уйдёт на свой скрипящий диван в гостиной, а тени прошлого вылезут из всех щелей, куда их загнал его беспощадный свет. Из-под кровати, из бельевого шкафа, из щели между туалетным столиком и кроватью, даже в трещине, пробегающей вдоль стены – они были всюду. Она везде видела теперь тени ее кошмаров, а единственным светом был Люк.
Она вцепилась в брата — снова дрожащая, испуганная пятнадцатилетняя девочка — она не смогла бы расстаться с ним сегодня и всегда.
Он вытер ее слезы и тихо сказал:
— Не бойся. Кошмары кончились. Хочешь, пока ты будешь засыпать, я посижу и покараулю на полу у двери? Чтобы кошмары не вернулись. Не бойся, никто не придет. Я убил его.
Лея прошептала только:
— Не у двери. Здесь. Со мной.
И они легли вместе, сначала на расстоянии, держась за руки, но потом притянулись друг к другу — узким пространством девичьей кровати, близостью душ, родством крови и желанием плоти.
Когда Лея проснулась, она почувствовала небывалый подъем и силу: ей хотелось петь и танцевать, она могла бы одним желанием изменить мир, утешить плачущих и исцелить страждущих. Но липкий страх нарушил ее дыхание, когда она поняла, что они, как в детстве, переплелись руками и ногами.
Она знала, что ей необходимо, просто необходимо выпутаться из кольца его рук — встать, сурово сказать себе и ему, что больше никогда, никогда в жизни, но она не смогла. Она даже напрягла мышцы, но не сделала движения.
Только покрепче прижалась к брату. Ей казалось, что они лежат в лодке, которая мирно плывёт по звездной реке, что они дремлют, убаюканные музыкой семи небесных сфер.
Ей казалось — отнять руку — значит разрушить гармонию и вместо того, чтобы быть целой, остаться кровоточащей половинкой чего-то покорёженного, но живого. И долго, мучительно вылепливать свой каркас из идей, оттенков смысла, других людей даже: но это все равно будет протез вместо живой руки.
Лея неловко подумала, что они были спаяны, соединены сердцем и мозгом — так, что даже самые великие хирурги не могли бы их разъединить, соединены лбами так, чтобы видеть только глаза друг другу и по краям — размытые пятна окружающего мира.
И Лее показалось, что она раз за разом хочет разъединить их и режет, разрывает тупым ножом свою собственную плоть.
Он открыл глаза. Резко и молча посмотрел на неё — и уже этот взгляд, тяжелый, жаждущий, страстный — настолько ее испугал, что она рванулась прочь, но он оказался ловчее и схватил ее за запястье.
— Пусти!
— Не убегай.
Люк выпустил нехотя ее руку. Она села на кровати, хотела укрыться и спрятаться, потянула на себя одеяло, но он удержал, с силой потянул его на себя, укрылся плотными рядами вокруг бедер. Тогда она обхватила себя руками — на ней была ночная рубашка до колен, но она все равно чувствовала себя обнаженной.
Зачем ему одеяло?
И Лея почти против воли подумала о том, что он был в тюрьме семь лет, без женщин, что он молодой мужчина, а она была так близко.
Ей стало ещё хуже: стыд накатывал по горло, кровь приливала к груди и шее.
Лея села закрытую позу, не убегая, но молча. Люк сказал:
— Прости. Я рефлекторно схватил. Больше не буду. Обещаю.
— Ночью, ты через две стенки…
— Слышала бы ты себя! Я подумал, что тебя убивают.
— Мне никогда не снились кошмары. То есть, я никогда не кричала и не плакала…
— Может быть, ты просто не знаешь. Ты же жила одна.
И правда, бывали ночи, после которых она вставала совершенно разбитой и вспотевшей. Но она это связывала со слишком тёплым одеялом, которое не торопилась менять. Тогда не стало бы внешней причины, тогда пришлось бы искать настоящую.
Лея подметила это сейчас, с беспощадной точностью человека, который слишком долго ходил на терапию.
Кошмары повторялись. Они стали чаще с появлением Люка, потому что он был из того времени, но, парадоксально, только он и мог их прогнать. Лея понимала все это, но ничего не могла сделать: ощущения у неё были такие, будто она летела на велосипеде, вдруг обретшем собственную волю, прямо в пруд, чёрный, стоячий, заросший тиной.
Она понимала, что появление Люка в ее жизни разбудило ее страхи, но оно также давало ощущение цельности, блаженного, почти мистического единства. Так отшельники описывают ощущение видений рая, только Лея достигла не рая человека свободного, построенного трудом и волей, но рая ребёнка: первозданного, существовавшего до грехопадения. Единства колыбели или утробы.
Она попыталась, честно попыталась. Однажды она оставила радио включённым на всю ночь, другую ночь она провела, поменявшись с ним, на его диване, зарываясь в запах его подушки и одеяла, но ничего — кроме него самого — ничего не помогало.
Она, набравшись смелости, позвонила в шелтер: окунулась снова в мягкий голос девушки в приемной, одновременно вспомнила бережность и жестокость к ней других людей: они поддерживали ее, но во внешнем мире ей пришлось долго бороться, потому что людей пугала ее история. Она научилась казаться, если не быть, нормальной: и сама стала забывать, что пережила, поверила в сказку, которую рассказывала всем, даже Хану — эта ложь так въелась ей под кожу, что она совсем забыла, что у неё был брат.
Звонок разбудил в ней ощущение потерянности и отверженности: первое время в шелтере она плакала каждую ночь, потому что с ней не было Люка. Она с радостью обменяла бы свою жизнь после смерти Вейдера на жизнь до — там был ее брат. Ей запретили контакты с ним — думая, что это ее ретравматизирует, думая, что ограждают жертву от насильника.
Люди, даже профессиональные, сложно реагировали на ее беременность: и она, чуткая до мельчайших оттенков — иначе с Вейдером было не выжить — привыкла стыдиться своего растущего живота… Ей говорили, что она не сможет воспитать ребёнка одна, ей говорили, что отдать его значит даровать ему лучшую жизнь, к концу она поверила в это. Лея вспомнила все это, пока набирала номер дрожащими пальцами — она выбрала время, когда дома не должно было быть Люка, но расположилась напротив двери, чтобы увидеть его и быстро бросить трубку.
Оказалось, что женщина-психолог, которая с ней работала, переехала в другой штат.
— Так как вы больше не являетесь нашей клиенткой, фонд не оплатит терапию. Если хотите, Я могу дать вам телефон миссис Браунш или порекомендовать другого психолога из нашего штата.
Лея обещала перезвонить, но так и не сделала этого.
Кошмары не проходили. Она ждала их с каким-то болезненным удовольствием, чтобы снова испытать волшебное чувство защиты.
Ничего не помогало. Кроме Люка. Кроме круга его рук. Он спал без майки, и Лея перед сном обводила пальцами его шрамы, чувствуя, как напрягаются его мышцы, как его руки с каждым ее прикосновением сжимаются все сильнее вокруг ее талии. Он не делал ничего больше того, что они разделили в первую ночь: лежал рядом и обнимал ее, но по интенсивности, по напряжению это было сравнимо со штормом. Лея знала, что он только ждёт одного ее слова, но молчала до поры. Он каждое утро вставал с эрекцией, вызванной ее близостью, она — с томлением в лоне и груди, которое носила в себе весь день, сладостно-болезненное, тянущее, которое почти ежевечерне обрушивала на Хана. Чтобы, вернувшись обратно к брату, снова нырнуть в кромешное марево нереализованного желания, запретной, терпкой страсти, которую они однажды познали. Лея понимала, что они рано или поздно преступят границу — потому что границы хрупки, когда возводишь их повторно. И когда она очнётся от затмения — с губами, сухими от его поцелуев, с грудью, чувствительной от его ласк, с его семенем внутри себя — ей останется только пойти и повеситься, потому что она никогда больше не сможет сбежать от него. И от самой себя. Люк, верный своему обещанию не касаться ее без ее прямой просьбы, не давил: но порой ей казалось, что такое незаметное соскальзываете вниз куда опаснее, ей легче бы было один раз отбросить гневно его руки, раз и навсегда распрощаться с ним. Он каждый вечер стучал в ее дверь, и она открывала. Он делал шаг к ней, и она протягивала к нему руки.
Но он только голодно смотрел и сжимал руками — ровно на талии, не выше и не ниже, и Лея даже не хотела представлять, что за бури бушуют в его груди. Ей казалось, что если она задумается, то непременно решит, что это невозможно выдержать. И тогда он, почуяв этот ее вывод, сочтет себя освобождённым от слова и обрушит на неё всю страсть, о которой молчал, которую копил годами: она не выдержит этого, она этого не переживет.
Она долго думала, класть ли презервативы рядом с кроватью — это означало, что она допускает возможность того, чего страшно боится, но ужас зачать второго ребёнка от собственного брата был животным и неконтролируемым. Ее раздирало: она то клала их рядом, в вазочку у изголовья, то убирала.
Все сильнее обрушивалась на Хана, но он не мог заменить Люка, он давал огонь, страсть, даже нежность — глубоко, под тремя слоями подколок и ехидства была она запрятана — но он не мог дать ей того финального и чистого ощущения единства. Она бросалась на него со стыдом своих недоизмен, с нежностью к их различиям, с обожанием того, что он иной, отдельный человек. Хан сначала обалдел от такого медового месяца, а потом сказал:
— Ты какая-то нервная. И не становишься спокойнее. Что случилось?
Это была одна из минут прозрения, и она сказала:
— Увези меня! Можно, я поеду в рейс с тобой?
— Почему ты хочешь это сделать?
Лея ответила честно:
— Мне тяжело с моим братом.
— А сесть и поговорить, как взрослые люди иногда делают? Ну я слышал, что люди так делают. И что их называют ответственными…
— Нет. Увези меня. Пожалуйста, забери меня.
— Это не место для девушки.
— Я не боюсь уже ничего. Да и ты защитишь меня.
— Дело не в опасности. Просто грубовато, скучно, грязно, неудобно. Мужики отливают прямо на колесо перед тем, как отправиться в путь, например.
— Что, я отливающих мужиков не видела? Пожалуйста. Ты не услышишь от меня ни слова жалобы. Ни писка.
И Хан поддался. Лея, вдруг сделалась удивительно изворотливой: взяла отпуск на работе, подготовила втихаря новую сумку с неизвестной для брата одеждой — чтобы он не знал, в чем она. И только потом поняла, что обманывает Люка так, как обманывала Вейдера.
Ночью вторника она выпуталась из объятий брата — он казался таким молоденьким, почти семнадцатилетним, невинным ребёнком — Люк сонно спросил:
— Ты куда?
— Забыл? Через месяц Рождество и почта работает в усиленном режиме. Приходим на час раньше. Спи дальше.
— Ага, — сонно сказал он и добавил неожиданно, — Люблю тебя.
— Я тебя тоже люблю, — сказала она тихо.
Но когда вышла на кухню, добавила в пустоту:
— И боюсь.
Лея переоделась: спрятала свой рабочий костюм подальше, чтобы он не понял, что она идёт не на работу, оставила не вымытой кружку на столе — чтобы казалось, что она вернется вечером, взяла новую спортивную сумку с вещами, тихо выдохнула и ушла с кухни. Вышла на улицу и увидела, что один из гиацинтов поник кучерявой головой и склонился прямо на дорожку.
Лея со злостью наступила на него каблуком.

Хан ждал её на улице, курил, опираясь плечом на высокое колесо своей фуры — которую он нежно называл Соколом. Вид у него был собранный, но немного сонный, и Лея поняла, что он постарался специально для неё, потому что был гладко выбрит, и обычно его дорожная одежда выглядела намного хуже — грязнее и потрепаннее. Он пожал плечами, точным ударом пальца выбросил еще горящий окурок. Кивнул ей, чтобы она забиралась. Она влезла на место пассажира, и приготовилась очень долго ехать.
Первые несколько часов она зачарованно глядела в окно, пейзаж был однообразным, но навевал на неё приятные, немного нездешние, медитативные мысли. Если бы её кто-то спросил — о чем она думает, она не смогла бы толком ответить. Она думала обо всём: о сути и смысле жизни, о своих ногтях, о том, как люди расселялись вдоль рек, о том, какие животные живут в лесах и какие сны медведи видят в своих берлогах. Потом она начала уставать, ей хотелось выпить кофе, выйти и размяться, но она глядела на Хана, а он не подавал никаких признаков усталости. Лея твёрдо сказала себе: терпи. Хан поглядывал неё одним глазом, и сказал ей через некоторое время:
— Там, чуть сзади, есть место, где можно полежать.
Она с благодарностью посмотрела на него, геройствовать не стала, забралась на узкую, забитую тряпками полку и, убаюкиваемая ритмом мерного движения, быстро уснула. Она проснулась от остановки: это была первая из остановок на пути, около маленькой одноэтажной гостиницы, состоящей всего из трёх номеров. Но кафе, находящееся перед ней, славилось своей вкусной и недорогой едой. Лея и Хан быстро съели свой обед, запивая его большим количеством морса. Вокруг были и другие дальнобойщики, один даже подошел, чтобы поздороваться с Ханом. Они смотрели на неё с нескрываемым любопытством, недоумением, как будто мимолётным чувством зависти. Хан, конечно же, задрал нос и разговаривал с ней слегка по-хозяйски, свысока, но её это почему-то не раздражало — должны же быть какие-то бонусы от того, что ты тащишь свою девушку с собой в рейс. Лее прекрасно сознавала, что создает ему только дополнительные неудобства.
Они поехали дальше. Пару часов они говорили, потом слушали музыку, но дальнейший путь провели в молчании — пошёл дождь, и дорога ухудшилась. Лея больше не рисковала отвлекать Хана болтовней. Она нашла тряпку, протёрла все видимые поверхности, перетрясла простыни на лежанке, сделала там уютное гнездо. Они включили радио – по нему передавали, что непогода только надвигается. Хан пожал плечами, беззлобно чертыхнулся и сказал:
— Ночевать будем здесь, на обочине, потому что ехать дальше опасно. Мы, в принципе, выполнили график первого дня, но всё-таки можем отстать в дальнейшем, потому что обычно я еду быстрее.
Они завалились вдвоём на полку, обнявшись не как любовники, но как добрые друзья, и уснули. И Лее не снилось ни одного кошмара.
Так прошел ее первый день.
На второй день ей показалось, что она больше не выдержит.
На третий она вдруг вспомнила о том, что оставила Люка и не получала от него никаких вестей с тех пор.
На четвёртый она привыкла к такой жизни и вечной дороге.
На пятый научилась общаться со всеми встречными дальнобойщиками, которые реагировали на неё с неизменным восхищением.
К шестому дню она подумала, что нашла работу своей мечты.
А вечером седьмого дня их нашел Люк.
Глава 8
Он увидел их в дверях кафе, в котором Хан всегда останавливался. Люк прилетел на самолёте, и ждал их появления целые сутки — несмотря на то, что в первый момент он ужаснул Лею, она не могла не отдать должное его терпению. Он узнал маршрут от Чуи, придя к нему в коммуну, отчаянно и бесстрашно выспрашивая все сведения о Хане и его рейсах. Мексиканцы сначала посмеялись над ним, даже хотели подраться, но потом уловили его искреннюю тревогу за сестру. Чуи вспомнил, что видел Люка на дне рождения Хана, и что он ушел со своей сестрой.
За сорок пять лет своей жизни он видел очень много, как человек, который часто подвергался нападкам за то, в чем он неповинен — за свою расу и разбойный вид. Но вы не могли бы найти более преданного человека во всём штате Мэн.
Его беременная жена попала под машину двадцать лет назад: спасти не удалось ни ее, ни ребёнка. Но Чуи не бросил свое ремесло, и всегда соблюдал правила дорожного движения и смертным боем, до крови из лёгких, бил тех дальнобойщиков, которые хоть немного их нарушали.
Человек, который много пережил, многое знает. Он любил Хана за доброту и Лею он тоже любил, но считал, что им вместе не быть — потому что Хан не до конца понимает, что она на самом деле такое. Чуи держал свое мнение при себе, но теперь, когда на его пороге возник её брат, с трясущимися губами — отчаянно смелый за себя, но боящийся за неё, мексиканец рассказал Люку все, что знал, и даже больше — сходил в контору и взял маршрутный лист Сокола.
Лея вышла первой из кафе — и в руках у нее был бумажный пакет с хрустящими, пышущими жаром, сочащимися маслом, донатами.
Люк стоял у колеса Сокола и нервно пощелкивал зажигалкой, хотя в его руках не было сигареты. Пламя вспыхивало на мгновение, облизывало его пальцы и гасло, а он, казалось, этого не замечал. Черные круги под глазами, полными красных, лопнувших сосудов, только оттеняли скульптурную заостренность его лица.
Лея задохнулась, выронила из слабых пальцев пакет с выпечкой. Он упал и рассыпался — небрежно, беспомощно, как все, что когда-то сулило ей нормальную жизнь, радость и веселье. Все это сгорело, упало, разбилось о заплеванный асфальт, который давили тяжелые кроссовки ее брата. Он оттолкнулся от дверцы Сокола, сделал несколько твердых шагов по направлению к ней, а она до беспамятства хотела бежать прежде, чем он заговорит. Хотела — и не могла.
— Где он? Ты в порядке?
Голос его звучал хрипло и очень спокойно.
— О чем ты?
— Где этот человек? — он не сказал, но в его позе, взгляде, тоне, во всем читалось несокрушимое «Я убью его».
— Тебя снова посадят!
Это проняло его, она видела, что это его проняло, но он резко сказал:
— Он украл тебя!
Хан вальяжной походкой подошел у ним, почему-то слегка наклонился, как будто надеясь поднять донаты, но потом увидел Люка и сказал хрипло:
— Привет, малыш… Что здесь происходит?
Но близнецы не обращали на него внимания, поглощенные друг другом. Со стороны казалось, что они делят маленький ад на двоих.
— Нет. Я сама ушла. Я здесь добровольно.
Люк покачал головой и сказал твердо:
— Я тебе не верю. Ты лжёшь. Ты боишься его!
— Нет! Я люблю его!
Хан поперхнулся, потому что Лея никогда не говорила ему этого, а теперь эти сокровенные, нежные, простые слова навсегда окрасились пренебрежением и ярко-красными цветами боли. Люк опустил взгляд и сказал яростным, дрожащим голосом:
— Ты бежала от меня ночью. Я сказал тебе что люблю тебя, а ты сбежала в ночи, как… Как…

Он задохнулся от гнева, но смолчал. Лея не стерпела:
— Как воровка? Как шлюха? Ты это хотел сказать?
— Нет. Как человек, которому все равно.
Хан смотрел на сцену с возрастающим удивлением: ему казалось, что они любовники, враги, супруги, но никак не брат и сестра. Он вдруг понял, чего боялась Лея, от чего она бежала, почему так отчаянно просилась с ним.
Он вдруг увидел Люка — не как неловкого мальчика, преданного сестре, которая им вертит, но как убийцу отца, как человека, одержимого страстями. И что одна из этих страстей — Лея. Он вмешался:
— Эй, малыш, полегче.
Люк перевел на него немигающий, воспаленный, одержимый взгляд, и сказал сухими губами, в уголках, в разрывах которых запеклась кровь:
— Молчи, похититель чужих сестёр.
— Ты обалдел что ли?
Лицо у Люка сделалось страшное, темное, и он медленно опустил голову к левому плечу, глядя на Хана искоса, оценивающе. Лея шагнула вперед, между ними — так, как поднимаются на эшафот.
— Люк, хватит!
Он едва услышал ее голос, пробившийся через кровавое полотно его ярости. Он затряс головой — она стояла на пути, она, она — Лея. Лея, вот кто имеет значение. Лея, вот кто имеет смысл. Все остальное нет. Лею — нужно защищать. Лею — нельзя ранить.
Она продолжила:
— Я тебе не жена.
— Нет. Ты моя сестра, — сказал он так, как будто понял это в первый раз. И это слово прозвучало задушено и горько, болезненно-страстно. Лея пошла мурашками и закричала на него:
— Хватит! Оставь меня в покое! Я больше не могу: ты мой брат, но…
— Не надо! Я понял.
Они замерли.
Тогда:
Она очнулась почему-то на полу, и первое что она увидела, были его окровавленные руки. Она слабо охнула, он аккуратно помог ей сесть. Ее вело, как будто она не ела три дня, она все пыталась сфокусировать взгляд, но перед глазами все плыли разноцветные круги:
— Люк, твои ладони…
Он взглянул на них так, как будто увидел их в первый раз в своей жизни. Потом тихо сказал:
— Это не моя кровь.
Лея резко выдохнула, он встал и сказал:
— Посиди здесь, я сейчас.
Но она вцепилась в его ногу и издала резкий всхлип.
— Я ненадолго… Сейчас вернусь. Нет? Хорошо, идём вдвоём.
Она не могла идти, и он отнёс ее на руках, взвалив на одно плечо. Он усадил ее в ванной, прямо на пол, прежде заботливо набросав полотенец.
Вдумчиво глядя на своё отражение, он принялся вымывать запекшуюся кровь с рук и шеи. Он снял рубашку, аккуратно расстегнул пуговицы, налил в таз воды, положил туда рубашку. Некоторое время постоял, глядя, как она беспомощно тонет, как розовеет вода. Ему показалось, что это очень красиво. Потом он выбрал самое мягкое, самое белое полотенце, намочил его под краном, проверив предварительно температуру воды. Он присел перед ней на корточки и протянул полотенце к ее щеке. Лея напряглась. Он сказал виновато:
— Я тебя касался грязными руками. Надо смыть.
Она закрыла глаза, пока он осторожными движениями вытирал кровь с ее лица. Она прошептала:
— Люк…
— Он не придёт. Все кончено. Мы свободны.
Он вынес ее в коридор, и деловито зашуршал по ящикам, пока Лея, обессиленно привалившись к стене, все пыталась не упасть в обморок.
Он сказал:
— Где твои ботинки? Не вижу… Придётся в туфлях.
Он надел на нее пальто, вложил белые ноги в легкие серебристые туфельки. Зашнуровал свои высокие ботинки. Потом, подумав, надел куртку прямо на голое тело: ему казалось, что он еще не отмылся от крови, чесал раздраженно грудь. Для того, чтобы подняться в комнаты и взять чистую рубашку, нужно было пройти мимо подвала, а в подвале…
Нет.
Он подхватил ее на руки, отогнулся назад, принимая ее вес на грудь. Она была совсем маленькой и легкой — она похудела за последний месяц, словно ребенок выпивал ее изнутри. Люк знал, что идти придется долго, поэтому экономил силы.
Он вышел из двери, не оглянувшись, ничего не взяв с собой. С опаской сошел с крыльца, дошел до калитки, открыл ее, сделал несколько неуверенных шагов, как ребенок, который только учится ходить. Ему казалось, что какая-то часть его осталась в доме, и скоро его притянет обратно, как магнитом. Но Лея зашевелилась на его руках и сказала:
— Я хочу идти сама.
Он осторожно ее опустил, продолжая поддерживать под локоть. Они прошли, утопая в осенней мерзлой грязи, мимо голых кустов шиповника, так напоминающих терновые венцы. Туфли Леи промокли и запачкались, но близнецы — в первый раз в жизни — не смотрели вниз.
Они смотрели вперед: мягкие огни города, внизу, в долине, сверкали золотым, манили теплом, уютом и безбрежной свободой.
Лея притянула его к себе, легко поцеловала в губы.
И тогда они медленно пошли вниз, к людям.
Сейчас:
Хан закатил глаза:
— Хватит ломать драму.
Но Лея смотрела на брата, и губы ее задрожали — он не шутил.
— Люк…
Он поднял руку, словно желая зажать ей губы, чтобы она замолчала. Он стоял полубоком и не смотрел на нее:
— Не надо, Лея. Я все понял.
Лее казалось, что кто-то (кто? Она! Она сама!) распилил их бензопилой: сделав надрез по коже, прошелся по мышцам и теперь дробил кости. Вы должны быть разделенными. Вы должны быть свободными друг от друга. Вы должны быть калеками. Лея тихо спросила, чувствуя, как их связь дрожит и визжит под ударами, как она снова обрастает плотью, словно заколдованная. Как голова чудовища, как хвост ящерицы.
— Чего ты хочешь от меня? Просто скажи.
Он несмело взглянул на нее и сказал, чувствуя ее слабость:
— Пойдём домой.
Она бесконечно долго молчала — за это время росли и гибли цивилизации, рождались и умирали планеты, и все для того, чтобы в этом забытом Богом уголке Земли, одна женщина сказала своему брату:
— Хорошо.
Закрыла глаза на мгновение.
— Иди к кафе. Подожди меня там. Я сейчас приду, — и глядя, как округляются его глаза, она продолжила, — Иди! Мне нужно поговорить с Ханом.
Люк, послушный, тихий, безмолвный, отошёл без единого слова.
Хан сказал:
— Он же псих. Ты не можешь идти с ним.
— Он мой брат. У него никого больше нет, только я. Он хороший, просто раненный. У меня нет выбора, просто нет. Не останавливай меня, пожалуйста.
— Ты делаешь ошибку. Однажды ночью он тебя прирежет… Я тебе серьезно! Ребята, которые на героине сидят, по сравнению с ним — милашки.
— Прости меня.
Люк курил, и белый дым поднимался сквозь осенний дождь, прямо к небу, к душе их матери, к снам их ребенка, к стонам их запретной, но чистой любви.
И Лея подошла к нему, и, сдаваясь, вложила свою руку в его руку.
Теперь воля — не моя, а твоя.
И власть твоя.
Пощади.
Глава 9
Лея всегда знала, что он сильнее ее.
И сейчас она особенно остро чувствовала, что он куда более цельный, что ее воля дробится перед ним, перед его страшной любовью — она знала наверняка, что так и будет, уже в тот самый миг, когда сбила его велосипедом.
Был уже пыльный вечер, когда они, взяв билет на завтрашний ночной рейс — до крупного города, потом рейсовым автобусом до дома — нашли гостиницу. Они изрядно поплутали по городу, который казался им слишком большим и несуразным, шумным и бестолковым, и говорили между собой мало, только про бытовые вещи.
— Рыба пересолена, — коротко сказал Люк, когда вгрызался в небольшой забегаловке в одеревеневший от времени фиш-энд-чипс. Лея не хотелось есть, но она взяла хот-дог, чтобы не вызывать его вопросов.
— Постой, — сказала Лея, когда подул сильный ноябрьский ветер, — Дай-ка сумку.
Она нашла свитер в глубине, натянула его, застегнула куртку плотнее.
— Могу дать шарф.
Но Лея только покачала головой.
Ощущение потерянности только усиливается в больших городах, где каждый, казалось бы, куда-то спешит, а ты наблюдаешь за этим слегка со стороны. Но Лея старалась не прислушиваться к своим чувствам — она словно замерзла на этом ветру, и не могла ничего придумать. Все делал он: покупал билеты, вдумчиво водил пальцем по карте, искал гостиницу, договаривался с портье. Она смотрела на все, как в театре: со стороны.
Так было спокойнее.
Их встретила сонная девушка-администратор. У стены стоял аквариум: пока Люк регистрировался и оплачивал номер, Лея подошла к стене, постучала согнутым пальцем по стеклу. Рыбы, привыкшие к вибрации, никак не отреагировали. Лея пригляделась к ним: они были нехороши — больные, слепые, с опухолями и нарывами. Ей здесь не нравилось: шторы казались слишком помпезными, диваны — слишком длинными, девушка — слишком потрепанной. Лея едва не подошла к брату, чтобы сказать об этом, а потом представила, как они будут в ночи искать другую гостиницу. Подумала — не все ли равно.
Все равно имеет значение только то, что они вместе.
Но даже эта мысль двоила ее: то ей казалось, что он чудовище, которое тащит ее в свою берлогу, то — бережный брат, который всегда делал все для того, чтобы он была счастлива.
Они поднимались на лифте — Лея давно не была так близко к нему — целую неделю. Даже в их скитаниях по городу они держались на расстоянии друг от друга. Он вдруг вдохнул глубоко, и сказал так, как если бы протянул к ней руку:
— Твой запах…
— Что с ним?
— Ты пахнешь… Дорогой, железом, бензином… А еще ты пахнешь им.
Лея вздрогнула.
Ее даже не удивила двуспальная кровать, контраст модных жалюзи и старого кресла. В номере она, как заколдованная, взяла полотенце и пошла в душ, пока Люк возился с ее дорожной сумкой и своим рюкзаком.
Холодная ванная комната не становилась теплее, несмотря на то, что Лея на полную мощность включила горячую воду. Она остервенело и поспешно втирала в себя мыло с дешевым лимонным ароматизатором — примерно так, как хирург дезинфицирует руки перед операцией на открытом сердце. Она водила по себе мочалкой — жестко, как будто натирала себя на терке, снимала верхний слой своих чувств и ощущений: дорогу, Хана, счастье. Она вздрагивала, когда до нее доносились звуки из комнаты, торопливо закручивала кран, и в напряженной тишине прислушивалась к тому, что делает Люк. Хлопнула дверь — он вышел из номера. Лея выдохнула. Вытерлась — ей все так же было холодно — и быстро оделась. Отжала волосы над раковиной, не нашла фена, свернула их в дугу, вышла в комнату.
В это же мгновение открылась дверь и вошел Люк. В руках у него были две кружки, над которыми поднимался пар. Он сказал ей:
— Я сходил вниз и принёс какао. Будешь какао?
— Нет, — сглотнула она, и неожиданно для себя самой почти закричала, — Ты уволок меня! Ты увёл меня насильно! Какое ты имел право?! Я не вещь, чтобы так со мной обращаться!
Он моргнул, прошел в комнату, задвинув дверь локтем. Поставил обе кружки на безликий журнальный столик и спросил спокойно:
— Насильно? Ты видела себя? Кто за мной пошёл, кто взял меня за руку? Кто помогал мне читать карту? Кто застегнул мою куртку? Кто это был, Лея?
— Я, — прошептала она, смаргивая слезы, — Да, это была я.
— Я никогда не совершал насилия над тобой, дорогая сестра. Я никогда этого не сделаю.
— Никогда, — эхом откликнулась она.
Он медленно снял свитер, аккуратно сложил его, убрал в шкаф. Лея стояла, молча глядя на его скупые движения, чувствовала, как капли воды, собравшиеся на кольце ее тяжелых волос, медленно стекают вниз, по шее.
Люк сел в кресло, откинулся на спинку, сказал ей:
— Иди сюда, — легко хлопнул себя по колену.
Как заколдованная, как кролик, зачарованный удавом, она безвольно подошла к нему и осторожно приземлилась на его колени. Он обнял ее, притянул к себе, начал медленно целовать ее шею. Тогда Лея прошептала — умоляя, не надеясь, что он послушает, чувствуя себя полностью в его власти:
— Не надо. Люк, пожалуйста, не надо.
Он медленно оторвался от неё и слишком спокойно сказал:
— Хорошо.
Он прижал ее к себе, она склонила голову ему на плечо и закрыла глаза. И он сказал мирно:
— Давай тогда я тебе сказку расскажу? В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своею женою и двумя детьми: мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку — Гретель…
Две кружки с какао остывали на столике, планета неслась в своей космической пустоте, Лея почувствовала внезапный покой, а он все говорил и говорил, хотя читал эту сказку лишь единожды:
— Завтра выведем детей в самую чащу леса; там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас, а затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся…
Когда он дошёл до этих слов, она вдруг заплакала.
Тихо, безмолвно, неостановимо, ее плечи вздрагивали и вздрагивали, и он почувствовал, что ткань его рубашки в ложбинке между плечом и шеей насквозь промокла от ее слез.
— Что ты? Это же я, Лея. Люк, твой брат. Это же я.
Ее пальцы впились от в его руки.
Защити меня. Защити меня от тебя самого.
Он встал с ней на руках, сделал несколько шагов — таким несуразно-узким был гостиничный номер — и осторожно положил ее на кровать. Она сразу свернулась клубком, просунула руку под подушку. Он внимательно посмотрел на нее, укрыл одеялом. Лея вцепилась в шерстяную ткань — заправить в пододеяльники они не успели — так, как вцепляются в последнюю надежду.
Люк сел рядом, навис над ней, закрыл собой весь свет и, напряженно глядя шальными синими глазами, сказал цитатой из сказки — жестокой сказки, где родители уводят детей на голодную смерть:
— Утешься, милая сестрица, спи себе теперь спокойно.
Не в силах больше видеть его лицо, она закрыла глаза, надеясь, молясь — что он отойдет и она снова сможет дышать.

Тогда:
Они замерли в равновесии, как будто стояли среди звёзд, держась за руки, на очень узкой и шаткой платформе, и любое движение Леи вызывало ответное движение Люка, и наоборот: иначе бы они упали.
Вейдер понял их изменившиеся отношения раньше них самих: их робость, нежность и тягу друг к другу. Почуял, как акулы чуят кровь.
— Лея, сними платье.
Она вцепилась руками в платье.
— Снимай, кому я сказал!
Она медленно стянула платье через голову, но прижала его к груди в тщетной попытке закрыться. Он протянул руку и вырвал платье.
Она осталась в тоненькой майке и белых трусах, пошла мурашками холода и стыда.
Люк закрыл глаза. Вейдер со смешком сказал ему:
— Посмотри-ка на неё. Красивая? Скажи, что ты хочешь с ней сделать? Смотри внимательно.
Люк открыл глаза и повернул голову в сторону Леи, но смотрел не на нее, а на кончик своего носа. Вейдер хмыкнул и сказал тяжело:
— Я-то знаю, что у тебя на уме. Только протяни к ней руки — и я отрублю их. Только тронь ее — оскоплю, как барана. Будешь долго на неё смотреть — выколю тебе глаза.
— Если я сама посмотрю на него, отец?
Ее голос — чистый, звенящий, злой — такой, каким Жанна Д’Арк скликала свои полки, — разрезал комнату пополам.
Лея стояла перед своим безумным отцом: лицо Падме, его собственный неукротимый дух. Валькирия на поле боя, приветствующая смерть воина. Вейдер повторил:
— Я выколю глаза.
— Мне? — Лея как будто не испугалась, она стояла, дрожа от холода и гнева, — Коли.
— Ему. Ему выколю глаза за твои взгляды. Так что не поднимай глаз, Лея. А теперь ступай, мне надо потолковать с твоим братом. Поучить его уму-разуму…
Сейчас:
«Десять минут», — сказал себе он, — «Десять минут и баста».
Погладил кончиком пальца свои часы — Лея подарила их на этот день рождения. На их день рождения, общий, как и все, что было у них.
Если она не придет через десять минут, он просто оторвется от этой двери, и уйдет куда-то в пустоту. Мира не существует за пределами Леи. Но если она не придет через
девять
минут, то он уйдет в эту пустоту.
Восемь. Может быть, это действительно что-то нездоровое.
Семь. Брат не должен так любить сестру, как он любит Лею…
Шесть. Думать об этом было слишком страшно.
Пять. Он должен уйти. Должен это сделать. Ради нее.
Четыре. Отец был прав. Во всем.
Три. И в том, что однажды Люк станет для сестры живым кошмаром.
Два. И в том, что любовь ранит вместо того, чтобы исцелять.
Один. Любовь не просто ранит - она убивает.
Ноль.
…
Минус одна.
Она появилась через восемнадцать минут и двадцать секунд — подошла тихо, незаметно, вложила свою руку в его, улыбнулась краешком рта. Он закинул на плечо ее сумку, и они прошли, безмолвно и понимающе, сквозь бурлящий город.
Когда они вошли в гостиницу, он чувствовал себя счастливым: ему казалось, что они молодожены, которые едут в медовый месяц. Или нет, без лихорадки первого чувства: скорее, как супруги, которые давно не видели друг друга…
Лицо девушки было располагающим, пусть и рябым, некрасивым. Занавески были полны решимости не пропустить свет, в столах проглядывала добротность, старомодность, и Люка это умиляло.
— Ваши паспорта, пожалуйста, мистер…
— Скайуокер. Мистер и… миссис Скайуокер.
Он не выдержал, оглянулся на Лею: она не слышала его слов. Он посмотрел на неё так, как посмотрел бы на горячо любимую молодую жену, и порадовался, что у них одна фамилия.
— Я принес какао. Будешь?
Она стояла перед ним — прямо, сжав руки в кулаки, слегка наклонив голову, нахмурившись — так, как всегда стояла перед Вейдером. Он вздрогнул.
— Нет. Ты уволок меня! Ты увёл меня насильно! Ты не имел права! Ты чудовище!
Он задохнулся. Прошел на автомате, поставил обжигающие кружки, потом неловко спросил, словно проверяя себя, правильно ли он запомнил события прошедшего дня:
— Насильно? Тебя? Ты же за мной пошла сама? Ты взяла меня за руку? Ты застегнула мою куртку?
— Да. Да, я сама, — из нее словно вышибли воздух.
— Я не сделаю тебе никакого зла. Никогда.
— Никогда, — повторила она печально.
Он сел в кресло и протянул к ней руки. Она подошла, села к нему на колени — так, как будто это было для нее самым привычным делом. Он выдохнул, почувствовав ошеломляющую близость ее тела, тяжесть и теплоту, ее запах, в котором больше не было Хана, — его повело и он, почти против воли, коснулся губами ее шеи. Она сказала холодно и властно:
— Не надо, Люк.
Он с трудом отвернул лицо и сказал ей нежно:
— Хорошо.
Она склонила голову ему на плечо. Его любовь к ней, нежность, забота, беспокойство — бурлили и требовали выхода, но он не мог к ней прикасаться. Даже ради самых простых жестов — например, погладить по голове — он должен был ждать приглашения. Тем более теперь, когда она в гневе кричала ему, что он насильник. Он не Вейдер. Он хотел показать ей свою любовь — как угодно! — и сказал ласково:
— Давай тогда я тебе сказку расскажу? В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своею женою и двумя детьми: мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку — Гретель.
— Утешься, милая сестрица, — сидя возле ее кровати (в который раз не касаясь, сжимая кулаки до боли, чтобы случайно не погладить по голове) прошептал он, пытаясь всю свою любовь вложить только в слова — Спи себе теперь спокойно.
Когда он закрыла глаза, он вышел на балкончик и закурил.
Ему хотелось плакать.
Глава 10
Тогда:
Она проснулась в ночи от того, что Люк заехал ей по животу рукой. Обычно он спал очень спокойно, вытянувшись по струнке, как солдат, и такие пробуждения были для нее редкостью. Она хотела было беззлобно толкнуть его в ответ в плечо, но осеклась, вспомнив события прошедшего дня. Она посмотрела на брата: он лежал, разметавшись, ворочаясь беспокойно, словно хотел прижать что-то к тому месту, которое болит. Лея сидела и смотрела на это круглыми от испуга глазами; ей казалось, когда они пошли спать, что все хорошо, что то странное и страшное, что произошло днём, — досадное недоразумение, которое ей примерещилось и которое больше никогда не повторится.
Но ночь оказалась ужасней дня: полной хрипов и стонов, и Лея встала с кровати, чтобы найти папу. Чтобы забраться к нему на коленки, чтобы он склонил к ней своё изуродованное, но доброе лицо, и она могла бы рассказать ему все, что ее тревожит. Чтобы он погладил ее левой рукой, на которой не хватало мизинца, а правой крепко-крепко обнял. И ничего страшного не смогло бы с ней случится, пока бы он её обнимал.
У папы были такие же синие глаза, как и у Люка. Папа и Люк — самые красивые люди на свете.
Она спустилась с третьего этажа вниз, переступая бесшумно маленькими ногами. Люк рос нормально, а вот она была слишком мала для своих восьми лет. Брат говорил ей: «малышка», чем неимоверно злил.
Все комнаты в доме, как в старинном замке, были тёмными и пустыми, и лампочка горела только в коридоре. Её свет бил ярко и пронзительно. Плафона не было — Люк однажды разбил его футбольным мячом. Лея, как мотылёк на невиданный свет, вышла в коридор. На стене висел огромный чёрный крюк, Лея не знала, для чего он. Прежде, в дождливые дни Вейдер вешал гамак, и Падме очень любила, свернувшись клубком, в нём отдыхать, спать или читать книги. Но сейчас с крюка свисала чёрная кожаная петля. Папа стоял прямо под ней, и правой, пятипалой рукой, пробовал её на прочность. Лея зябко и тихо спросила:
— Папа?
— Лея, девочка моя… Что ты делаешь здесь?
— Я искала тебя… Люк… — она почему-то запнулась. Но глаза у папы были безумные, и от него пахло странным острым запахом, каким иногда пахло от бездомных людей или из высоких стеклянных бутылок. Он спросил, едва ли не всхлипывая:
— Люк, он жив?
— Да, папа.
— Я не убил его? Мой бедный мальчик… О, если бы он родился девочкой. Я бы не тронул его. Но он мужчина. Мужчины придумали газ, и огонь, они приносят смерть и разрушения. Они придумали инструменты, но не могут спасти тех, кого любят. Мужчина находит девушку, влюбляется в нее, женится, а потом уходит на войну — далеко, через половину мира, где желтые дьяволы режут и жгут его. Но он не умирает: он ходит по отравленной земле, и не умирает, он дышит ядовитым газом и не умирает, он горит в напалмовом огне — и все равно выживает. Он возвращается домой калекой, и узнает, что его жена умерла. Умерла родами в двадцатом веке. Одна на миллион умирает родами теперь, и это было суждено именно ей. Мужчины не могли ее спасти. Твой брат убил ее. Когда-нибудь, он убьет и тебя. Изнасилует и убьет.
— О чем ты говоришь, папа? Я не понимаю.
— Моя бедная девочка. Мой бедный мальчик. Моя бедная, бедная, бедная Падме. Моя прекрасная Падме.
— Папа, зачем тебе ремень? Почему ремень висит на крюке?
— Чтобы легче было повеситься, — спокойно сказал он, — Я прицепил его на крючок и прыгнул бы. Какая еще веревка выдержит меня? Как мне вынести то, что я сделал со своим сыном?
Они замерли, зачарованно глядя друг на друга. Потом он затих и медленно опустил помутневшие глаза:
— Нет, ничего. Я вылечусь. Я буду лучше себя контролировать. Зачем мне вешаться? Кто позаботится о тебе, если меня не станет? О Люке? Следи за ним. Заботься. Береги. Спрячь его от смерти, ты можешь спрятать его от смерти, я знаю… И Лея… Пока я болен… Пусть твой брат поменьше попадается мне под ноги.
Сейчас:
Лея открыла глаза, когда почувствовала, что он ушел, и услышала, как хлопнула дверь крохотного балкона — одно только и название, что балкон — резные черные перильца, доходящие до пояса, и один шаткий, выцветший стул.
Шестой этаж.
Было очень тихо.
Слишком тихо.
Чудовищное предчувствие затопило ее, она задохнулась, подорвалась, отбросила колючее старое одеяло, как была, босая, подбежала к балконной двери.
Она думала, что знала — всегда знала — когда с ним что-то случалось — они были близнецы. Но теперь, за эти несколько метров, она сама умерла от разрыва сердца.
Она распахнула дверь, как будто спустила курок: но он был там, тяжело опираясь прямыми руками на кованые перила, стоял, опустив голову, и завороженно смотрел вниз.
Он услышал, как Лея тяжело дышит, и бросил ей:
— Не стой на ветру, простудишься.
— Люк… — прохрипела она, не в силах отвести глаз от его напряженных и побелевших рук, которыми он сжимал резьбу перил, — Почему ты смотришь вниз?
Он ничего не ответил.
— Люк, — сказала она, закрыв глаза, как перед штормом, — Забудь все, что я когда-либо говорила. Я освобождаю тебя от слова. Я даю тебе разрешение. Делай со мной, что хочешь.
Он обернулся — резко, как будто хотел выпытать у нее, не издевается ли она над ним. Потом его лицо приобрело выражение полнейшего шока, как будто он не в силах поверить этим словам.
Губы его сложились в широкую улыбку, разорвавшую лицо пополам, которая ее испугала, и она взмолилась:
— Только пожалуйста, Люк, пожалуйста, нежнее.
— Разве когда-либо я был с тобой груб? Разве я делал тебе больно?
— Нет. Нет, никогда.
Он протянул дрожащие руки и привлёк к себе. Он стоял, слушая ее дыхание, греясь об неё.
Хмурое ноябрьское небо сжалилось над ними, и первые снежинки, обречённые на то, чтобы растаять, падали на ее платье, на его свитер, на их склонённые друг к другу головы.
Наконец, он взял ее за плечи и вывел с балкона, подвёл к кровати, усадил и снова обнял, уже сильнее, пробуя свою власть и утверждая своё право.
— Какая же она страшная, — сказала Лея.
— Кто? — переспросил он. Но она глядела мимо него, вдаль и вниз. И Люку вдруг стало холодно — такой молчаливой и отчаянной она уже была… Но не с ним. Он уже видел это, и это его сейчас испугало: ему казалось, что она полна решимости вынести все, что с ней случится. Не такую Лею он хотел видеть рядом с собой. Она же ответила спокойно:
— Да вот эта твоя страсть. Одержимость. Чёрная. Иссушающая. Больная.
— Это не одержимость, — сказал он, отодвинулся подальше. Убрал от нее руки, отвел от нее глаза, в сторону, словно вглядываясь во что-то незримое, словно ища ответы на вопросы жизни и смерти в холодно-голубых бумажных обоях. Сказал ровно:
— Это любовь. Я люблю тебя, правда. Я тебя всегда любил. Когда ты была малышкой, однажды перепачкала все руки в вишне, я помогал тебе их отмывать и думал о том, что я тебя люблю. Когда ты была ребенком, и ночами рассказывала сказки, которые сочинила, я слушал и думал о том, как мне повезло, потому что я люблю тебя. Когда ты стала девушкой, я смотрел, как ты причесываешься, и думал, как я люблю тебя. Когда Вейдер бил меня до полусмерти — я был рад, я был счастлив! Потому что он не трогал тебя. Когда я был в зале суда, я видел, как ты сжимаешь кулаки и плачешь, и мне было все равно, что будет со мной — но сердце сжималось от твоих слез. Когда я был в тюрьме, я засыпал и просыпался с твоим милым лицом перед глазами. Когда несколько отморозков хотели удушить меня в темноте и караулили момент, я не спал три ночи подряд — я мысленно разговаривал с тобой. Я много читал в тюрьме, Лея, и мало знаю жизни: я понимаю, что мир огромен, а я только и делал, что жил взаперти. Я только и делал, что проливал кровь — свою и чужую. Терпел боль и ее причинял. Но не тебе. Но не с тобой. Я люблю тебя. Не знаю, законно это или нет. Грешно это или нет. Но это любовь. Я хочу только твоего счастья. Конечно, я хочу быть счастливым сам тоже. Хочу быть с тобой, жить с тобой, просыпаться с тобой, носить на плечах наших детей, пыль стирать со всех фарфоровых статуэток, удить рыбу, играть в регби, а ты чтобы болела с трибун. Но это неважно — чего хочу я. Скажи мне, чего ты хочешь от меня? Чтобы я забыл дорогу в твой дом? Чтобы я остался и жил у твоих дверей? Чтобы я ушёл на войну? Всегда найдётся какая-нибудь война. Я сделаю это, Лея. Тебе нужно только сказать. Я дам тебе это. Я ничего не потребую взамен. Вот что это такое. Это любовь, сестра. Я тебя лю…
Он не договорил — почувствовал, как ее холодные тонкие пальцы поспешно обхватывают его голову, как она решительно приближает своё лицо к его лицу и приникает губами к губам, словно надеясь выпить до дна, до горького остатка, все слова, что он сейчас сказал.
Люк обхватывает руками ее плечи — со страшным напряжением, с надрывом, с чудовищным усилием воли, потому что он сейчас, только сейчас понял окончательно — что она сама целует его. Что она — сама.
Можно.
Он, сходя с ума от этих мыслей, понимая, что надо держаться — не сломать, не причинить боль, не напугать ее — и понимая, что держаться нет никаких сил, когда она так нежно и жадно целует его. Но он обязан сдержаться — и он справится.
Его пальцы дрожат от напряжения, от конфликта воли и желания, делаются бестолковыми, как у подростка, едва справляются с пуговицами ее пиджака. Когда он касается чистой кожи ее лебединой шеи, ему кажется, что его бьет электрический разряд.
Он знает Лею как себя. Лучше, чем себя. Он знает, что она любит, а чего лучше не делать. Он думал, что мог забыть это с годами, но не забыл. Он ведь действительно всегда ее любил, баловал, за радость почитал исполнять капризы и носить на руках.
Ее тело слепит, блестит и скрипит после душа. Она ловко перебирает его пуговицы, размыкает их, распахивает рубашку, касается его светлых кудрявых волос на груди. Погружает в них пальцы, проводит ими ловко, как весло под водой.
Люк понимает, что это ново для неё — у неё в голове был образ худого мальчишеского тела, скорее гладкого и андрогинного, чем мужественного. И для нее новы перекаты его мышц, натренированные долгой физической работой, его расширившиеся плечи. Ему кажется, что его физическая сила даже смущает ее, даже — только не это! — пугает ее. Он вдруг осознает, что пальцы вцепились в ее плечи, как чужие, как крабьи клешни, и он поспешно разжимает их. Обеими руками он теребит ее еще влажные волосы, пропускает их между пальцами, свивая в кольца и снова распрямляя: так он может доверять своим рукам. Но Лея снимает с него рубашку — приходится оторваться, сначала один рукав, потом второй, под ней — белая несвежая, пропахшая его потом, майка. Он сердито сдергивает ее, намереваясь убрать подальше, но Лея неожиданно тянет ее на себя, прячет лицо, шумно вдыхает несколько раз, не выдыхая, прежде, чем отложить в сторону, и Люка вдруг прошибает пот осознания того, что он тоже желанен. Она делает движение к нему навстречу, садится на колени совсем близко — опаляет своим жаром, и он обхватывает ее руками и ногами, сгорая в невыносимой двуфракционной смеси жажды обладания и чистой, возвышающей любви.
Лея склоняет своё лицо к его торсу и каждый его уродливый шрам покрывает благословляющим поцелуем. Люку кажется, что стоит ему взглянуть пристальнее — и он увидит, как под ее губами исчезает каждая проклятая отметина. Обновлённый, исцелённый ее любовью, он восстанет из любого пепла, как феникс, одетый, как в свадебный наряд, лишь в ее любовь.
Он снимает с нее свитер, поднимает мягкую ткань платья. Обнажает колени, бедра, талию, грудь, и с каждым новым рубежом его сердце останавливается на мгновение и забывает толкнуть кровь. Лея помогает ему, снимает платье через голову, и Люк видит, что она стала старше, окончательно созрела и расцвела, что ее бёдра разошлись, грудь увеличилась и появилась легкая складка живота. Она не похожа на ту Лею, что была в его видениях, — тончайшую, едва не переломанную ветром, — но эта Лея намного лучше, потому что она живая.
Лея — такая же, как он помнит, жадная, отзывчивая телесно, восхитительно гладкая и бархатная на ощупь. Лея — новая, более грациозная, более мягкая, чем раньше, более смелая и знающая.
Кожа ее полыхает, то невыносимо жжет напалмовым огнем, то холодит, как лед, спящий так глубоко, что никогда не видел солнечного света. Люк гладит любовно ее тело, щекочет, и она вдруг смеется — и этот смех разбивает заклятие молчания. Он улыбается ей, касается губами губ, и они разделяют на двоих этот поцелуй — примерно так, как делят все остальное: кровь, отца и мать, страх, ненависть и прощение к Вейдеру, их ребенка, их желание и одну душу на двоих.
Ночь расцветает стонами и вздохами, яркими именами, отстреливающими, как гильзы, срывающимися с губ, легкими, как горный ручей, как веселящий газ, одинаково начинающимися в самой верхней точке нёба, — чтобы обрушиться вниз, как у нее, или метнуться к зубам, как у него.
Люк укладывает ее на лопатки, проходит губами по груди — она дрожит под ним, покрывается мурашками, тихонько стонет. Ему хочется продлить этот миг — для нее, и для себя, доказать — себе и ей — что их желание обоюдно, что его трепет перекликается с ее дрожью, что его поцелуи будет в ней этот огонь. Но Лея — всегда одна Лея — тянет его на себя, впивается больно ногтями, и Люк следует за ее безмолвной просьбой.
Она раздвигает ноги, а он прижимает ее к кровати, она улыбается, и бьется в его руках, как рыба о землю, вьётся, как змея, танцует, как пламя костра.
Он запрокидывает рукой ее голову, впивается поцелуем, больше похожим на ожог, в беззащитную шею, а она царапает его плечи.
Воздух в комнате тяжелеет и замирает, как в преддверии таинства, но близнецы не видят этого, потому что не могут остановиться.
Они сочетаются, как небо и земля, как впервые, и страшное напряжение заканчивается, разливается животворящим дождем, из одного которого и появляется все сущее.
Он обнимал ее сзади, а она, вытянула руки вперед, как потягивающаяся кошка, вдруг спросила:
— Почему ты этого не говорил раньше?
— Чего? — непонятливо спросил он.
— Того, что ты меня любишь.
— Я говорил, — сказал он удивленно.
— Нет, я имею в виду, взрослым, когда вернулся.
— Лея… Я чинил все по дому. Я делал все, что ты хотела. Я даже ни слова не возразил против Хана! — сказал он со смешком, призванным скрыть смущение.
И Лея поняла, что он проглотил бы свой недавний страстный монолог, что он без зазрения совести стер бы его из ее памяти. Что он высказал это все только потому, что был на самом последнем пределе, что его штормило, било о скалы, тянуло ко дну точно так же, как ее.
Лея заворочалась, повернулась к нему лицом, очень нежно коснулась губами его подбородка — и снова отстранилась.
Он улыбнулся ей, погладил, потом его ладонь легла на ее талию и соскользнула ниже.
Он нахмурился вдруг и провёл несколько раз по ее боку, словно желая разгладить сеть белых тонких шрамов, идущих параллельно друг другу, похожих на множество молний. Ему это не понравилось — он всегда очень внимательно относился к отметинам на ее теле. Он спросил, нахмурившись:
— Откуда эти шрамы?
Лея изогнулась, бросила взгляд и прикрыла их ладонью:
— Просто растяжки. Не смотри, некрасиво.
Он осторожно отнял ее ладонь, и снова провел пальцами по клубку тонких молний.
— Растяжки?
— Ну да. У многих женщин, которые рожали детей, такое есть. Кожа не успевает растягиваться, когда живот растет…
Люк потемнел лицом, а потом поцеловал ее бок и сказал уверенно:
— Мы его найдём.
В этих словах Лея снова почувствовала то, чего хотела бы больше никогда не слышать: его темную одержимость, его готовность сделать все ради своей цели.
Лея чувствовала, что у неё кружится голова, что она плывет, и весь разум ее, вся душа ее стали осенней паутинкой на ветру. Она не знала, что готовит утро — она не знала, какой встанет с этой постели, с этого ложа наслаждения и позора. Она не знала, будет ли она в отчаянии или будет счастлива. Будет ли она влюблена или почувствует отвращение. Захочет ли она удавиться или захочет снова обнять его. Лея подняла руку и провела пальцами по старому деревянному изголовью. Эта кровать видела много таких, как она, — растерянных, мятущихся. Эта кровать видела много объятий, и, наверное, слез — не меньше. Она видела много пар и много утр.
Что будет утром — утро и покажет.
Но сегодняшняя ночь еще не кончилась — и Лея, изогнувшись, любовно прильнула к своему брату-близнецу.

Глава 11
Наутро он, очнувшись, снова потянулся к ней, снова привлёк ее к себе. Обнял сзади, поцеловал шею.
Ему казалось, что она как рыбка ускользнет из его объятий на глубину и больше не вернётся, поэтому он сжал сильнее. Ему вдруг вспомнилось, как отец брал его на рыбалку с собой — когда он ещё иногда бывал нормальным — и как весело, отчаянно и безмолвно бились рыбы о землю, в попытке вернуться туда, куда им возврата больше не было и нет.
Он провёл пальцами по ее выступающим позвонкам.
Он почувствовал, как она зашевелилась, и не убрал руки, а наоборот обхватил Лею чуть плотнее: ты дала мне позволение. Я могу тебя касаться. Ты привыкла ко мне, я больше не напоминаю тебе чудовище. Я твой, ты моя. Мы будем счастливы теперь и всегда.
Лея замерла под его руками. Он хотел дождаться, пока она развернётся, но в итоге не выдержал и приподнялся на локте, посмотрел на неё.
У неё было странное отсутствующее лицо, она смотрела впереди себя в одну точку, как будто не до конца очнулась ото сна. Люк содрогнулся и спросил:
— Я был груб с тобой ночью? Я… мог… Я долго ждал этого.
— Нет, что ты, — тихо сказала она, и в глазах стояли слезы.
Ему хотелось повторить волшебство прошлой ночи, плавая в золотой взвеси мутного утра, проникнутого его пылающим не одиночеством, но ее слезы в глазах, как одна капля яда, отравляли все вокруг.
— Почему ты плачешь?
— Я не плачу.
— Я же вижу, Лея.
Она только упрямо потрясла головой.
— Мужчина всегда получает больше, — сказал он виновато.
Она залилась чистыми, освобождающими, светлыми слезами.
Он привлёк ее к себе, обнял, баюкал, как ребёнка.
Тогда:
Люк не помнил, когда в первый раз увидел Гостью.
Кажется, он был довольно мал, но когда он стал взрослым, то не мог отличить реальность от своих страхов. Что было там, на полу на кухне — кровь или томатный сок? А что-то мягкое в ведре — старые тряпки, мех, или женские волосы? Крики, которые он слышал — они шли из телевизора или из подвала? Люк многого не понимал, и это непонимание хранило его так, как ничто больше не могло хранить его.
Наверное, ему было уже около одиннадцати лет. Отец уже не звался «папа», но пока еще не требовал все время называть себя «Вейдер». Они с Леей все детство гадали, что такое «Вейдер» — потом только узнали, что это «отец» по-голландски. Когда он — папа? отец? Вейдер? — был маленьким, они с мамой жили в Голландии. Она работала прачкой, трудно, каторжно, до кровавых мозолей на пальцах. И обожала единственного сына. Люк и Лея никогда не слышали об отце их отца, но по тому, как он всегда обходил эту тему, решили, что за этим стоит какая-то тяжелая и болезненная история. Лея считала, что дед просто бросил бабку при известии о беременности, но Люк предполагал, что жизнь была гораздо страшней, и возможно, их отец появился на свет в результате насилия.
Бабушка умерла рано, надорвавши здоровье, стирая по колено в холодной воде, простудившись, сгорев мгновенно, не как свечка даже — как соломинка. Вейдер очень горевал по ней, и при упоминании матери в нем всегда проскальзывала теплота.
Люк увидел Гостью в первый раз, когда был достаточно взрослым, чтобы это осознать, но был еще слишком ребенком для того, чтобы спокойно это пережить.
Первый раз был самым страшным.
Потом он привык. Потом он был даже благодарен Вейдеру — потому что в самом кровавом амоке своего безумия, отец не забывал, не путал, отец закрывал на ключ дверь спальни на третьем этаже прежде, чем спуститься в подвал. Потому что он в своем безумии придумал выход, до которого ни один одиннадцатилетний любящий брат не додумался. До которого не додумался бы ни один нормальный взрослый человек. До которого могла додуматься только эта чудовищная, уродливая смесь кровавого безумца и любящего отца.
В тот самый, невыносимый, страшный первый раз… Вейдер положил мощную руку на худое мальчишеское плечо. Люк вздрогнул — он был увлечен игрой в мяч, он не услышал шагов, которые на улице не гремели так, как в доме. Он хотел вырваться, но Вейдер сжал руку сильнее, и потащил за собой.
Сказал:
— Хочешь защитить сестру? Иди, загляни в подвал. Там она лежит, мертвая.

Люк шагнул внутрь, в невыносимый провал, в адскую бездну, ведомый страшной силой покорности отцу и ужасом о том, что там — его Лея. Он спустился по лестнице, запинаясь на каждой ступеньке. Холодный свет залил помещение — Вейдер, оставшийся наверху, нащупал выключатель. Люк преодолел несколько шагов и выдохнул от облегчения.
Девушка, лежащая на полу навзничь, была похожа на сестру. Но волосы были чёрными, а не каштановыми, куда короче, чем сестрины, и она была массивнее Леи. Девушка лежала неестественно, под углом, и не шевелилась. Люк — мысли его стали плоскими, черно-белыми — подумал мимоходом о том, что нужно прорыть подземный ход из подвала. Чтобы она могла бежать. Чтобы он мог бежать. Чтобы все они могли убегать, через узкую тесную землю, через судороги ползанья, через чисто выметенный двор, перемахнув через забор, прямо по бескрайнему полю, через сосновый лес — в бело-синюю небесную высь, где нет страданий и боли. Чтобы туда можно было добежать, воспарить, не заметив, как умер.
Но он знал, что не сможет спуститься в подвал добровольно. И не пустит сюда Лею — никогда и ни за что. Хода не будет. Выхода не будет.
Как голос бога, из поднебесья прогремел Вейдер:
— Я убил Лею, чтобы ее не убивать. Чтобы ее защитить. Чтобы никто не коснулся ее. Правда, я здорово придумал? Она умерла молодой и не умрет теперь родами.
Вдруг Вейдер наклонился к сыну и отчаянно зашептал — так, что Люку приходилось прислушиваться:
— Береги ее! Не позволяй никому обидеть ее! Лея — вот кто важен. Лея — вот кто имеет значение. Лея — вот кто имеет смысл.
Множество ликов промелькнуло, сменилось на лице отца, пока Люк тяжело, как младенец или старик, поднимался по лестнице, надеясь хоть на сегодня, хоть на час, хоть на миг избегнуть этого места. Люк остановился на последней ступеньке, уверенный, что огромные руки ударят его, низринут вниз, в ад, к телу убитой девушки. Но Вейдер не стал ему мешать, отклонился, давая проход, и сказал другим голосом, ломким и тяжелым, как весенний лёд:
— У тебя не получится. Тебе ее не защитить. Никому ее не защитить. Никто никого не может защитить. Мужчины умеют только разрушать. И ты разрушишь, рано или поздно. Ты — ты сам — ее разрушишь.
Сейчас:
Они так и лежали в тишине, а потом он сказал:
— Нам надо ехать домой.
— Раз я все равно взяла отпуск на две недели, может нам съездить в Портленд? Здесь недалёко… И я хочу увидеть океан. Я о нем только читала. Говорят, там есть маяк, которому несколько сотен лет… Представляешь, он светит в ночи — своим дерганым светом — и корабли безопасно пристают к берегу. Я хотела бы быть маяком в следующей жизни…
— Ты и так маяк, — очень тихо сказал Люк, не уверенный, что она услышала. Она спросила деловито:
— У тебя много денег с собой?
— Довольно много.
Люку сначала не очень понравилась эта идея, но потом он подумал обо всех утрах, в которые будет просыпаться рядом с ней, и он сказал:
— Я не против.
Он не понимал ее отчаянного стремления вырваться из дома, считал, что гиацинты могут расти на подоконнике, а ветер, гудящий в крови, успокаивается лишь открытием нескольких окон. Но он понимал, что возвращение в дом неизбежно, как бы она ни избегала этого. Нельзя существовать, если нет дома. Дом неотвратим. Они могут покружить недолго по свету, но все равно вернутся туда, откуда ушли.
Он коснулся ее обнаженной груди, почувствовал, как снова поднимается внутри горячая и влажная волна желания. Он чувствовал, как тело снова реагирует на ее близость — и ему показалось, что она подалась к нему ближе, что она тоже раскрылась и распахнулась ему навстречу. Люк притянул ее к себе, накрыл жадно своим телом, но она остановила его и сказала:
— Сначала нужно зайти в аптеку.
Наткнувшись на его непонимающий взгляд, пояснила, дрожа:
— Вдруг дети.
Он обвил ее плечи, резко и радостно притянул ближе, сказал на ухо:
— Это же хорошо. Это же замечательно. Пусть у нас будут дети. Две девочки. Нет, близнецы. Пусть у нас будет много детей. Только представь, как будет здорово. Они будут любить друг друга и защищать. Пусть будут дети, милая.
Лею замутило, когда она подумала о прошедшей ночи, о близнецах и она решила, что, если вдруг окажется, что она беременна, она сделает аборт любой ценой.
Больше никаких близнецов. Близнецы не должны рождаться. Одного нужно убивать. Сразу.
Это милосерднее, чем все остальное.
Потом она посмотрела на Люка, чьи вены на лбу вздулись, как каинова печать, и почувствовала, что хотя он, покорный ее жесту, и отстранился, но продолжает гладить ее, и подумала, что если он узнает, то не даст сделать аборт.
И почему-то, сама не осознавая зачем, она подняла свои узкие ладони и погладила его лицо. Он улыбнулся ей, виновато и нежно, как в тот, их самый первый раз.
Тогда:
Почему-то они разговаривали больше всего в постели. Весь остальной дома был подвластен Вейдеру, как злому колдуну, что окутал чарами все пространство, и близнецы жили затаясь, вполсилы, в пол-вздоха, стараясь как можно меньше попадаться ему на глаза. Но здесь, наверху, скрытые, затерянные, как в тумане, они жили свободно и говорили вслух.
Обострения Вейдера имели цикл — в некоторые моменты он становился почти нормальным. Особенно после того, как его навещали Гостьи. Одной девушки ему хватало надолго, месяцев на девять, но период перед ее Визитом был совсем невыносим. Обычно это длилось от недели до месяца, зависело от момента, когда Вейдер найдет и приведет Гостью в дом. В это время Вейдер ходил воспаленный, злой, он крушил и ломал все, в том числе дом — дом страдал вместе с ними.
В этот период он мало спал, глаза у него были воспаленными, красными, а губы почему-то высыхали и трескались по краям. В это — и только в это время — он почти плевал на Люка, но становился очень опасен для Леи. Один раз он швырнул ее о стену так, что на предплечье остался шрам.
Люк вытирал ее кожу чистой тряпкой и долго хмурился, глядя на эту отметину. Он чувствовал, что что-то зреет внутри него, какое-то решение, какой-то ответ, но пока это все было слабо и зыбко, как огонек спички.
Он ограничивался тем, что в периоды перед Гостьями прятал Лею наверху, на третьем этаже. Она зверела взаперти, металась по комнате, перечитывала по кругу все доступные книги, но понимала, что выходить слишком опасно.
— Как поживает принцесса в башне?
— Не смешно! Пойдем, побегаю хоть вокруг дома.
— Погоди, он еще не лег.
Люк сел на кровать, снял ботинки. Она, стоя на коленях на кровати, нависла сзади, обняла за плечи. Он поймал ее ладонь, погладил пальцы и сказал сочувственно:
— Совсем тяжело?
— Ничего, — сказала она ровно. Он не поверил, потянул ее за руку на себя, через плечо, и она ловко и привычно приземлилась головой к нему на колени.
— Нет, правда, ничего, — сказала она задумчиво, не замечая его пытливого взгляда, — В прошлом году было хуже. Знаешь, так хочется с одной стороны, чтобы это закончилось скорее, а с другой — ведь там же будет живая девушка, Люк… Бедная девушка… Я ее себе сегодня представляла…
Он вздрогнул. Лея знала все только по его рассказам, но он это видел, он вытирал кровь, слышал крики, и их сорванные голоса снились ему ночами.
Лея поерзала, залезая плечами на его колени, протянула руки к его лицу, поймала пальцами прядь золотых волос, и сказала бессвязно:
— Люк, может быть, все-таки…
Он нахмурился, поняв, о чем она.
— Мы это уже обсуждали. Нет.
— Он все равно бьет тебя за это. Нет никакого смысла получать за то, что мы даже не делали! Люк, если мы не будем ему противостоять — хотя бы так, то он нас сожрет с потрохами… — Она запнулась, а потом продолжила твёрдо, — Люк, я хочу этого.
— Для женщин это больно. Я не стану причинять тебе боль.
— Слушай его больше! В книгах написано, что больно только в первый раз.
Она начала гладить его лицо.
— Ведь это же хорошо, правда? Тебе нравится, да? Тебе нравится.
Ее пальцы скользнули по его шее, потом подлезли снизу футболки, пощекотали живот, пробежали по груди.
— Почему мы должны отказываться от этого? Это делают люди, которые любят друг друга. Ты же любишь меня?
— Да. Конечно, люблю. Но он говорит, что женщины умирают в итоге.
— А ещё он называет меня Падме, и говорит, что ты меня бьешь. Он все врет. Ну же, погладь меня.
Он напрягся и даже отвернул лицо. Но Лея сказала:
— Вдруг однажды он не найдет Гостью, а найдет меня?
— Я не позволю этому случиться, — твердо сказал Люк.
— Я никогда не была в подвале. В смысле, дольше нескольких минут.
— И не надо. Не заходи. Не приближайся.
— Почему все вокруг страдают, а я — нет? Страдают вместо меня. Бедные Гостьи… И ты… Я хочу разделить с тобой и это тоже.
— Не нужно, Лея. Не думай об этом.
— Все мое — твое. И все твоё — мое. Я хочу разделить с тобой все. И боль. И наслаждение. И любовь. Милый мой…
Она подняла руки, выставив вперед запястья, и он взялся обхватил их своими широкими ладонями, как кандалами. Она лежала перед ним, на его коленях, взгляд у нее был какой-то ускользающий, туманный, ее кожа жгла ему ладони.
Люк сглотнул: с ним что-то происходило. Он вспомнил все свои ночные грезы — там была она, одна она…
— Просто погладь меня. Мне будет приятно. Пожалуйста, брат.
И он, послушный ее просьбе, опустил руку и начал гладить ее тонкую белую шею. Он сглотнул, и ощущения вдруг стали острыми, яркими, почти болезненными, и его ладонь скользнула чуть ниже — Лея сама распахнула белую кофту, под которой ничего не было, и его дрожащая ладонь вдруг споткнулась о ее белую, как крахмальную, грудь.
Лея выгнулась навстречу его руке, он почувствовал, как у него приятно кружится голова.
Он потянул за один рукав кофты, потом за другой, и она осталась голой по пояс. Узкая юбка плотно обхватывала ее ноги, и она казалась похожей на русалку.
Он чувствовал, что несмотря на все ее уговоры, она ждёт от него руководства.
Перед ним проносились все образы, которые он раньше гнал от себя, которые он раньше не смел применить к ней: обнаженные женщины, взрослые, с мощными бёдрами, которых он видел в книгах по искусству: преследуемые козлоногими сатирами, страстно изогнутые, волоокие и томные, даже когда подпись к картине говорила о насилии. Худые, атлетичные женщины с зачёсанными волосами и яростным, манящим взглядом, которых он видел на взрослых кассетах, которые иногда забывал в проигрывателе Вейдер.
Все это не вязалось с его тонкой, нежной, хрупкой сестрой, так доверчиво и беззащитно лежавшей сейчас на его коленях. Лея была чём-то другим, в Лее было что-то другое: белое, пылающее, непорочное, священное даже в самом изгибе ее полуобнаженного тела, что-то, к чему он не смел припасть, что-то, чего он не мог осквернить.
Мысли его, замороженные, слегка мазутные, перекинулись к мужчинам, к острому и злому запаху отцовского пота, к тому, как отец ходил по дому — властно, шумно, громко. К сатирам, к мужчинам с кассет, которые покрывали женщин бездумно, с ленью в глазах — к той мужественности, с которой он не хотел себя равнять.
Он подумал о сказках, которые они с Леей читали друг другу в детстве, где принцесса всегда была наградой за доблесть, где она всегда доставалась рыцарю после убийства дракона, как драгоценная, но все-таки вещь. Но и с принцами он равнять себя не мог: он ещё не совершил свой подвиг, он никого не спас. Он не был пока мужчиной, он им не стал, он не имел права нарушать запреты, не имел права вторгаться в белое, хрустальное тело, раскинутое доверчиво перед ним.
Рука его замерла, как рука вора, поражённая небесным огнём, отсохшая по локоть, отмеченная небесным гневом за прикосновение к святыне. Но Лея — всегда одна Лея, словно почуяв его ужас, его сомнения, его колебания, вдруг протянула белые руки к нему, притянула его к себе, заставила припасть, склониться, как вербу, к своим розовым, нежным губам.
И Люк вдруг остро понял, что и картины, и романы, и сказки, и кассеты — все лгали. Что женщина — не вещь, не награда, что это дар, который нельзя отнять или взять силой, что она венчает собой, что она дарит — себя, что это — ее выбор, что это — таинство, которое она над ним совершает, что она — превращает мальчика в мужчину, избирая достойного. Что так было от века — и будет впредь.
Он медленно приподнял Лею, уложил на кровать, лег рядом, но все-таки не вплотную. Она улыбнулась ему, обхватила его за шею, приблизилась, видя его колебания, сказала нежно:
— Мы же близнецы. Мы и так едины…
Он обнял её, обхватил за узкую спину своими пылающими руками, словно желал их остудить в снежной белизне ее тела, успокоить это адское пламя, что выжигало его изнутри, от кончиков пальцев до волос, с которых, казалось, слетали искры, до чресел — которые стремились к ней, потому что он сам к ней стремился, всегда, ещё до рождения, как будет стремиться — он знал это теперь наверняка — и после того, как придёт предел его смертным дням и пойдёт счёт дням вечным.
Его пальцы потянулись к ее юбке, пробежали по кругу в поисках молнии, не нашли и побежали снова, заколдованные, по кругу, но вдруг встретились с ее белыми руками, которые бережно направляли. Молния скрипнула и разошлась, он с силой потянул юбку вниз — Лея помогла, сама скомкала ткань и отбросила в сторону, как волшебное оперение, как змеиную кожу. Люк отстранился от неё на мгновение, желая запомнить, запечатлеть увидеть ее — всю ее, до конца. Лея вытащила из прически смертоносные, сверкающие шпильки — как острые кинжалы — и Люку показалось на мгновение, что они вонзятся в его бесстыдные ладони.
Но Лея — карающая и награждающая, властная и покорная — отбросила их тоже, в сумрак, в темноту ночи, в непроглядную тьму несуществования, которая была всюду за пределами их ложа, их алтаря.
Его ремень щелкнул, как сброшенные оковы долга, высек искру, распался, как змея, что прежде пожирала себя за хвост, но выбрала теперь — жизнь и счастье, и любовь.
Он знал, что нужно делать, и страшился, за неё больше, чем за себя, потерянный и одинокий в этом бушующем единстве. Он — вдруг, впервые за всю жизнь — перестал понимать ее, перестал чувствовать, что чувствует она, расхлестанный, распаянный, он понял, что иной дороги к единению у него больше нет, и остаётся только идти вперёд, что там, впереди, пылающая Голгофа и смерть, и там, впереди, — надежда на воскрешение.
Люк стащил с себя штаны — ее руки снова успокаивали и ободряли, помогали и нежили — и поразился тому, что столь разные тела, как его и Леи, могли выйти из одного начала.
Его тело показалось ему грубым, наброском творца, смятым и невыброшенным в корзину лишь по странной прихоти, немного смешным с этим отростком, налитым пульсирующей кровью. Его большие руки, его незажившие шрамы, его грудь и ноги, покрытые первыми волосами — все то, что он знал про себя, — вдруг показалось ему недостойным ее. Её тело — гладкое, белое, изгибистое, ее тонкие запястья, ее маленькие белые ступни — казалось ему совершенным, сделанным из мрамора. Он пробежал по ней руками, неловко, жадно, неумело, не так бережно, как ему хотелось бы, но иначе он не умел.
Она вдруг прильнула губами к его телу, ее поцелуи оставляли на нем незримые следы, как тавро, как ожоги.
Она пахла свежестью и счастьем — он знал этот запах всегда, он, просыпаясь, чувствовал его на соседней подушке, ощущал его там, где она проходила, как зверь, закрыв глаза, мог следовать за нею — ее запах вдруг показался ему чужим и вожделенным. Она отняла ладони, раздвинула ноги, раскинулась, готовая принять, и нежно улыбнулась ему.
И тогда Люк решительно подтянул ее под себя, очень осторожно, не дыша, задыхаясь от удушья, вошёл в неё. Ее тело — узкое, нежное, девичье — приняло его, обхватило со всех сторон, и он почувствовал себя, наконец единым с нею. Она сжалась под ним, правой рукой обвила его за шею, а левую зачем-то поднесла к своим губам.
Он попал в этот ритм, древнейший, как песня и стон, последовательный, как прилив и отлив и почувствовал, как его несет волнами к пылающему пику, маячащему прямо перед ним.
Лея под ним — напряженная, мягкая, гладила его правой рукой, вжималась в него все крепче, как будто не он был тем, что причиняет ей боль, как будто он был тем, что ее исцеляет.
Он кончил — неожиданно для самого себя — обмяк, ослабел, а она все дрожала под ним, не понимая, что он замер. Он поцеловал её в лоб, как сестру, откатился, а она — внезапно устыдившись чего-то, потянулась и к одеялу, обернула его вокруг себя, плотно, как будто свадебное платье.
Ему хотелось выразить свою любовь, свою благодарность, он снова прильнул к ней, погладил по голове, обнял, поцеловал в висок и сказал тихо:
— Ты даже не вскрикнула.
И она улыбнулась ему в ответ, погладила пальцами лицо и показала ему свою левую ладонь, покрытую белыми укусами — чтобы перетерпеть, чтобы молчать.
Люк виновато и бережно покрыл ее руку поцелуями.
Они долго лежали в темноте, обнявшись, потом Лея, как подорванная, резко села, соскользнула к краю кровати, морщась от движений — или ему так только казалось? — торопливо оделась, словно стараясь не показываться ему, а после потянула на себя простыню. Он встал тоже, замер у кровати, пытливо вглядываясь в ее лицо, а она сказала, не глядя на него:
— Кровь…
Он помог ей стащить простынь, которую она быстро скомкала, хотела было двинуться к двери, но он осторожно остановил ее, забрал белый комок ткани из рук и сказал нежно:
— Там Вейдер. Не выходи. Я сам постираю. Давай сюда.
И когда он, стоя в ванной, замочив белье в тазу, привычно прислушиваясь к звукам дома, умело и быстро начал застирывать простыню, ему хотелось одновременно петь и плакать.
Глава 12
Когда они вернулись, дом встретил их сыростью и холодом: Люк, словно чувствуя, что уходит надолго, перекрыл отопление.
Они молча разбрелись по дому, не раздеваясь, в сапогах, как захватчики или воры. Было что-то упоительное в том, чтобы топтать пол отряхнутыми от снега, но грязными ногами, немытыми руками в перчатках трогать предметы: как будто наблюдать за чужой жизнью — две недели назад она и была другой.
Другая женщина жила здесь: она знала, чего хочет, она не спала со своим братом, она бегала от него, ее волновали сплетни на работе, она хотела выйти замуж за своего парня-дальнобойщика, она боялась бездны.
Лея села на стул в кухне. Ее, сегодняшнюю Лею, бездна уже сожрала: она просто летела в пропасть по инерции, гадая, что лучше — ободраться об острые края или умереть от удара о дно. Ее вдруг начали безумно раздражать все безделушки, которые она раньше старательно накупала: то, что казалось ей земным якорем, символом ее собственного решения, обликом ее — и только ее дома — вдруг начало казаться безвкусицей и пошлостью.
Она достала мусорное ведро, плотный пакет, и начала отчаянно, безрассудно и громко стряхивать все вниз, в помойку. Открыла холодильник — там лежал плесневелый хлеб. Она замерла на мгновение, потому что нельзя выбрасывать хлеб, но потом подумала — что она через столько уже преступила — и закинула в мешок и его тоже. Салфетки, вазы, собачки, — она разошлась, раскраснелась, ей стало жарко. Она начала бросать в пакет тарелки — зачем им много? Вилки — хватит и двух!
Замерла на мгновение. Может быть, хватит одной?
Нет, теперь две. Хочет она этого или нет, ей не вырваться. Не уйти из дома.
Она замерла — что еще? От чего можно избавиться? Что можно разрушить?
В комнате было темно. Тогда Лея подошла к окну, ей было тесно, ей казалось, что могильные плиты лежат на ее груди, и ни капли света не проникает в ее саркофаг.
Она рванула шторы со всей яростью, на которую только была способна.
— Что ты делаешь? — как тень, он возник за ее спиной.
— Надоело, — коротко сказала она.
— Давай я влезу и сниму?
— Нет, — сказала она и дернула штору сильнее.
Она дергала и дергала, почти повисла всем своим весом, но проклятая ткань все никак не рвалась, карниз гнулся, но не ломался.
Она дергалась сильнее, отчаяннее, как утопающий, как муха в паутине, и вдруг почувствовала усиление нажима, что ее силы удвоились, услышала заветный треск. Штора беспомощно соскользнула к ее ногам, и холодный свет декабрьских фонарей затопил кухню. Лея увидела, что Люк держится за другой край.
— Кто тебя просил? — огрызнулась она.
Он выпустил ткань и спросил:
— Я обидел тебя?
— Нет. Нет, извини. Все нормально.
— Тогда почему ты разговариваешь со мной подобным тоном?
Его голос звучал ровно и холодно, но Лея вдруг пошла мурашками. Она не нашлась, что ответить, и он продолжил спокойно:
— Не делай так больше, сестра.
— Или что? — белыми губами спросила она, пытаясь хотя бы звучать гордо.
Он внимательно посмотрел на неё и сказал:
— Мне это неприятно.
Она опустила голову и выпустила безвинно разорванные шторы из рук — они волной застлали стол, часть пола, как будто укрывали мебель в чехлы для очень долгого отсутствия. Для дома, в котором никто не живет.
Люк взял их, распластал на полу, быстро и аккуратно свернул:
— Завтра купим жалюзи, если хочешь. Или оставим окно открытым?
Она пожала плечами — ей вдруг сделалось все равно.
— Идём. Я включил радиатор в спальне, она прогреется быстрее всего. Да и время уже позднее.
Прошла неделя. Все семь дней она просыпалась и вздрагивала, видя его лицо, ее начинало расщеплять в единый момент: одна Лея тянулась к своему Люку, как тянулась всегда, с самого рождения, как тянулась еще в утробе, другая Лея сходила с ума от невозможности бежать, и осознавала весь ужас нарушенного табу. Голос второй Леи был тихий и слабый, но он отравлял счастье первой, маячил призрачной тенью, от которой было не избавиться.
Лея надеялась в Люке найти опору для борьбы с самой собой.
— Ты счастлив? — спрашивала она за утренним чаем.
— Ты счастлив? — спрашивала она, когда он обнимал ее ночами.
— Ты счастлив? — спрашивала она, когда они гуляли по тихому и снежному парку.
И он неизменно отвечал:
— Да.
Утром седьмого дня Лея приблизила свое лицо к его лицу и спросила:
— Тебя не мучает то, что ты — мой брат?
Он посмотрел на нее в упор, и одновременно - сквозь нее.
Ей вдруг показалось, что она как будто спрашивает о чем-то запретном, что если никогда не произносить этого слова, никогда не упоминать об их родстве, то можно сделать вид, что все нормально, что это не тот Люк, который рос с ней, который защищал ее, что это другой парень, от другого отца и другой матери — не похожий на нее, светлый, крепкий — с которым она познакомилась на матче по регби или на вечеринке... Иногда она брала расческу и причесывала его: нелепо, всклокочено, так, как он никогда не ходил. Повязывала ему на шею свои темные шарфы, только чтобы на минуту обмануться, чтобы решить, что этого мужчину рядом с ней зовут Лиам, а не Люк.
Он позволял ей все: терпел стоически, никак не выражал недовольства, послушно сидел, но морок проходил, стоило ему двинуться или взглянуть — Лея знала все его жесты наизусть, могла их продолжать за него. Стоило ему шевельнуться, как он снова становился Люком, и Лея со вздохом снимала шейные платки, расчесывала мягкие кудри.
— Нет, — сказал он и улыбнулся ей, — Нет, ведь я люблю тебя.
Это было утром, а вечером седьмого дня в дверь кто-то постучал. Лея была ближе и пошла открывать, и на пороге оказался Хан. На нем была такая же одежда, в которой он поехал в рейс, он был небрит и хмур. Он хмыкнул и сказал слегка насмешливо, пытаясь за бравадой скрыть волнение:
— Ну надо же, ты цела и невредима.
Лею жег стыд, но в тоже время она была рада его видеть. Она не знала, что сказать ему, он, кажется, тоже не знал. Они просто стояли, не глядя друг на друга, снег порошил его шапку, залетал в прихожую. Лея поежилась. Вдруг его взгляд отщелкнул куда-то за ее спину, и Лея поняла, что Люк подошел ближе, привлеченный стуком.
Она тревожно оглянулась — взгляды у обоих были тяжелые. Хан медленно сказал:
— Ну здравствуй… Малыш.
— Зачем ты пришёл? — спросил Люк.
— Хотел убедиться, что с ней все в порядке.
— Убедился? Теперь уходи и не возвращайся, мы не хотим тебя видеть.
Люк подошёл к Лее и властно, хозяйским движением, обнял её за талию. Хан повёл головой и сказал с деланным изумлением:
— Надо же. А я думал, мне примерещилось... Близнецы, значит?
Лея попыталась расцепить пальцы брата, но он только сильнее сжал руки, словно говоря ей: не дергайся. Пальцы его стали стальными, и Лее вдруг показалось, что ее сдавили железным обручем.
— Лея? — Хан спросил, в одно ее имя умудрившись вместить все — правда ли, что ты не со мной больше; правда ли, что ты со своим… братом; правда ли, что мне лучше уйти.
Она опустила глаза и как будто едва заметно кивнула.
— Пойдём покурим? — вдруг тяжело сказал Люк, и аккуратно шагнул вперёд, отпуская и заводя ее себе за спину.
— Курите здесь, — яростно сказала Лея. Но Хан словно не слышал, что она сказала, и ответил:
— Идем.
Они не видели ее, не слышали ее, как будто она стала призраком, охваченные огнём более древним и более страшным, чем любовный, огнём борьбы и желанием повергнуть соперника, неотвратимым деланием пролить чужую кровь.
Она шагнула к брату, и, чувствуя, что она сама по себе почти перестала иметь для них значение, почти крикнула:
— Люк! Курите здесь!
Он на нее не смотрел, но ответил:
— Зачем же запах распространять? Придётся стирать шторы… Нет. Мы на улице.
— Я пойду с вами, — сказала она отчаянно. Хан молчал, а Люк все продолжал, не глядя, говорить нежным и ласковым голосом, очень ровным голосом:
— Там холодно, сестра. Подожди нас немного, мы быстро.
И Лея осталась в прихожей, села на скамейку — такую странную власть он приобрёл над ней — так быстро? Или он всегда ее имел?
Отец говорил, что женщина должна быть покорной. Она ненавидела это, она всегда, всю жизнь бунтовала. Против отца, против Люка, против всех людей. Но как она ни пыталась перехватить контроль за своей жизнью, оседлать ее, завладеть ею, тем что-то внешнее все сильнее било ее. Как будто судьба говорила ей: не противься. По течению легче плыть.
Может быть, дело в том, что она хотела все и сразу, а не довольствоваться малым? Но кто может быть настолько безумен и горд, чтобы заявить о себе как о полновластном хозяине своей судьбы?
И всё-таки было что-то безумно успокоительное в том, что бы вот так ждать. Вышли покурить. Все просто. Все хорошо. Там действительно мороз. Шторы действительно пропахнут куревом. Лея прислушалась.
Вдруг услышала звук взведенного, как курка, мотора. Она чертыхнулась и выбежала на улицу. Сокол стоял с включённым двигателем, и Хан сидел за рулем.
Снег лез ей в глаза, ветер трепал волосы, мороз обжигал ее тело в легком домашнем платье. Она практически бросилась под грузовик, не давая им уехать. Свет Сокола слепил, резал, распинал ее своими беспощадными фарами.
Люк быстро вышел из машины, сказал ей, бережно взяв за руки:
— Мы просто съездим за сигаретами. Ты дрожишь. Иди в дом.
— Люк…
— Сигареты кончились. Мы в ближайший круглосуточный и обратно. Иди скорей, застудишься.
Его глаза были такими же синими, как лёд под снегом. Лея чувствовала, что тетива натянута до предела, что она дрожит и вибрирует, что ей, Лее, ничего не сделать для того, чтобы предотвратить то, чего она так боится.
И она пошла в дом.
Села в гостиной на диван, зябко обхватила себя руками, пытаясь согреться и перестать дрожать — не смогла.
Прошло несколько часов.
Люк вошел в дверь, открыв своим ключом, мельком взглянул на нее — она сидела в той же позе, медленно прошёл в ванную, долго мыл руки, когда вышел — на нем была новая рубашка. Он подошёл к Лее, бережно притянул к себе, поцеловал. Она была холодна, как статуя, и он сказал ей нежно:
— Не бойся. Он не придёт. Ты свободна.
— Что ты с ним сделал? — сказала Лея так, как будто шла по очень тонкому льду на самой середине реки. Он вдумчиво посмотрел на неё и сказал:
— Ничего. Просто поговорил. Он обещал больше не приходить. Он все понял. Не надо бояться. Нечего бояться, Лея, — он плотно обнимал ее за талию, — Тебе нечего бояться, когда ты со мной.
Позже, когда они лежали вместе в кровати, он сказал:
— Но если кто-то будет спрашивать, то он не приходил, хорошо? Мы не видели его с тех пор, как неделю назад расстались в Огасте.
Она отвернулась к стене.

Она долго молчала, и ее молчание, которое она скрывала так же, как когда-то беременность, проносила она с собой все праздники и темный, горький, страшный конец зимы.
Но в марте, обманчиво, нежно повеяло весной, Лея почувствовала свободу, разлитую в воздухе, и страшно и просто сказала брату:
— Ты убил Хана.
— Нет, я просто поговорил с ним.
— Я ничего не слышала о нем с тех пор… Что же такого ты мог сказать ему?
— Правду. Все правду о нас. Всю нашу жизнь. Он понял. Любой бы понял.
— Как же я хочу тебе верить… — мучительно кусая губы, сказала она.
— Так поверь же, — сказал он почти жалобно, — Верь, как верила раньше.
Она закрыла глаза, и спросила:
— Ответь мне на один вопрос. Только на один. Поклянись мной и нашим сыном, что ответишь честно.
— Клянусь, — сказал он.
— Ты лгал мне?
Он замер и поглядел на нее дикими глазами с расширенными зрачками.
— Ты лгал мне? Почему ты молчишь? Ты поклялся!
Он закрыл глаза и сказал:
— Да. Один раз.
— Как? Когда?
Он покачал головой:
— Хватит. Я ответил. Я не убивал Хана.
Лею несло, и она закричала:
— Но ты убил отца!
Он протянул к ней руку, но она увернулась.
— Не трогай меня! — закричала она, — Ты убийца!
Он долго смотрел, а потом тихо согласился:
— Да, я убийца.
Она стремительно выбежала из комнаты.
Когда он остался один, он вышел на крыльцо и выплюнул дыхание, отравленное болью, в весенний воздух. Огляделся вокруг — чтобы ее не было — и очень тихо сказал самому себе:
— Я не убивал отца.
Он слушал дурное, влюбленное пение скворцов, их безумные глупые трели: счастливые птицы не знали, что надежды рано или поздно обращаются в скорби.
Люк думал о том, что составляло стержень его веры, что — единственное, кроме Леи — помогало выживать в аду.
Мысль о том, что он невиновен.
Тогда:
Он только вошел в дверь, принеся с мороза выбитый ковер, как она метнулась к нему, и срывающимся голосом, хватаясь за его руки, сказала:
— Люк, там Гостья. Она ещё живая, я слышала стоны… Люк…
Он отбросил свернутый палас. Он не ждал этого — Вейдер вел себя нормально, не так, как обычно бывает перед визитом Гостьи, и последняя девушка была в доме всего несколько месяцев назад.
Голос Леи был полон муки — больше, чем он мог выдержать.
— Почему ты здесь тогда? Наверх, быстро! Прячься!
— Я так больше не могу! — крикнула она, — Пусть он убьёт меня и все закончится на этом, я больше не выдержу, если они будут умирать за меня, Люк…
— Тихо, — сказал он, взял ее за плечи и встряхнул, внимательно и твёрдо глядя ей в глаза, — Иди наверх. Он не тронет тебя больше. Он никого больше не тронет. Сегодня все закончится.
Он подвёл ее к лестнице, пылко поцеловал в губы, коснулся рукой живота — она вздрогнула, почувствовав, что он прощается, и с плачем повисла у него на шее.
Он обнял Лею, скрестив руки на ее спине, приподнял на мгновение, прижал к себе, как в последний раз, а потом с силой оторвал ее от себя, развернул лицом к лестнице, толкнул легко в спину. Она побежала наверх, вытирая слезы — только и мелькали худые ноги. Он постоял некоторое время, глядя ей вслед, а потом пошёл в сарай. Он вытащил ящик с инструментами, задумчиво перебрал их, как женщина перебирает украшения перед свадьбой.
Наконец, он вытащил тяжёлый чугунный лом. Заостренный с двух краев, старый, с облупленной краской, порыжевший местами, но очень тяжёлый и крепкий — и Люк понял, что это именно то, что ему было нужно. Он вернулся в дом. Тапки скользили, он сбросил их и оставил валяться.
Он прошёл в самое сердце, к лестнице, к находящейся под ней двери в подвал. Все вдруг выстроилось в прямую вертикаль: наверху, среди звезд и света, на самой вершине, на третьем этаже была его Лея, носящая под сердцем его ребенка. Внизу, во тьме, среди кротов и червей, среди орудий пыток, была замученная, едва живая, чужая девушка. Но путь наверх лежал через низ. Путь наверх открывался кровью — кровью отца и своей.
Все вдруг стало очень простым, и он удивился вдруг, почему он так медлил, почему он так колебался прежде — чтобы воспарить, нужно пасть — вот истинный путь.
Он подошел к двери в подвал, и тремя сильными ударами лома сорвал замок, распахнул дверь, а после шагнул в свой страх.
Глава 13
— Что было потом?
— Я спустился в подвал. Он был пуст. Я не успел.
— Никаких следов девушки? Откуда вы могли знать, что она там вообще была? Вы видели ее?
— Нет, никаких следов.
— С чего тогда вы взяли, что там была какая-то девушка?
— Я думаю, что отец унес тело раньше, чем я туда спустился. Она наверно уже умерла, ну или он ускорил это. Он иногда ускорял.
— Как много времени прошло с тех пор, как сестра встретила вас у двери?
— …не знаю. Я не считал.
— То есть, чтобы спрятать тело, он должен был недалеко уйти? Тела должны были храниться где-то возле дома?
— Я никогда этим не интересовался. Видимо, так.
— Но мы тщательно обыскали дом и участок, но никаких тел не обнаружили. Кто может подтвердить ваши слова?
— Моя сестра.
Тут он поднял светлую голову и спросил — голос его дрогнул в первый раз:
— Где она? Что с ней?
— Мы не можем разглашать вам подобную информацию, когда вам предъявлены обвинения.
— С ней все хорошо?
— Она находится на серьезной стадии эмоционального истощения, наши эксперты сомневаются в том, что ее показания как свидетеля могут быть засчитаны.
— Я не о том, — сердито сказал Люк, но потом посуровел и замолчал. «Это тоже часть наказания. Часть расплаты за отца», — подумал он.
Допрос продолжился.
— Повторяю, как много времени прошло с того момента, как сестра встретила вас у двери, и вы вошли в подвал?
— Мне кажется, что я сразу пошел за инструментами.
— Зачем вы пошли за инструментами?
— Чтобы сломать дверь в подвал и убить отца.
— То есть, вы признаете, что у вас было такое намерение?
— Да. Да, я давно об этом думал.
— Сколько?
— Несколько месяцев, полагаю. Может быть, год. Может, больше. Всю жизнь.
— Продолжайте.
— Я вошел в подвал и осмотрелся. Мой отец, привлеченный шумом, пошел посмотреть, что происходит. Он встал в дверях, я увидел, что тень упала на пол. Я развернулся и занес лом, но он спрыгнул на меня сверху.
— Почему он это сделал?
— Не знаю. Думаю, он знал, что я рано или поздно приду его убивать. Он понял, я думаю. Он воевал во Вьетнаме, у него было чутье. Он вывернул мне руку, и я не удержал лома.
— Какую руку?
— Правую. Ударил в локоть, она от боли разжалась. Он умел бить больно. Мы начали бороться. Он был сильнее, он почти задушил меня. Там, на стеллаже, лежали садовые ножницы. Я оттолкнул его на мгновение, дотянулся до них и несколько раз ударил его в висок. Он упал. Я подошел к нему и ударил еще несколько раз.
— Зачем?
Люк поднял глаза и сказал просто:
— Я хотел, чтобы он больше не вставал.
Сейчас:
Он спал на диване, не решившись сегодня пойти за ней. Разлад был мучителен для него, как и любое их несогласие между собой: казалось, самой природой заложено то, что они всегда и во всём будут едины, потому что они близнецы. Ему казалось, что Лея, как будто нарочно, намерено, насмешливо, раз за разом, пробует их связь на прочность, натягивает до кровавых судорог стальную нить, проходящую где-то в районе рёбер, тройными цепями обернутую вокруг легких, прямо сквозь израненное сердце до самого страшного предела. Он проснулся, не чувствуя её дыхания, и это напугало его. Страх показался ему таким нелепым, что он даже посмеялся над собой — а в тюрьме семь лет каково было?
Она вошла в комнату, одетая плотно, как в броню, вплоть до перчаток, составляя разительной контраст с ним — сонным, неумытым, раздетым и взлохмаченным. Ее волосы были уложены аккуратной косой вокруг головы, а на лице лежал плотный слой косметики. Она даже стеной не смогла бы отгородиться от него так, как отгородилась сейчас по-женски.
Он выжидательно посмотрел на неё, ожидая что она скажет. Он знал, что она ждёт от него хоть слова, хоть полслова, но только плотнее сомкнул губы. Она потупила взгляд, а потом сказала:
— Мне звонил нотариус. Дело о наследстве почти закрыто. Мы можем продать дом.
— Я думал, что мне не причитается ничего из наследства, как убийце, — он голосом выделил последнее слово, и она вздрогнула. Потом сказала жалобно:
— Да, но… Дом нужно осмотреть, поставить подпись, что у нас нет претензий, что наследство получено нами в полном масштабе. Я предложила просто поставить подпись и не ездить туда, но они упорствуют.
— Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой? Туда? Куда я мог бы не возвращаться? Но тебе — нужно?
Лея прикрыла глаза и сказала тихо:
— Да.
Он внимательно посмотрел на неё и сказал:
— Хорошо. Я поеду.
Они молчали, пока ехали в соседний город — город их детства. Люк сосредоточенно вел арендованную машину, пахнущую химчисткой и пустотой, Лея украдкой поглядывала на него из-под пушистых чёрных ресниц. Сосны мелькали за окном, воздух пах нежной весной, но в машине были очень холодно. Лея сказала:
— Как зима задержалась…
Он ничего не ответил.
Она отвернулась к соснам, и снова начала думать. Мысли защелкали, как заведённые, как щёлкали всю проклятую ночь, когда она просто заставляла себя лежать и смотреть на часы. Первый час она ждала его — хотела прогнать, второй час — хотела молчать, на третий — просить прощения, но Люк так и не пришёл.
Горечь и гнев вспыхнули опять — а также липкий, тяжёлый комок страха где-то под рёбрами.
Хан давно хотел переезжать в Портленд… надо просто спросить его квартирную хозяйку. Или Чуи. Ему даже не пришлось бы увольняться, потому что там располагался центральный офис их компании, и спрос на дальнобойщиков был выше…
Лея незаметно поглядела на Люка, скользнула взглядом к жилистой руке брата, которая лежала на переключателе коробки передач… Восемь лет ужаса, семь лет тюрьмы, почти год — с нею. Ей вдруг показалось, что ее язык окаменел, или отравленный шип пронзил его насквозь, и она утратила дар речи. Вчерашнее слово жгло рот, как кислота, долбилось в голову и в горло.
Но вдруг окажется, что Хан пропал? Ее бы наверняка расспросили уже полицейские. А если бы он пропал так, чтобы никто и не заметил? Такое вообще возможно? Нет, он же не одинок, у него есть друзья — почему к ней не приходят его друзья? Может быть, он рассказал всем, что она его бросила, бросила ради собственного брата. Профиль Люка выделялся на фоне мелькающих сосен, и Лея отвернулась от брата, прижалась лбом к стеклу, глядя на первый дождь. Она подпирала лбом стекло, чтобы непогода не могла ворваться внутрь. Но было уже поздно.
Нотариус — быстрый, привычный человек, — стремительно увёл Лею. Она оглянулась на Люка через плечо, лицо у неё было сложное, печальное, почти просящее, но он не последовал за ней.
Он замер в коридоре, захваченный, затопленный чувствами со всех сторон. Ему показалось, что было большой ошибкой приезжать сюда.
Он протянул руку к шляпной вешалке и только сейчас понял, что вырос, потому что легко доставал до неё.
Он пошёл наверх, миновал второй этаж, поднялся выше и открыл дверь в их прежнюю комнату. Она была пуста — где та кровать, на которой он спал все своё детство? Он прошёл в комнату — без мебели она казалась такой воздушной, прозрачной, полной света. Он подошёл к окну, с силой дернул створки. Они распахнулись со скрипом, свежий весенний воздух залил комнату. Узор некрашеного дерева бросился ему в глаза: в детстве он видел в кольцах и спилах драконов и рыцарей. Когда ему минуло шестнадцать, его Лея, сидя у окна, бездумно глядя в пустоту, жестом поманила его к себе, лицо у неё было нежное и одухотворенное, но ее пальцы жили своей жизнью, плясали по подоконнику как будто играли на пианино. Она смотрела на снег, на то, как слетелись чёрные птицы на выброшенные ею хлебные крошки.
Он подошёл, и она, все также глядя на снег, властно взяла его за ладонь, притянула его к себе и прошептала, лихорадочно сверкая темными глазами, что она в ожидании. Он не запомнил слов, но помнил ее глаза, ее отчаянность, ее дрожь перед его ответом.
Он бездумно провёл рукой по подоконнику, как тогда, когда он был ошеломлён ужасом и счастьем.
Люк отошёл от окна, вышел из этой комнаты, которая тянула из него жилы, манила призраками, снова заставляла чувствовать себя живым. Он подумал, что нигде не был так счастлив, как здесь.
Люк вышел скорее, чтобы не приглядываться, чтобы не воскрешать то, чему возврата нет. На лестнице встретился с Леей, которая шла наверх. Губы у неё чуть дрожали. Он отвёл взгляд и посторонился.
Хотя они были безмолвны, воздух между ними звенел и гремел:
— Убийца! Убийца! Убийца!
Она вдруг подняла руку, как будто намереваясь прикоснуться, протянуть ему раскрытую ладонь, показать, что рука пуста, рука открыта к тому, чтобы ее коснулась другая ладонь, но Люк быстро пошёл по лестнице вниз.
Он миновал пролёт, кабинет отца — помедлил немного, глядя на из свадебное фото: мама — веселая, улыбчивая, в золотом платье, со смешной прической. Отец — синеглазый, красивый, как молодой бог, насмешливый, самодовольный.
Четырнадцать месяцев им судьба сулила — от свадьбы до расставания навсегда.
Четырнадцать месяцев и девять писем — пять его и четыре ее.
Золотое платье и черно-белая фотография. Люк дрожащими пальцами вытащил ее из рамки, небрежно сунул в карман штанов.
Люк спустился в кухню — там стояло отцовское кресло, зеленое, в мелких горох, в котором он иногда разваливался вечером и сидел, вперившись в одну точку. Он ничего не замечал в такие моменты, и Лея однажды из озорства связала его ботинки шнурками между собой. Люк думал, что отец поколотит их — тогда он еще не бил до полусмерти, только легонько — но Вейдер, очнувшись от своего осоловелого анабиоза, только с бесконечным удивлением разглядывал свою обувь.
Люк, притянутый, как водоворотом к центру воронки, вновь оказался возле лестницы. Ему показалось, что дверь в подвал слегка приоткрыта.
Он пожал плечами — чему быть, того не миновать. Он открыл подвал, нажал выключатель. Сделал несколько шагов вниз, удивляясь внезапно тому, что ему пришлось пригибать голову — неужели он так вырос за эти несколько лет? Он сошёл с лестницы, сделал несколько шагов по направлению к центру, а потом потерялся во времени.
Ему пять… Он бежит вниз, за картошкой, падает с последней ступеньки — всем телом, больно. Он громко и обижено плачет, и отец приходит, участливо садится напротив, на злополучную ступеньку, ждет, пока первая волна плача Люка пройдет, а после говорит, что Люк — мужчина, поэтому он должен быть волевым и сильным, но потом папа дует на разбитую коленку…
Ему семь… Он находит здесь Лею — они играли в прятки, и она бежит со всех ног наверх, понимая, что раскрыта, и ее единственный шанс — добежать до кухни первой и воскликнуть «Чур меня!». Люк ставит ей подножку, валит ее на пол, садится сверху, прижимает, держит положенные пять секунд — она брыкается, пытается кусаться — но тщетно, он побеждает, как всегда, побеждал в прятки. Она никогда не могла от него укрыться…
Ему девять… Он знает, как болезненны удары отца. Иногда он ласков, иногда зол, эта раздвоенность мучает близнецов. Отец немного сторонится Леи, но Люку — Люку не так повезло. Он сначала завидует сестре, а потом, увидев кровавый синяк на ее плече — бежит в подвал, прячется под лестницей и рыдает так, как никогда не рыдал от собственной боли…
Ему тринадцать… Он знает, где лежат все инструменты, которыми отец умеет причинять боль. Он знает последовательность ударов, знает различные сценарии долгих, страшных вечеров. Он думает, что это его сломит, каждый раз думает, что больше не сможет, но оказывается, что с каждым разом он может вынести все больше…
Ему пятнадцать… Он слышит в подвале сдавленные рыдания, сводящие с ума, отчаянные, непрекращающиеся, уже почти не человеческие, и думает, что отдаст все, лишь бы они прекратились. А потом слышит смачный, плотский хруст, короткий полу всхлип-полу стон. Рыдания прекращаются, но он не рад этому.
Ему двадцать три… Он стоит посреди подвала, разобщенный, потерянный, ослабевший, и чья-то огромная чёрная тень, возникшая на лестнице, накрывает его с головой.
Тогда:
Каждый из них знал, что все закончится именно этим.
Когда Энакин взял на руки свою дочь, он, плача, поцеловал ее в лобик, и малышка только моргнула своими карими, как у матери, глазами.
Но когда Энакин взял на руки Люка, тот сморщился и заплакал, и лицо отца не дрогнуло от нежности.
Каждый из них знал.
Убей его.
Поэтому, когда они сцепились, безмолвно и страшно, насмерть, ничто не могло показаться более естественным, чем этот дикий порядок вещей, когда сын восстает на отца, а отец — на сына.
Убей его.
Они сцепились, как два волка или льва, забывая слова, ведомые жаждой не унизить, не покалечить, не одержать верх, но умертвить.
Убей его.
Вейдер был намного сильнее, но Люк выворачивался из его рук, ловкий, как молодой угорь, не давая страшным рукам сомкнуться вокруг себя и раздавить, в ответ он наносил лишь точечные, мелкие удары, все пытаясь достать глаза или пах, но отец ловко закрывал их.
Некому больше остановить его.
Придется тебе.
Убей его.
Вейдер сжал свои огромные руки на худой шее Люка, и тот ухватился за них, в попытке разжать, захрипел уже почти предсмертным криком…
Чей-то нежный голос пробился сквозь заложенные уши, сквозь пылающие круги боли, сквозь амок кровавого безумия.
Женщина в золотом платье стояла на самом верху лестницы, женщина в золотом платье — его мать? — протягивала к ним руку — и звала нежно:
— Энакин! Эни, это я, Падме!
Призрак в золотом спускался по лестнице, и оба мужчины замерли, поражённые, а потом выдохнули одинаково, на один вздох, на единый удар сердца:
— Мама?
— Падме?
Женщина подошла к ним близко, и отец дрогнул, руки его разжались, он выпустил сжимаемую до сих пор худую шею сына, он потянулся к прекрасному призраку, и только тогда Люк понял, кто это на самом деле.
Лея подняла руку, напряженно зажимавшую садовые ножницы, и со всей силы, размахнувшись, ударила отца острием по виску.
Падая, отец задел ее — она отлетела в сторону, легкая, как пылинка, золотая пена платья разлилась по холодному полу, темные волосы закрыли лицо.
Оглохший от ужаса, Люк перешагнул через корчившегося в его ногах отца, и бросился к Лее — откинул волосы с бледного лица, повернул ее на спину, глаза были закрыты, но она дышала, грудь в золотом платье вздымалась и опадала.
Люк выдохнул, выпустил ее и повернулся к отцу.
Люк встал и медленно подошёл к Вейдеру. Отец казался удивительно нестрашным, даже каким-то маленьким, сухим и поломанным — и Люку на мгновение стало жаль его, но потом он усилием воли вызвал в себе все те картины, от которым бежал прежде. Он подошёл к стеллажу, где лежали красиво разложенные новенькие ножи (зачем они были нужны отцу — здесь?) занёс руку над ножами, выбирая — нож для овощей? Нож для сыра? Может быть, для рыбы?
Который лучше взять для убийства того, кто даровал жизнь?
Капля пота упала с его лба на голую ступню, и Люк резко сдернул с крюка промасленное полотенце, промокнул дрожащие потные руки, схватил не глядя нож, и повернулся к лежащему Вейдеру. Присел перед ним на колени.
Убивать беззащитного… но если он встанет, то Люк с ним не справится.
Отец сильнее.
Нет, надо сейчас.
Как бешеного пса.
Как опухоль.
Отца.
Потом он вспомнил — Лея. Ребенок.
Занес нож.
И увидел, что Вейдер не дышит. Он тронул отца за плечо, увидел — как в первый раз — его лицо, выпачканное кровью, закатившиеся глаза, раскрытый безвольно рот.

Под головой Вейдера расплывалось пятно крови. Люк не почувствовал ничего, ни облегчения, ни ужаса. Мысли стали простыми, прямолинейными.
Лея. Ребенок.
— Я его убил, — сказал он громко, — Это я его убил. Я убил моего отца.
Звучало убедительно.
Он взял садовые ножницы, и долго, вдумчиво вытирал их от отпечатков пальцев Леи, а потом плотно наставил свои пальцы. Несколько раз ударил отца по голове — чтобы запачкать себя кровью. С каждым ударом чувствовал, что убивает его все вернее, что загоняет его в самый ад, в преисподнюю, откуда нет и не будет возврата. С каждым ударом он чувствовал, что незримые цепи, сжимавшие его горло, чтобы он не смел дышать, его сердце, чтобы он не смел любить, его ноги, чтобы он не смел бежать — эти цепи, которые долгие годы надевал на него отец — убитый ИМ отец — звенят и распадаются.
Лея… Ребенок… Кого она носит? Мальчика? Девочку? Может быть, двоих?..
Отец…
Сестра не переживет, если узнает.
Значит, не узнает.
Мужчине обреют голову, женщине лобок.
Никуда не деться от меры своих страданий.
Сейчас:
Это был не отец.
Он не вернулся из мертвых, чтобы продолжить бой, этот бесконечный спор, он не пришел, чтобы уличить настоящего убийцу, не для того, чтобы раны его закровоточили при приближении дочери.
Это был не Вейдер.
Это была Лея.
Всегда одна Лея.
Лея стояла наверху — а Люк был внизу, в подвале, и подумал некстати о том, что так и не сделал выход, что так и не прорыл ход, что отсюда до сих пор не выбраться. Что сюда можно только войти. Но если кто вошел — так и обречен, как призрак, вечно бродить среди этих стен, которых никогда не касались солнечные лучи. Среди этих стен, которые мироточили бы, если бы могли, потому что если где и было настоящее страдание — то здесь.
Лея медленно спустилась, и ее тихие шаги гулко отдавались по пустому помещению.
Она подошла к нему — он хотел было отойти, а потом решил, что разницы нет, все равно они будут вместе. Даже если не хотят. Им не разойтись. Они — одно.
Она шагнула к нему — он держал руки в карманах — и обняла его, всего его разом — едва сцепив указательные пальцы на его спине, со всеми этими острыми иглами боли, с этим покалеченным сердцем, с этими понятиями о добре и зле — сложными, негибкими, упрямыми. С этой его одержимостью, с этой его честностью, с этой его больной любовью…
Она обхватила его всего руками и сказала:
— Я люблю тебя. Я верю тебе. Прости меня.
— Давно простил, — тихо сказал он, стоя, не шевелясь.
Потом наклонил голову и поцеловал ее в черно-белую границу лба и волос.
Ты невинна, сестра, потому что ты не знаешь, что на тебе кровь отца.
Ты невинен, брат, потому что ты не веришь, что тебе нельзя любить свою сестру.
Потом Лея взяла его за руку, они вышли из подвала, они бродили по дому вместе и больше уже ничего не боялись.
Глава 14
Люк стоял у ворот школьного двора.
Вечерело рано, и зимние сумерки мягко освящали землю. Снег покрывал подступы к школе, превращая ее в волшебный замок. Мерно падал и кружился, водил хороводы в свете фонарей. Люк забыл дома шапку, и, не отряхивал голову, из-за чего его золотые волосы стали серебряными, как будто он поседел намного раньше своего срока.
Он стоял, засунув руки в карманы, пряча подмерзающее лицо в высокую горловину серого свитера. Вокруг стояли остальные родители, больше матери — они шумно и однообразно переговаривались между собой. Люк ничем не выделялся, разве что тяжестью взгляда и плотно сомкнутыми губами: но мало ли, кто о чем думает. Мало ли, какие у человека проблемы.
Люк думал о том, что Вейдер, даже мертвый, отнял у него так много: он не взял Бена на руки, не учил его ходить, говорить и читать. Он не видел, как растет его сын. Он так хотел быть отцом — он был бы замечательным отцом, любящим и нежным.
А потом он подумал, что Вейдер держал из на руках, два крошечных, вечно голодных свертка, пока гроб с телом их матери опускался в сухую летнюю землю. Что он кормил их, как котят, из бутылочки, по часам, не спал ночами, днём отдавал в ясли и шёл работать, а шрамы его ныли и ожоги причиняли ему боль.
И Люку вдруг стало страшно — на мгновение — что он узнает мальчика, своего сына, по его изуродованным рукам, по шрамам — раз на это обречены все мужчины их рода. А женщины — на смерть.
Против воли подумал о том, что было бы с ним самим, если бы умерла Лея. Смог бы он остаться нормальным? От мысли веяло смертным ужасом — таким, что и приглядеться страшно. Люку показалось, что если бы умерла Лея — он точно спрыгнул бы откуда-нибудь… Но у него не было двух пищащих комочков на руках — его детей, ее детей…
Люк сверился с расписанием и часами: класс мальчика (сына? Бена? Все было непривычно) закончил занятия в эту минуту. Словно в подтверждение его мыслям, зазвенел звонок. Люк подобрался. С стороны казалось, что он готов драться.
Дети почему-то выбежали все одновременно и порскнули врассыпную, как стайка маленьких мышат. Люк задохнулся, а потом отчаянно завертел головой, не успевая за всеми.
Который из них?
Один мальчик был светлым с ярко-рыжими волосами, и Люк напрягся: когда его щетина отрастала, то отливала ощутимой рыжиной. Но мальчик подошел к такой же рыжей матери, которая с красным лицом стала выговаривать ему что-то.
Люк растерянно смотрел на детей — ему казалось, что он непременно, с полу вздоха, с полуслова, с полуоборота узнает своего — что кровь позовет его, что кровь приведет ребенка к нему. Неужели он обманывал Лею, брал отгул на работе, ехал сюда — для пустоты? Что он хотел узнал здесь? Увидеть ребенка без стоящих по бокам приемных?
Одна пара привлекла его внимание: отец был слишком смуглым, а мальчик — кипельно белым, как… Лея.
«Может быть, у жены этого человека очень белая кожа» — сказал себе Люк, но передвинулся к ним поближе.
Его зацепило лицо мужчины, а не мальчика, и он подумал о том, что где-то и когда-то его видел. Он последовал за ними на расстоянии.
Это был большой дом, трехэтажный, светло-синего цвета, холодный, элегантный, с крылом гаража, вычищенным снегом на лужайке, летней кованной беседкой. Все говорило о достатке и безупречном вкусе.
У Люка никогда не было бы такого дома.
«Это неважно», — подумал он, — «Главное, чтобы в доме не было подвалов.»
Он подошел к белой двери и нажал кнопку звонка.
Он не знал, что скажет, но там, за этой плотной, современной дверью, была часть его сердца, и он не мог просто уйти.
Ему открыла красивая смуглая женщина в элегантном синем платье. Ее волосы были подняты высоко, а раскосые глаза смотрели на мир со спокойным любопытством. Она доброжелательно сказала:
— Добрый вечер. Что вы хотели?
Люк внутренне сжался, все слова вдруг пропали, и он только мог беспомощно смотреть на нее. Она медленно сказала:
— Это же… Люк? Не может быть! Это и правда ты? — Она протянула руку, коснулась его лица, повернула его к свету, и закричала радостно, — Бейл! Бейл, иди сюда скорее! Люк Скайоукер пришел.
Когда его представили, забрали пальто, проводили в гостиную, усадили на гладкий узкий диванчик, поставили перед ним чашку кофе из фарфорового сервиза, он спросил:
— Откуда вы знаете меня?
Органы сидели напротив, плечо к плечу, бедро к бедру — было видно, что они очень давно и крепко вместе, что они привыкли все важные вопросы решать вместе, что они даже договаривают друг за другом предложения. Бейл сказал:
— Твоя мать была нашим близким другом. Мы работали вместе в администрации Штата. Такой страшный удар для все нас — такой добрый человек, такой талантливый политик… Она была такой молодой, и такая ужасная смерть… Ваш отец был в госпитале тогда, никто не знал, насколько он… будет здоровым, когда выйдет оттуда. Мы ее хоронили, а потом присматривали за вами.
Значит, этот человек носил на руках его и сестру, пел им песенки, и кормил, как котят, из бутылки по часам. Этот человек — вынянчил и его, и его сына.
— Но потом ваш отец вернулся из госпиталя. Никто не думал, что он сможет растит вас сам, но у него была хорошая ветеранская пенсия… Он забрал вас. Он был в своем праве, конечно, но тот день я никогда не забуду…
Люк смотрел на их серьезные лица, на то, как они держатся за руки, и думал мучительно, что было бы, если бы он рос — здесь. Среди всех этих игрушек, стриженных газонов и крахмальных скатертей в круглых залах. Был бы он счастлив? Была ли бы Лея с ним? Любил бы он ее — так?
— Мы навещали вас еще некоторое время, пока ваш отец не запретил нам этого делать.
Бреха вдруг сказала:
— Я иногда водила Лею на кружок по рукоделию. Против меня Энакин меньше возражал. Она даже сшила мишку. Серого такого, неловкого. Плюш потерся, конечно, но… У меня он где-то лежит, я его принесу.
Она даже двинулась, чтобы бежать и потрясать тем свидетельством ее любви, которое одно у нее было, но Бейл сжал ее руку, и она осталась на диване. Он спросил:
— Как там Лея?
Люк пожал плечами:
— Хорошо, сэр. Работает на почте. Хочет идти в колледж на следующий год. Политология.
— Как Падме…
— Я думаю, это повлияло на ее выбор, — кратко сказал Люк, и добавил, — Я здесь не за этим, мистер Органа. Я здесь, чтобы увидеть Бена.
— Конечно, — сказал Бейл и прикрыл глаза, — Ты здесь, чтобы увидеть племянника.
— Сына, — твердо сказал Люк, отказываясь лгать, — Я здесь, чтобы увидеть моего сына.
Он слышал, как ахнула Бреха, но прямо смотрел в глаза Бейлу.
Он вздохнул:
— Так это правда?.. До нас доходили самые страшные слухи… Нас предупреждали при усыновлении, но я не мог в это поверить.
Люк встал. Щелкнул челюстью в раздумьях, подошел к окну, скрестив руки, сказал холодно:
— Что именно — правда? То, что наш отец после смерти матери и войны во Вьетнаме сошел с ума? Это правда. То, что он превратился в садиста? Тоже правда. То, что я убил его, чтобы защитить сестру и себя? И это правда. То, что я отсидел семь лет в тюрьме за это? Правда. То, что Бен — сын мой и Леи? Правда. То, что я ее насиловал? А вот это ложь.
— Люк, — неожиданно нежно сказала Бреха, а Бейл, побелев, срывающимся голосом сказал:
— Я клянусь тебе, если бы мы только знали… Если бы я знал, я бы сам его…
— Не нужно, — сказал, Люк спокойно глядя им в лица, — Мистер Органа. Миссис Органа. Просто позовите Бена. Я хочу увидеть его. Я хочу говорить с ним.
Бреха, подчиняясь жесту мужа, вышла. Люк чувствовал, что Бейл на него смотрит, вздыхая, и хочет поговорить, и Люк отвернулся к окну.
Скрипнула дверь. Мальчик вышел на середину комнаты, взглянул на Люка исподлобья: цепкий взгляд не по-мальчишески серьезных синих глаз, темные кудри, белоснежная кожа, едва тронутая веснушками, как у Леи.
Мальчик посмотрел на Бреху, ища поддержки, та едва заметно кивнула ему. Тогда Бен повернулся к Люку и пристально поглядел на него, как будто спрашивал, хороший ли это гость, или такой, что принес дурные вести.
— Бен, — сказал Люк глухо, заглядывая ему прямо в глаза, — Я — твой отец.
Глава 15
Лея читала книгу, поджав ноги под себя. Он сел возле кресла, в ее ногах, и она опустила рассеянно тонкую ладонь на его голову. Он поймал ее руку, прижал к своей щеке.
— Где ты был?
Он откинул голову к ней на колени. Она начала перебирать пряди возле его лица, гладить его по щекам, и спросила ласково:
— Что такое?
— Я был…
В королевстве полуденного солнца. Там, где мы могли расти без страха и без боли. Там, где растет счастливо наш сын. Там, где ты никогда не была бы моей.
— Я нашел Бена, Лея. Я говорил с ним.
Она отдернула руки, как будто обожглась, перекинула ноги через подлокотник, встала, не коснувшись его. Подошла к окну, отвернулась от него, обхватила себя руками и сказала зло:
— Зачем? Ну вот зачем? Ты хотя бы со мной посоветовался, прежде чем идти туда.
Люк встал, нахмурился и сказал:
— Это мой сын и мое решение. Я не должен ни в кем советоваться по этому вопросу. Даже с тобой.
Лея нервно закусила губу.
— Люк, я не хочу…
— Ты — мать. Ты хочешь сказать, что ты не хочешь видеть своего ребенка? — сказал он, и волна гнева поднялась от его живота, размешивая кишки в студень.
— Я… Я хочу, чтобы он был счастлив. Но подальше от нас.
Он подошел к ней, обнял сильно и грубо, как будто не мог определиться — зол он или влюблен, насколько одно, насколько второе — это все смешивалось в груди и отдавало тянущим болезненным влечением.
Лея притихла на мгновение, потом сказала почти жалобно:
— Ему уже шесть лет. Он растет в семье, любит их… Это ведь хорошая семья?
— Хорошая, — вдумчиво сказал он, разглядывая ее шею. Ему вдруг пришло в голову, что ее кожа никогда не была такой чистой, такой белой, как теперь — раньше все были разноцветные разводы краски.
У нее такая белая кожа, и это его заслуга.
— Представь, как его сейчас забрать от родителей? Как ему будет это больно и страшно?
Мальчик смотрел на Органа, искал их поддержки и одобрения. Мальчик любил их.
— В твоих словах есть смысл, — неохотно признал Люк, но гнев его усилился. Никто не был виноват в том, что его сын растет у чужих людей: немного Вейдер, немного он сам, немного… Лея.
Он склонился к ней, слегка прикусил зубами жилку на шее — и тотчас отпустил. Но бледно-розовый след так и остался на коже. Лея отвернула голову, и сделала легкое движение, как будто обозначая желание освободиться, но он только сильнее прижал ее к себе.
«Так тоже можно», — подумал он, — «Не болью. Нежностью. Не синяками, а поцелуями.»
— Люк, я…
— Тихо.
Она замолчала. Было что-то пьянящее в том, чтобы приказывать ей, чтобы чувствовать, как она подчиняется. Он чувствовал, что выстраивает границы заново, что придумывает правила с нуля, в одиночку — потому что она не возразит — и его захватило чувство беспредельной свободы. Он может быть милосердным, а может наоборот… Мало она сама его мучила? Впрочем, она его любит. И он ее.
«Ничего неприятного для неё. Ничего болезненного. Ничего, что она может расценить, как насилие. Просто я буду чуть тверже в поступках и словах», — сказал он себе. Потом добавил, не замечая, не понимая, откуда взялись эти мысли, не помня о том, что их говорил Вейдер: «С женщинами нужно как с детьми. Ласково, но твёрдо.»
Он подхватил ее на руки, отнёс в спальню, и в первый, но не в последний раз за всю жизнь, не был с ней нежен.
И она — сейчас и потом — позволила ему это.
Она проходила мимо, а он сидел на диване, повернулся, перегнулся через спинку, протянул руку и легко схватил ее за ладонь.
Она вздрогнула. Ему не нравилось это — прошло уже много времени, а она все ещё иногда вздрагивала, когда он прикасался к ней неожиданно. Его это задевало, но утешало то, что она никогда не дрожала в спальне. В спальне она никогда не отводила взгляда, никогда не отнимала рук. Может быть, потому что отец ничего не делал с ней там?.. Люк сжал зубы. До какого срока он будет их преследовать их, до гроба? Ему вдруг захотелось прийти и плюнуть на могилу этого человеку.
Люк обвёл ее за ладонь вокруг дивана, притянул ее руку к себе, приглашая сесть.
Он приподнял руки, приглашая обнять его, и она, после минутного колебания, обвила его талию, положила голову на плечо. Легким движением она скинула тапочки, забралась с ногами на диван. Он поцеловал её в макушку, вдохнул родной запах и спросил:
— Почему ты дрожишь?
— Не знаю сама.
— Скажи правду.
— Не знаю. Случайно.
— Ты думаешь об отце? — спросил он, и обнял её сильнее.
— Нет.
— Тогда скажи это вслух.
— Ты не Вейдер. Ты на него не похож.
— Еще, — сказал он, прислушиваясь к своим глубинам, потому что ему было этого мало. Ее дрожь не проходила, и он погладил ее по плечам, не давая, впрочем, освободиться. Но она и сама не рвалась.
— Что ещё сказать?
— Что-нибудь.
И Лея как-то странно сказала:
— Я тебя не боюсь.
— Я тебя люблю, — сказал он растроганно, потому что она угадала то, что хотел. Она потерлась об его руку и сказала намного теплее:
— И я тебя.
Некоторое время они сидели молча, потом Лея подняла на него взгляд, он улыбнулся ей и подумал о том, что нужно что-то рассказать ей, чем-то развеселить… Он перебрал события дня: мертвая птица на обочине дороги — нет, не то, — в мастерскую заходила женщина с ребёнком, малыш стащил и засунул в рот гайку — тоже не то, Бен не с ними… может быть, вчера? Что было вчера? Он потерялся в днях, одинаково счастливых и спокойных, ему казалось, что он в один день умрет и не заметит этого, все также встав с кровати, все также сварив какао себе и ей, пока она, деловито шурша батальоном кисточек и тюбиков, красится в ванной, все также поцеловав ее на прощанье перед работой, все также взяв отцовский чемодан и выйдя из дома… Конечно же, Лея умерла бы вместе с ним, и он только в мастерской понял бы, что погиб: по тому, как его место занял бы другой человек.
Но его место рядом с Леей никто не займёт. Их никто не разделит, даже смерть.
Впрочем, было ещё одно дело, которое…
Люк откашлялся и сказал спокойно:
— Ты знаешь… у меня есть знакомый в одном автосалоне в Хепширде. Хороший знакомый. Ещё с тюрьмы. Он должен мне… Многое должен. Так вот, Бейл Органа всегда чинит там машину.
Он ждал реакции, но не такой — она вырвалась, вскочила, глаза у неё стали дикие:
— Не смей! Даже не думай! Слышишь? Я тебе не позволю!
— О чем ты? — ему вдруг стало очень смешно. Он пытался не улыбаться, но не мог сдержаться. Он раскинулся на диване, широко расставив ноги, откинув голову, расслабившись, почему-то ее злость действовала на него одновременно пьянеющей и расслабляюще, как глоток шампанского.
— А если там будет Бен? Ты об этом подумал?
— Причем тут Бен? — сказал он, все ещё улыбаясь.
— Не смей, — слышишь! Поклянись мне, что ты ничего не сделаешь с этой машиной!
Ее лицо пошло пятнами, руки затряслись, он понял, что перегнул, усилием воли стёр с лица улыбку и сказал спокойно:
— И в мыслях не было.
— Клянись!
Он встал, и подошёл к ней — подал раскрытые руки, чтобы она вложила в ладони свои, но она скрестила руки на груди. Он сказал, и тень улыбки на мгновение снова коснулась его лица, но она смотрела пытливо и хмуро:
— Клянусь.
И лишь тогда Лея, не глядя ему в глаза, вложила левую руку в его пальцы, как будто отдавала церковную десятину, жертвовала малым в надежде спасти остальное.
Он сидел за столом, сам с собою играя в игру, которой увлёкся в тюрьме: положил левую руку на стол, растопырил пальцы, и острым ножом с Максимально возможное скоростью ударял ножом промежутки между пальцами — между мизинцем и безымянным, между безымянным и средним, между средним и указательным, между указательным и большими снова по кругу — все быстрее, быстрее, быстрее.
В какой-то момент он сбился, и на мизинце выступила кровь. Он безучастно прижал палец к губам, а после перекинул нож в левую руку и продолжил игру, изменив последовательность ударов.
Лея возникла в дверях, молча посмотрела на него, ничего не сказала, и развернулась, чтобы уйти. Но Люк окликнул ее:
— Не бойся за скатерть, я подложил доску.
Она ровным голосом ответила:
— Хорошо.
— Сядь, — сказал он. Она послушно села напротив, и стала наблюдать за пляской его ножа. Она не спросила — зачем, она не сказала, что занята, она просто послушалась его.
Люк молчал некоторое время, а потом сказал резко:
— Я — Вейдер, сестра. Правда же? Ты со мной, как птица в клетке.
— Нет.
— Ты говоришь так, потому что я велел так тебе говорить.
— Нет, это не так.
— Ты теперь совсем невеселая. Лицо у тебя такое ровное, нейтральное все время. Как маска. Ты такой не была, даже когда мы жили с отцом. Ты такой не была, когда я вернулся из тюрьмы. Я — Вейдер, правда?
Нож летал со свистом, как игла, которой штопают рану, Люк порезал себе указательный палец, но не остановился и не сбавил темп.
— Правда. Я чудовище. Ты тогда сказала мне, а я не поверил. Я так не хотел быть им, что им стал. Самое страшное…
Он задел большой палец, мизинец, вся его левая рука кровоточила, но он этого не замечал.
— Самое страшное, что я тебя люблю, люто, до потери сознания, до убийства, но вместе с тем — искренне и чисто. Только моя любовь разрушает, а у тебя нет никого, кто мог бы защитить тебя от нее. Отец был прав в том, что когда-нибудь я уничтожу тебя… И ещё — я-то, в отличие от него, в трезвом рассудке. Мне не чем себя оправдать. Моя любимая не умерла, она со мной. Я не сгорал заживо. Я не вернулся домой калекой. Я… просто им стал. Незаметно им стал. Как думаешь, когда я прошёл точку невозврата? Когда бросился за тобой и Ханом? Я ведь понимал, что ты сама ушла, просто боялся себе признаться. Нет, раньше: раз ты бежала, значит, было от чего. Когда я пришёл из тюрьмы? Когда я убил отца? Когда я — твой брат! — лишил тебя девственности? Твои синяки… это был я? Это ведь был я?! Отец был прав, прав во всем, это я бил тебя, я убивал этих несчастных девушек, я, а не он… Я…
Лея вдруг стремительно бросила свою тонкую белую ладонь на его кровоточащие пальцы, прямо под его острый, губительный нож.
Он успел остановить лезвие в нескольких дюймах от ее кожи, и она переплела свои пальцы с его измученными, обескровленными пальцами.
Он поднял на неё свои голубые глаза — в них стояли слезы. Она смотрела на него нежно, с участием, как когда-то, и он не выдержал этого и опустил глаза.
Вздрогнул, как от удара, от своего имени, произнесённого ее губами:
— Люк.
Он отложил нож, руки его дрожали. Он попытался высвободить правую руку, свою недостойную ладонь, но пальцы Леи — перепачканные его кровью — вцепились в него с решительной яростью.
— В одном ты действительно на него похож, — безжалостно сказала она, и он съёжился.
— Ты отказываешь мне в праве на мое собственное мнение. Ты отказываешь мне в воле принимать свои решения.
Он снова осмелился поднять на неё глаза — вид у неё был задумчивый.
— Меня пугает, когда ты становишься одержимым. Мне кажется, что ты так легко относишься к пролитию крови и отнятию человеческой жизни… я хотела бы ошибиться в этом…
Солнечный луч, падающий сквозь окно, прошёл долгий путь, а они все говорили и говорили.
— И меня пугает твоя любовь. Меня ужасает, что ты мой брат — это не просто незаконно, это противоестественно. Но со всем этим — я тоже люблю тебя. Хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты был больше Люком, а не Вейдером. Каким ты был раньше. Я не знаю, смогу ли я так жить, и если да, то сколько. Ещё мне кажется, что мне не избегнуть тебя, как бы я не пыталась. Что я распята на твоей любви, как на кресте.
Он накрыл ее руку своей и сжал.
— Скажи, ты мог бы меня отпустить? Навсегда?
— Нет. Не знаю. Нет. Может быть, в другой жизни, под другими звёздами, где мы выросли бы не вместе, где я был бы лучшей версией самого себя… где ты была бы принцессой, а я деревенским мальчишкой… где я мог бы исцелить отца вместо того, чтобы убивать его. Там бы я отпустил тебя и всю жизнь скорбел бы об этом. Здесь, сейчас, сегодня — мог бы я отпустить тебя? Не знаю. Нет. Нет, никогда. Ты бы ушла?
— Я пыталась.
Он ревностно сжал ее ладонь, а потом спросил ещё раз, со звенящим металлом в голосе:
— Ушла бы?
— Да. Нет. Не знаю. Я бы попробовала.
Ему захотелось как-то доказать себе власть над ней — два легких пути открывались перед ним: причинить ей боль или заняться с ней любовью, и он делал это раньше, это было так просто, это так манило и обещало. Люк сжал руки вокруг ее ладони — брошенной доверчиво и бесстрашно, как в обрыв, под чудовищное лезвие его ножа.
Но потом он подумал, что все это не то, куда ниже, куда проще его и Леи, что это оскорбит и его, и ее, что власть берётся на страхом, не вожделением, власть отдаётся добровольно, власть отдаётся из любви, и только такая ему и нужна.
И он мучительно сказал, предоставляя ей свободу:
¬¬— Пообещай мне одну вещь.
— Что такое?
— Если ты захочешь уйти, или тебе покажется, что я душу тебя своей любовью, или тебе станет плохо или больно — хоть немного плохо или больно из-за меня — ты просто придёшь ко мне и скажешь: Люк, ты Вейдер.
— Но ты не Вейдер. Я говорю тебе сейчас искренне: ты не он.
Воздух вокруг них зазвенел, как после грозы, чувствуя, как между ними — двумя берегами лавовой реки — протягиваются пока хрупкие, но уверенные мосты взаимопонимания.
Желая укрепить это чувство, он мучительно и тихо сказал:
— Ты до сих пор иногда вздрагиваешь, когда я тебя касаюсь.
— Я хотела бы не вздрагивать, правда. Не могу. Это рефлекторное.
— Хочешь, я не буду тебя трогать? Вообще. Как раньше. Я хочу не только принимать, но и отдавать, но если так нужно, то я готов. И если нужно будет ждать годы, я буду ждать годы.
— Прикоснись ко мне, — сказала она и закрыла глаза.
Он протянул другую руку к ее щеке, и осторожно погладил. Она вздрогнул, он вздрогнул тоже, хотел убрать, но она накрыла его ладонь своей.
Люк почувствовал, как она прижимается своей щекой к его ладони, какая у неё бархатная кожа, какая она тёплая и нежная.
— Нет, — сказала Лея, пока он бережно гладил ее скулу, — я хочу, чтобы ты меня обнимал. Целовал. Носил на руках. Я только хочу, чтобы не было этого первого момента. Просто не было.
Они посмотрели друг на друга.
— Может быть, я буду предупреждать тебя? Скажем, говорить, что возьму за руку? Давай договоримся?
— Может быть, это сработает, — тихо сказала она.
Она гнала его от себя в последнее время, и он не понимал причину такой перемены, ему казалось, что все наладилось, что они жили мирно и ровно, но в последние две недели она стала очень суровой к нему. Чем мягче и нежнее он становился, тем требовательнее она вела себя, и скоро он понял, что чтобы он ни сделал, она все равно будет недовольна.
«Это, должно быть, месть», — думал он. Каждый раз, когда ему хотелось огрызнуться, он вспоминал ее лицо, когда он говорил про машину Бейла, и молчал. Но недовольство зрело: ему казалось, что она слишком злоупотребляет его доверием и нежностью. Но пока что Люк покорно спал на диване и стоически сносил ее раздражение.
Одним утром Лея вышла на кухню, бледнее обычного, села на стул, откинула голову на стену и затихла. Потом сказала:
— Голова кружится…
— Голова? — растерянно спросил он, обычно она ни на что не жаловалась.
— Почему ты ещё не в мастерской? — агрессивно спросила она, глядя на него, — Уходи скорее.
— Я ещё не позавтракал.
— Возьми с собой, только уходи.
— Почему ты хочешь, чтобы я скорее ушёл?
— Я плохо себя чувствую, я же сказала.
— Я могу остаться.
— Нет, — сказала она, бешено сверкая почти чёрными глазами, — Уходи. К вечеру все пройдёт.
Он пожал плечами, в два глотка осушил половину кружки с кофе, наклонился над ней, поцеловал в лоб — ему показалось, что она все это еле вытерпела.
Работы было много, и он почти забыл о странном поведении Леи. Склоняясь над станком, он вдумчиво вытачивал деталь взамен сломанной и подумал, что хотя сам был больше самоучкой, он мог бы научить Бена этому: сверкающему повороту шлифовального станка, тому, как возрождать старые вещи. Научить обращаться с молотком и гвоздями, с гаечными ключами, как замыкать электрическую сеть — Бен мальчик, он станет мужчиной… чему его может научить Бейл, он политик, и руки у него пухлые…
Люк в перерыв пошёл звонить. Он делал это часто, его не смущал напряженный голос Бейла.
Он ездил к ним ещё три раза, но больше Бена не заставал — он был то в гостях, то на экскурсии. Один раз он приехал прямо к школе, Бреха прошла мимо него, не заметила его или сделав вид, что не заметила. Он ждал долго, до сумерек, но потом оказалось, что они ушли через другой выход.
Когда Люк, приехав к ним, в очередной раз встретил одного только Бейла, он сказал, играя желваками:
— В следующий раз мы с Леей приедем с утра, что бы Бен никуда не делся. Встанем пораньше…
— Вы вместе с Леей? — медленно спросил Органа.
— Конечно, мы с ней вместе. Мы живем вместе.
Лицо у Бейла сделалось вдруг очень вежливым и непроницаемым.
Они тогда так и не договорились, и Люк постоянно им звонил. Органы неохотно, но разговаривали с ним, иногда давая трубку Бену. Люк пытался говорить с мальчиком, но чувствовал, что его слушают по параллельному аппарату, и слова застревали в горле. Бен отмалчивался, а Люк даже не знал, как говорить с ним — Бен? Сын? Но ребёнок называл отцом совсем другого человека…
Так продолжалось несколько месяцев, но сегодня телефонный звонок принёс нечто новое, от чего глаза у него покраснели, а руки затряслись от ярости.
Он сначала не поверил, потом бросил коллегам буквально пару слов, выбежал, бросился с разбега в сверкающее лето, где гомонили птицы, и солнечный свет затапливал землю, но ему казалось, что это — чернейший из дней.
Он пришёл домой вечером: ворвался, как ураган, громко, шумно, бросил чемодан в угол прихожей. Ему казалось, что дом вдруг внезапно прогнулся под его рукой, затрепетал перед его гневом, что он наконец-то стал полновластным хозяином там, где прежде был лишь гостем тли слугой.
Она сидела в кресле, лицо у неё было красное и припухшее, как будто она долго плакала, но при этом задумчивое и светлое. Как будто она нашла просторный и светлый выход из подземелья, о котором было известно, что выхода нет.
Люк не стал гадать — он прошёл дом насквозь, и яростно сказал:
— Они уехали. Они уехали из этого чертового города.
— Кто? — с ужасом вглядевшись в его лицо, тихо спросила она, подтягивая руки и ноги ближе к телу, как будто хотела защититься. Часть его отметила это и требовала бросить все и успокоить ее, другая часть требовала бежать за…
— Органа. Они продали свой дорогущий дом, никому ничего не сказали — и уехали.
— Люк… — тихо сказала она, столько боли было в одном его имени, что он не выдержал, сорвался, рванулся к ней, обнял очень нежно и сказал:
— Ну что ты, милая. Не переживай, все будет хорошо. Не бойся. Я их найду, никуда они не денутся.
— Люк, они испугались тебя. Отпусти их, пожалуйста.
— Милая, но наш мальчик у них. И ты даже не успела его увидеть. Это несправедливо. Я хочу, чтобы он рос с нами. Ты будешь замечательной мамой.
— Люк, я очень тебя прошу. Я знаю, что так будет лучше. Поверь мне.
Он поцеловал ее в лоб и сказал:
— Я просто их найду и поговорю. Ничего, кроме этого, обещаю. Попрошу дать нам право свидания. Попробуем добиться этого через суд.
Он знал, что суд ничего не даст: у Бейла наверняка связи, и деньги на самых дорогих адвокатов, а у него самого судимость, отягощенная двумя драками в тюрьме с причинением тяжких телесных… Нет, вопрос требовалось решать иначе, он чувствовал это верно — как дикие собаки чуят кровь, пока не знал как, но верил, что его озарит — как озарило с отцом, когда пришёл срок. Но Лею нужно было успокоить.
— Через суд. Но их нужно сначала найти.
— Люк, нет! Я знаю тебя, тебе этого не хватит — разве тебе хватило, когда я была только твоей сестрой? Нет, ты не успокоился, пока не получил меня всю: также будет и с Беном. Тебе не удержаться.
— Не беспокойся, милая. Я быстро вернусь.
Он разжал руки и шагнул прочь. Она вскочила с кресла, толстая книга упала из ее белых рук.
— Люк, стой! — отчаянно крикнула она, и сказала, закрыв глаза, как будто прыгала в огонь, — Я должна тебе что-то сказать.
По ее тону он понял, что ему предстоит услышать что-то очень важное. Он прислонился к спинке дивана и потянул к ней руку. Стукнул легонько пальцем по руке, предупреждая, что прикоснется, и взял за руку.
Он встала рядом с ним, закрыв глаза, и начала говорить.
— Знаешь, где я была?
— Нет. Ты мне ничего не говорила. Это так важно прямо сейчас?
— Да, — сказала она и голос ее зазвенел, — Нет ничего важнее. Не перебивай меня.
Он замолчал, пристально вглядываясь в ее лицо, ему вдруг вспомнилось, какой она была, когда была девочкой: какие пухлые у неё были щечки, какие смешные брови, какие обиженные гримасы она строила, когда он запихивал ей за шиворот жуков и лягушек. Ему вдруг захотелось извиниться, искренне просить прощения — за все, за тех лягушек, за те синяки, за ту ее девственную кровь, за это ее заплаканное лицо…
— Я была утром… На углу Риверсайд и Полей, такое серое здание… Там стоял такой запах — стерильный, резкий, спиртовой. Я заранее договорилась. У меня было даже направление — я уговорила участковую медсестру. Я сказала ей, что у меня нет мужа… Я смотрела на эту бумажку, а печать на краю размылась — до того потная у меня была рука. Все было так деловито, брат! Так спокойно. Если кому было плохо, то Нашатырь давали. Многие женщины были такие белые… и все равно. Кровью не пахло — наверно ее сразу смывали. Я долго там сидела и смотрела. А потом я подумала, что я никого не буду убивать. Никого и никогда. Я не такая. Я не убийца. Я ушла оттуда. Я сожгла это направление над урной и прикурила от него. Охранник ругался на меня, сказал, чтобы не дымила, что тут будущие матери ходят — это было уже с той стороны, где акушерское. А я извинилась и сказала, что это последняя сигарета в моей жизни.
Он уже догадался, но не мог поверить.
— Пообещай, что выполнишь мою просьбу.
— Все. Все, что угодно.
— Не преследуй их.
— Я обещаю. Лея… ты?
Она опустила глаза к земле, улыбнулась так, как никогда в жизни раньше не улыбалась и сказала тихо:
— Да. Да!
И тогда он встал перед ней на колени.
Целовал ее белые руки.
ЭпилогЭпилог
Бен и Люк
Март. Был хмурый, по-зимнему холодный день.
Весь в чёрном, высокий молодой человек с очень белой кожей и чёрными кудрями, вышел, сильно хлопнув дверью, из своей старенькой машины, и огляделся.
Городок был пустынный, тихий, почти не живой — здесь всегда так бывало на излете зимы, но он об этом не знал. Его затея вдруг показалась ему идиотской — ехать сюда, даже не зная точного адреса, только город и имя. Как он ее найдёт? А вдруг она в тюрьме или бездомная? А вдруг его спросят, зачем ему эта женщина? А вдруг окажется, что он похож на неё, что они отражения друг друга — и он умрет от отвращения, увидев, как она опустилась?
Он снова открыл дверь своей машины, занёс ногу, но так и не сел: уехать сейчас показалось ему ещё более глупым, чем идти до конца.
Мимо него прошла девушка — худенькая, кареглазая, с тремя дурацкими пучками, закутанная в драную, хоть и новую серую куртку. Она как будто насмешливо обожгла его взглядом, удивительно точно считав его колебания. У ее ног, высунув язык и раскинув пасть в улыбке, вертелась небольшая бело-рыжая собака.
Они прошли мимо, нырнули в неприглядную закусочную — Бен слышал, как звякнул колокольчик.
Он пожал плечами, потом подумал, что надо откуда-то начинать. Он прошёл за ней, и, не отряхивая обувь, вошёл в закусочную. Она была не очень чистой, полутемной, с автоматом для музыки, двумя видами кофе и тремя — бургеров. Он прошел к бармену, тот встретил его хмурой и неприветливой улыбкой.
Бен спросил:
— Скажите… Я ищу… Может быть, вы знаете человека по фамилии Скайуокер?
Бармен хмуро глянул на него и ответил:
— Заказывать будете?
Бен пошел пятнами — он почувствовал, как горит его белая кожа — он знал в себе эту особенность и ненавидел ее.
— Давайте кофе.
— Какой?
— Какой есть. Любой.
Бармен безучастно отвернулся, пока Бен вытаскивал из кармана мелочь. Ему подали кофе, который пах мазутом, на несвежем блюдце. Бен повел большим и чутким носом, не стал пить. Бармен, словно почувствовав себя должным, ответил:
— Мистер Скайуокер держит автомастерскую чуть ниже по дороге. Шиномонтаж, мойка.
— А миссис?
Бармен пожал плечами. Давешняя девчушка, потягивающая в стороне молочный коктейль, вдруг засмеялась и спросила громко:
— Зачем тебе Скайуокеры? Они все ненормальные.
Бен нахмурился. Он за долгие годы много мыслей передумал, но позволять ей сейчас так говорить… Он сделал несколько шагов к ее столику, навис над ней, как большая черная птица, но девушка смотрела бесстрашно и с вызовом.
— Нужны.
— Зачем нужны?
— Не забивай свою глупую голову.
Девушка фыркнула, потом махнула в сторону, указывая через окно на дом на высоком холме. Бен трепетно проследил за ее рукой, отметив про себя, что дом крепкий, высокий, светлый, не такой, как бывает… Может быть, ему нечего бояться. Другой страх схватил его за горло: у нее семья, дети, муж, она и думать забыла о том, что когда-то родила ребенка, и вот он появится на пороге этого дома, незваный, нежеланный, уже однажды отвергнутый… Отвергнутый — ни за что. И теперь он придет, весь такой потерянный, взрослый, с его тьмой в душе и прошлом — каковы шансы, что его не выставят за дверь?
Девушка спросила:
— Вот там они и обитают. А кто конкретно тебе нужен?
— Миссис Скайуокер. Лея Скайуокер, — имя вырвалось из горла, бережно, нежно. Это было его секретом — тем, что хранило его на протяжении лет, тем, что он шептал в моменты горя и отчаяния, в моменты высшей боли. Единственное, что он знал о своей родной матери. Имя. Короткое, как вздох. Лея. Ле-Я. Скай-Уокер.
— Мисс, — поправила девушка и нахмурилась, — Она не выходила замуж. Тебе лучше подождать здесь, в кафе, до пяти вечера. Будет шанс застать их всех. Раньше идти смысла нет. И если мистеру Скайуокеру не понравится твой визит… Будь повежливее, короче.
— Мистеру Скайуокеру? Кто он ей? — Не муж же… У мужа была бы другая фамилия. Она, должно быть, давно разошлась с отцом Бена. Бен видел его единожды: невысокий мужчина с какими-то опасными повадками, холодными голубыми глазами. Бен не помнил его лица, только глаза — и липкий страх папы и мамы. Бен помнил глаза — у него были такие же. До поры только в них не было такого холода. До Сноука, наверно, и его секты Братьев Рен. До первой крови. Своей и чужой. До первого шрама. До первой смерти.
Бен тряхнул головой, а девушка, слегка замявшись, сказала:
— Они… брат и сестра. Близнецы.
Она убежала быстро, не успел он оглянуться, не допив свой коктейль, свистнув своей собаке. Бен взял свой кофе, сел за столик, наблюдая внимательно за домом. Он не знал, что ему делать, поэтому послушался незнакомки, и стал просто сидеть, не раздевшись, не помыв руки, не притронувшись к кофе, хотя не ел ничего с самого утра. Он смотрел за домом, видел голые по весеннему времени деревья — целый сад… Ему вдруг захотелось, чтобы это были яблони. Мама Бреха всегда кормила его яблочным вареньем, когда он болел… Пока они не упали на этом самолете, в мае, когда, как раз, все яблони цветут…
В доме вдруг зажегся свет — на первом этаже. Бен дрожащими руками протер глаза, но огонек никуда не делся, манил, как маяк.
Бен встал, и, не оставив чаевых, дрожа, пошел по дороге наверх.
Он вошел в незапертую калитку, прошел по аккуратной дорожке, миновал клумбу, собачью будку, долго топтался перед тем, как взойти на крыльцо. Отряхивал свои сапоги, поправлял одежду, убирал волосы за уши, потом снова освобождал, вспоминая, какие уши у него оттопыренные и страшные, а он хотел быть красивым, достойным.
Он страшно разозлился на себя, в один шаг запрыгнул на самый верх, нажал кнопку звонка.
Раздалась мелодичная трель, послышались легкие шаги, два щелчка замка — и он, наконец, увидел ее.
Это была женщина лет сорока, с ясными глазами, маленькая — ему где-то по грудь. Она, не спрашивая его ни о чем, поманила его за собой, в круглую и светлую прихожую.
Он прошел, а потом сказал:
— Я ищу… То есть… Мне нужна… Вы… Лея? Лея Скайуокер?
Она кивнула, спокойно глядя на него. Он сказал, чувствуя, как кровь пульсирует в ушах, кругами встает перед глазами:
— Меня зовут Бен. Бен Органа. Я…
Лицо ее вдруг дрогнуло, кровь отхлынула от него, и Бену показалось, что она сейчас упадет, но она шагнула к нему, схватилась за него обеими руками отчаянно и радостно.
Они стояли так — он потерял счет времени, потом она тихо сказала:
— Какой ты высокий… Красивый… Настоящий…
Бен мог только молча сглатывать слюну и заставлять себя дышать.
Она вдруг отстранилась и сказала горько:
— Беги. Беги отсюда, пока не поздно.
— Почему? — глаза у Леи были печальные, и это вытравило из него весь гнев. Он шел сюда… Зачем он шел сюда? Задать вопросы? Взять расплату? Принудить к любви? Увидеть слезы? Вызвать гнев? Бороться? Нет. Подать руку и сказать — «Мама, я вернулся! Обопрись на мое плечо».
— Тебе лучше уйти, пока не вернулся твой отец. И твоя сестра, — Бен вздрогнул. Он ждал только ее, он думал, что сможет найти только мать, но, оказывается, у него был отец и этот отец был жив… Бен думал, что он скурился или был зарезан в драке, Сноук весьма четко ему озвучил приговор, которым его отец… Он зачитывал снова и снова, в те моменты, когда Бен осмеливался перечить или просто поднимать голову. Он делал это и с другими детьми, но Бен был самой любимой его игрушкой, его карманным монстром.
А теперь — отец… И еще сестра. Он остолбенел, пытаясь уложить это все в голове. Но Лея потянула его к выходу, все приговаривая, какой он стал красивый и высокий. Она шла спиной, бережно держа его за руки, ни на миг не отводила от него своих сверкающих глаз, и ему странно было что эта женщина — его мать! Его настоящая мать! — все еще так красива и так молода.
— Где угодно будет лучше, чем здесь. Пойми меня. Дай мне свои контакты, чтобы я могла отыскать тебя после, но уходи сейчас. Тебе нельзя здесь оставаться. Я бы все отдала, чтобы тебе было можно, все, только бы быть с тобой, искупить, поговорить, просить прощения… Но нельзя. Уходи, мой мальчик.
Они остановились в дверях, и Лея вдруг со странным всхлипом обняла его за талию, не дотянулась до плечей, до лица, крепко, бережно, так, как он мечтал все детство…

Дверь вдруг распахнулась с грохотом, столь неожиданном в этом тихом и светлом доме.
На пороге стоял невысокий мужчина в черной кожаной куртке, с холодными голубыми глазами. Бен вздрогнул, его предположения почти переросли в уверенность — и ему на мгновение стало страшно.
Из-за спины мужчины вдруг показалась давешняя девица с тремя хвостиками, вид у нее был встревоженный. Она так и вперилась глазами в Лею. Бен подумал, что она специально побежала к Скайуокеру, потому что почувствовала в нем, в Бене, опасность для Леи.
Лея сказала тихо, не глядя на мужчину, а глядя только на Бена:
— Люк, это Бен. Он сам пришел к нам.
Взгляд мужчины потеплел, а потом он медленно сказал:
— Бен… Мой мальчик…
А Лея сказала брату отчаянно:
— Хватит. Сколько можно, Люк. Отпусти его хотя бы, пусть у него будет шанс на нормальную жизнь.
Мужчина подошел к ней, зачем-то ударил указательным пальцем по руке, а потом бережно взял ее ладонь, погладил рассеянно, не отводя своих холодных глаз от лица юноши. Спросил — неожиданно тяжело и властно:
— Куришь?
Бен кивнул. Люк отпустил руку сестры, достал портсигар из нагрудного кармана, и протянул Бену зажигалку и сигарету. Бен взял сигарету, чувствуя себя скотиной на мясном рынке — ему казалось, что каждое его движение оценивают, что его осматривают так, как перед покупкой. Он попробовал перехватить игру и спросил грубо:
— А вы не будете курить?
— Почему нет? — легко сказал Люк, достал сигарету и щелкнул зажигалкой, — Теперь ты.
Они стояли прямо посреди прихожей, не сняв курток, Бен поискал глазами пепельницу, но не нашел, стряхнул пепел прямо на чистый, белый пол.
Люк сказал Лее:
— Нормальная жизнь? Да нет у него уже никакой нормальной жизни. Смотри, как скупо он двигается. Как украдкой озирается. Как держит сигарету. Так, чтобы можно было отстрелить окурок в глаза, и начать бить первым.
Повернувшись к Бену, он спросил:
— И за что же ты сидел?
Бен промолчал. Мужчина надавил:
— Покажи руку. Подними рукав.
Бен сжал зубы и сказал:
— Я пришёл сюда поговорить с матерью. Я вам не цирковая обезьяна. Прощайте.
Он двинулся к двери, но запнулся — девушка встала у него на пути, глаза ее полыхали, затягивали, сулили — как будто он не в первый раз в жизни ее увидел.
Он вдруг вспомнил Джайну Соло, ее пряные поцелуи под вишней, огонь ее глаз — а потом забыл, потому что эта девушка с тремя смешными хвостиками выжигала, казалось, все изнутри.
Скайуокер сказал:
— Гордый. Хорошо. Постой.
Бен оторвался от девушки, покачал головой и шагнул к двери.
— Посмотри на своего отца, Бен.
И Бен обернулся: Люк протягивал правую руку к нему — не для объятий, не для драки, скорее так, как приветствуют равного. Он закатал рукава: все руки выше запястья были покрыты застарелыми шрамами.
Бен сглотнул, и отодвинув мягкую ткань рукава, протянул свою руку Люку, чтобы пожать ее. Его шрамы были свежее, продуманнее, как будто кто-то вдумчиво нарисовал на нем невиданный узор.
Мужчины пожали друг другу руки.
Лея вдруг начала рыдать. Люк — лицо его мгновенно сделалось очень бережным — повернулся к ней, прижал к себе, поцеловал в лоб.
Рей сказала горько:
— Мама, ты опять забыла таблетки выпить? Ну, мама!
Люк чуть-чуть покачал Лею и над ее головой сделал движение глазами, которое предназначалось для Рей. Она поняла и сказала:
— Идём, Бен.
Бен чуть помедлил, но он нетерпеливо взяла его за руку и потянула за собой. Они вышли в узкий коридор, и она сказала, словно смягчившись:
— Не беспокойся, папа маму… Успокоит. Он один только и умеет ее успокаивать.
— Ты говорила, что они брат и сестра.
— Все верно, — яростно сказала Рей, — Они близнецы. Но разве я тебе не говорила, что все Скайуокеры — ненормальные?
Бен сглотнул. Она оборонительно и одновременно нападающе сказала:
— Что, теперь, в ужасе бежишь от нас?
— Нет, — сказал Бен и подумал о том, что может быть, если бы Органа воспитали его до конца, он ужаснулся бы. Но Сноук живо, методично и болезненно выбил из него все иллюзии. Кроме одной.
— До тех пор, пока… Пока у них хорошие отношения, они могут приходится друг другу кем угодно и делать что угодно.
— У них чудесные отношения, — сказала Рей агрессивно.
Люк усадил ее на диван на кухне.
Перехватывал ее руки, пока она пыталась залепить ему пощечину.
Отошел на некоторое расстояние.
Она, всхлипывая, сказала:
— Отошли его. Прогони его. У тебя же дочь растет. Нельзя, чтобы история повторялась! Ты видел, как он на нее посмотрел? Это ужасно, Люк. Ради всего святого, прогони!
Он стоял, раздумывая, что лучше: таблетка или укол.
Укол был надежнее, но она всегда очень нервничала до и обижалась потом. Ему самому это не нравилось — приходилось прижимать всем телом, держать крепко, почти до удушья одной рукой, другой колоть, чувствовать, как она бьется и кричит.
Он знал, что это на пользу, но ненавидел эти минуты.
Малодушно отвернулся и отошел к кухне. Достал кружку и спросил:
— Будешь какао?
— Иди к черту со своим какао, — ответила она связно. Он слегка выдохнул и обрадовался, что не выбрал укол. Он налил горячей воды, бросил чайный пакетик, насыпал немного сахара — нужно подсластить, всегда, когда горько, нужно подсластить. Сказал ей, глядя в кружку:
— Попробуй успокоиться, милая.
— Я тебя ненавижу.
— А я тебя люблю, — сказал он твердо. Иногда это действовало на нее. Чаще — нет. Но он действительно любил.
Он подошел к ней, держа кружку в руках. Она слегка расслабилась.
— Что ты принес?
— Чай. Выпей, тебе станет легче.
— Не хочу.
— Выпей, пожалуйста.
Она свернулась клубком, только глаза сверкнули агрессивно:
— Что ты туда насыпал? Не лги мне, я тебя знаю.
— Транквилизатор. Чуть посильнее, чем обычно. Ты же пропустила дозу. Ты же знаешь, что это опасно в обострение. Просто выпей, я уложу тебя спать, и завтра восстанешь полной сил.
Она смотрела на него недоверчиво и безучастно. Он надавил:
— Что ты обещала Рей?
Имя отщелкнуло, как хлопок в ладоши. Она медленно сказала:
— Да, ты прав. Девочка не виновата, что у нас такие ужасы.
Она взяла кружку, но он внимательно следил за тем, чтобы она сделала глоток, иногда бывало, что она отбрасывала напиток, даже поднеся его ко рту.
— Да какие ужасы-то? Все хорошо.
Он думал иногда, что было бы намного легче, будь он ей только братом. Или только мужем.
В другие дни он думал, что не выдержал бы этого всего, будь он лишь одним из них.
Она послушно выпила лекарство, он наклонился к ней, вытащил кружку из пальцев. Не удержался, легко, одним касанием, поцеловал ее в губы.
Лея ему слегка улыбнулась, и он снова преисполнился нежности: той, с которой бежал навстречу ее велосипеду, когда вышел из тюрьмы.
Он обнял её, погладил по голове — она не сопротивлялась. Потом сказал себе: спать сегодня он будет на тахте возле кровати, как всегда, когда у неё обострение и сбой курса. Когда у нее обострение, ее всегда нервирует его близость. Сегодня, кажется, все прошло гладко, но дверь он закроет на ключ, а тахта стоит прямо перед окном. На всякий случай.
— Мороки тебе со мной… — почти нормально сказала она.
— Ничего, — сказал он.
Иногда ему казалось, что она не так уж и больна. В тихие, счастливые периоды, которые составляли около девяти месяцев в году, не каждый врач диагностировал расстройство.
Думать об этом было страшновато, потому что такие мысли означали, что, невольно, руководствуясь одним ее благом, совершает насилие.
Люк ухватился за мысль, что в моменты обострений все врачи соглашались с тем, что ей нужна поддержка. Варианты варьировались от случая к случаю… кто-то предлагал просто травки и покой, но это не помогало.
Обострения случались два раза в год.
Ноябрь. Март.
Все врачи качали голова и говорили «что вы хотите, сезонное, это типично». Но Люк знал, что дело не в погоде.
В ноябре был убит их отец.
В марте родился их второй сын.
Родился — и умер.
Родился — и единого вдоха не сделал.
Их мальчик, который так и не увидел свет своими нежными карими глазами. Глазами, как у Леи.
Снег уже сходил с земли, а Люк метался по белой больнице — от Леи в администрацию и обратно — слепо, бессмысленно, бесполезно, как будто убегал от боли. Ему отказались выдать тельце, потому что право забирать его или оставить принадлежало только родителям, а он был дядя. Тогда он подделал подпись сестры на доверенности — все понимали, что он это сделал, но не задавали вопросов и не чинили препятствий.
Потом Лея лежала, отвернувшись к стене, в халате, мокром от молока, а дома стояла колыбель, которую Люк разобрал, медленно, складывая жердочку к жердочке, винтик в винтику, шайбу к шайбе, все завернул в газеты, переплел бечевкой и отнёс на чердак: так, словно вкатывал на гору камень, который непременно сорвётся вниз — но никого не раздавит, потому что смерть нужно ещё заслужить.
Лея ходила по дому тенью и иногда шепотом говорила ему, что это расплата за их родство, а он не смел протестовать.
В их доме стало очень тихо.
Но потом случилась Рей.
Март был страшным, последышем зимы, март поманил надеждой на счастье, март отнял у них одного сына, но может быть, март вернёт им другого?
Бен и Рей зашли в ее комнату. Бен огляделся: вокруг висели плакаты с рок-группами, стены были разрисованы черным углем: птицы и самолеты самых разных конструкций.
Она села на кровать, он, напротив, на стул. Оба молчали. И она на него смотрела, долго, пристально, вдумчиво, а потом сказала:
— Значит, ты и есть мой брат. Хорошо. Ты красивый и сильный.
Она скинула куртку, встала, подошла к нему. Коснулась пальцами лица — Бен вздрогнул, как будто его распяли гвоздями. Потом она склонила свое лицо к его лицу, и неожиданно поцеловала в губы — неумело, яростно, крепко. Он обхватил ее плечи, впился ответно, ошеломил напором, до кровавых кругов перед глазами, до красноты, до потрескавшихся губ.
Когда они отпрянули друг от друга — снова смогли дышать и смотреть, он вдруг понял, что она улыбается.
— Не бойся, — сказала она, а в глазах ее плясали золотые демоны, — Я приемная.
Он сглотнул и сказал твердо:
— А хоть бы и родная.
Она серьезно сказала:
— Ты папе не ответил, за что ты сидел.
— За убийство. С особой жестокостью.
Он вспомнил: кровь Сноука - кто бы мог подумать, что в таком старике столько крови? - ужас и свобода.
Он робко посмотрел на Рей, думал, что она отшатнется, что она закричит, выгонит его, но она только качнула головой, провела пальцем по его губе и сказала:
— Ты — мой брат.
— Лучше бы я умерла. В тот день, когда ты вернулся из тюрьмы.
Люк ко многому привык, но эти слова его отчаянно задели, и он упрямо возразил:
— Это не ты говоришь, это болезнь в тебе говорит.
— Лучше бы ты меня задавил велосипедом.
— Это ты на меня наехала.
— Нет, ты.
Люк закусил губу: ему говорили, что в таких случаях нужно давить на логику, что она восприимчива к ней. Но у сестры всегда был живой, математический ум, она и задачки щелкала в школе куда быстрее него. Но ему пришлось научиться:
— Нет, у меня не было велосипеда. Я только вышел из тюрьмы, у меня не могло быть велосипеда. А ты как раз ехала с почты.
Лицо у нее сделалось хмурое и она сказала:
— Черт, действительно. Ты прав.
Он склонился к ней, и она, сощурив глаза, сказала тихонько:
— Люк…
— Да?
— Наклонись.
Он придвинулся ближе, и она, как будто из последних сил, коснулась губами его губ.
— Как давят на меня эти стены… Проклятые таблетки, от них такая слабость. Я хотела бы побежать, но не могу… Мне даже сидеть тяжело.
— Хочешь, я вынесу тебя из дома? Посидишь на скамеечке на крыльце. Воздухом подышишь?
Она сказала:
— Один раз ты уже выносил меня из дома. Я думала, что что-то изменится. Я ошиблась.
— Хочешь на улицу?
— Да.
Он быстро сходил за курткой и шапкой, помог ей одеться. Поднял ее на руки, как носил всегда, с тех пор как им исполнилось шесть лет, вынес ее на крыльцо, усадил, полулёжа на скамейку, укрыл ноги пледом, сам сел рядом. он не стал зажигать свет на крыльце, они сидели в полумраке, освящаемом только отблесками лампы Рей, комната которой находилась как раз на втором этаже, окно которой выходили на крыльцо и дорогу.
Рей — почти как солнечный луч. Она всегда и была — свет.
Даже когда он ее в первый раз увидел.
Когда он ее нашёл, она был зверёнком. Маленьким и ярким, но яростным и диким.
Она была слишком похожа на маленькую Лею, чтобы он мог спокойно пройти мимо этих двух женщин: они собирали милостыню у подземного перехода. Он долго беспомощно стоял, глядя на них — ему хотелось помочь, спасти, вырвать их из сетей нищеты, он вывернул карманы, он отдал им все деньги, а после пошел в свой тихий, темный дом, и обнял свою молчаливую сестру.
Когда он увидел девочку во второй раз, женщина была другая: с наглыми, чуть сонными от наркотиков глазами, похожая на цыганку. Он вырвал девочку из рук этой женщины, которая просила милостыню, словно разорвал цепи.
Он вырвал, и женщина умело заголосила, пытаясь вызвать сочувствие в проходящих мимо людях, но Люк уверенно бросил:
— Ты ей не мать!
Женщина огляделась кругом и сказала свистящим злым шепотом:
— Тебе это с рук не сойдёт, мудила. Знаешь, кто за тобой придёт?
И Люк широко улыбнулся — боль требовала выхода, сыновья — потерянный и неоплаканный — взывали к мщению, девочка в его руках не знала материнской ласки и тепла, все это было уже за гранью боли и ужаса, далеко за пределами человечности, и он сказал, чувствуя поднимающиеся на периферии зрения лепестки кровавой ярости:
— Пусть приходят. Пусть все приходят!
Он долго сидел в машине, глядя на то, как девочка спит, страшась идти в дом, к своей Лее, боясь, что это причинит ей только боль. Когда они все-таки вышли, и девочка, ведомая им, робко перешагнула порог дома, Лея, вышедшая к ним, вытиравшая полотенцем руки, уронила его, подобрала, снова уронила и сказала — живо, горячно, радостно:
— Малышка, какая же ты худенькая! Идём скорее мыться, а потом обедать. Люк, там суп на плите, последи за ним! И не забудь посолить.
Лея увлекла малышку за собой, и девочка почему-то сразу поверила ей. доверчиво вцепилась в руку. Сестра снова стала такая веселая, такая молодая, что Люк почувствовал, как слезы режут его глаза. Суп у него выкипел, потому что он в волнении ходил туда-сюда по кухне, но они съели и такой. Они уложили ее спать между собой, склонились над ней, стукнувшись лбами, а потом Лея открыла дело об удочерении, а Люк достал с чердака кроватку из бука и сжёг все газеты прошлогодние газеты.
Они пришли через несколько дней. Втроем, они пришли припугнуть.
Бедные, они не знали, что Люк уже ничего не боялся.
Он сильно повредил правую руку, был суд, его признали невиновным.
Люк говорил, что им больше нечего бояться, что половина банды арестована, но Лея стала плохо спать ночами, ее нервозность передавалась дочери. Тогда они продали свой дом — легко, без сожалений, переехали к морю, построили новый — без подвалов, так, чтобы вечером видеть маяк.
Лея оказалась вдруг такой внимательной и сильной, как будто она все жизнь только и делала, что выхаживала раненных зверят, а девочка была настоящая: то капризная, то любящая, то недоверчивая, то отважная, то приворовывающая, но всегда — преданная и с добрым сердцем.
Их маленькая приблудная дочь.
Лея тихонько вздохнула рядом с ним, возвращая к реальности, и он обнял её худые плечи. Лею клонило ко сну, но она еще раз сказала:
— Ты должен его прогнать.
— Он пришел домой. К своим родителям.
— Он пришел в ад.
— Лея… Каждому нужен дом. А в нашем доме нет никаких подвалов.
Он был счастлив. Счастье его было похоже на небо, которое иногда закрывали тучи, и тогда он начинал считать все то, что у него есть.
Его Лея. Его дочь, Рей. Его свобода. Его мастерская и ученики.
И теперь, кажется, будет сын.
Рей
Когда она зашла в мастерскую, то ее встретил молодой и незнакомый парень, с мягкими кудрями и очаровательной улыбкой. На нем была новая форма, но в движениях не было нервозности, свойственной новичку, и Рей подумала, что это особенный талант.
— Я — Рей.
— Я знаю, — улыбнулся он ей, и протянул руку — не так, как мужчина мужчине — чтобы пожать, не так как мужчина женщине — чтобы поцеловать, а так, как протягивают дети — чтобы подружиться. Она протянула ему руку в ответ и пожала точно также.
Потом спросила, видя, как к ним подошел темнокожий парень в рабочей форме:
— Дядя у себя? Привет, Финн.
— Привет, Рей. Да, у себя.
Рей проскользнула мимо них, прошла по длинному, заваленному машинными деталями коридору, и По проводил ее взглядом — слегка туманным и задумчивым. Финн, видя это, сказал:
— Ты осторожнее, если что, мистер Скайуокер тебе мигом голову оторвет. Я, чтобы по-дружески сводить ее в кино, полгода доказывал свою надежность. И то мистер Скайоукер ждал нас в фойе прямо после сеанса.
По хмыкнул:
— Строгий дядя? Надо же, я думал, что это отменили в прошлом веке.
— Если и отменили, то он об этом не знает.
Она стукнулась — три коротких, потом еще два — и вошла.
Папа стоял у окна и разговаривал по телефону — провод натянулся, но он этого не замечал. Он махнул Рей, но не отвлекся. Она пододвинула аппарат ближе к нему и села в кресло напротив его стола, скучающе принялась разглядывать ногти. Вспомнила элегантный маникюр мамы, кустарный, но старательный — одноклассниц, но ее руки с заусенцами были ее милее всего. Они говорили — я умею обращаться с отверткой, молотком и машинным маслом, также, как мой отец. Рей всегда была больше папина.
Люк оглянулся на нее, хотел было достать портсигар, но не стал. Врачи говорили, что ему нужно бросать, удивительно, но он послушался и сократил. Вот только в марте и ноябре курил больше обычного.
Рей и сама курила в эти месяцы — тайком от папы, но не прячась от мамы.
— Вы понимаете последствия вашего отказа? — сказал Люк резко, со свистящим хрипом в конце предложения, и Рей подумала, что не завидует папиному собеседнику.
— Нет, я не угрожаю. Просто осведомляюсь… Времени вам — до начала следующего месяца.
Он положил трубку, отряхнулся, словно возвращаясь в здесь и сейчас, потом взглянул на Рей.
Та внимательно и быстро огляделась — это была привычка, потом сказала:
— Папа…
— Да, малыш?
— Я встретила в городе молодого парня. Он спрашивал про маму.
— Про маму? — медленно сказал Люк, и его лице ничего нельзя было прочесть.
— Да. Он приезжий. Я сказала, чтобы он приходил к пяти часам. Но показала дом. Зря, наверно.
Люк достал из шкафа кожаную куртку, и, нахмурившись, сказал:
— Едем сейчас.
Они вышли из кабинета, прошли через мастерскую, Люк сказал что-то Финну, тот кивнул.
Когда они подошли к машине, Люк все-таки достал сигарету, глядя на Рей слегка виновато, но та не стала протестовать: открыла заднюю дверцу, и Биби проворно запрыгнул внутрь.
Люк сказал, глядя куда-то в даль:
— На твое имя сегодня пришло письмо — сразу после того, как ты умчалась. Я, конечно, его не вскрывал, но… На конверте был обратный адрес. Колледж гражданской авиации, Форт Пиерс. Ты ничего не хочешь мне рассказать, малыш?
Рей напряглась. Потом сказала, как будто собравшись с духом:
— Я подала заявку, папа. Я хочу быть пилотом.
— Форт Пиерс — это же Флорида. Через всю страну… Так далеко.
Люк смотрел вдаль, в точку, где небо и земля смешивались в предвечернем тумане.
— Я хочу быть пилотом, папа.
Люк пожал плечами. Помолчал, мучительно не глядя на нее, потом, словно собравшись с духом, сказал:
— Я думаю, если даже ты не выиграешь грант, нам хватит денег на то, чтобы оплатить обучение. Будешь приезжать на каникулы… На Рождество…
— Правда?..
— Конечно, — он обернулся, и глаза у него вдруг стали удивительно синими, — Конечно, ты станешь пилотом. Это долго, тяжело, изнурительно, но ты станешь. Тебе будет труднее, чем другим, потому что ты девушка, но ты не боишься трудностей, правда, малыш?
— Папа! — растроганно сказала Рей.
— Я и сам хотел одно время… Но маму нельзя было оставлять надолго, и к тому же, кто доверил бы самолет человеку с двумя судимостями?..
Рей вдруг шагнула у нему и повисла у него на шее. Он похлопал ее по спине, потом сказал тепло и немного ворчливо:
— Ну, будет, будет. Поехали домой, надо проверить, что там за молодые мужчины разыскивают твою маму. Уж не любовника ли себе завела, как считаешь?
Рей прыснула от смеха.
Рей все знала о судимостях. Вторую она даже смутно помнила — не самую ситуацию, конечно, но то, как мама оставляла ее с чопорной миссис Ваноцки, когда ходила на разбирательства и свидания к папе. У миссис Ваноцки нельзя было бегать и сильно шуметь — пожилая дама страдала мигренями, и три ее кошки, под стать хозяйке — были удивительно пуганными существами. Миссис Ваноцки пыталась научить Рей печь пироги, но у нее ничего не получалось. Женские ремесла ей не шли, словно она была отлита из металла и песка. Но она упорно старалась. Рей загадала, что если получится — папа вернется к ним.
Сработало.
И когда папа вернулся — бритый, счастливый, за руку с такой молодой и радостной мамой — получивший условный срок — на столе его ждал пригоревший, неказистый, но удивительно вкусный яблочный пирог.
Лея сидела за столом, напротив сидел Люк — руки его были скованны, правая — поврежденная, была забинтованна. Полицейский стоял в углу, и все, что Лея могла — протянуть свои руки к брату и коснутся кончиками пальцев его рук.
— Как вы там?
— Все хорошо. Рей плохо спит, но я водила ее к врачу, он прописал легкое успокоительное. Не бойся за нас… Я говорила с адвокатом и буду выступать в суде как свидетель. Я не боюсь, и теперь уже не расплачусь. Как твоя рука?
— Хорошо! Была порвано сухожилие, но кажется, срастается правильно.
Она погладила его указательный палец своим, а потом с незаметной улыбкой сказала:
— Твоей жене дали бы право свидания наедине. На несколько часов. Часов, представляешь?
Он улыбнулся также, но чуть шире, чем она ему — полицейский стоял за его спиной, и он, вынужденный скрывать свою любовь на словах, мог хотя бы улыбаться ей так, как хотел — трепетно и нежно:
— Ничего.
Коснулся пальцем ее руки, провел по ладони любовно и нежно, она схватила его руку — левую — обеими руками, как будто заключила в объятия его целиком. Сказала:
— Мы ждем тебя, брат.
Полицейский подошел чуть ближе, потому что это было запрещено во избежание передачи записок или запрещенных вещей, и Лея испуганно убрала руки, но Люку хватило этого прикосновения — его ничего не могло стереть — ни обыск, которому его всегда подвергали после свиданий, ни болезненные перевязки, ни ужасающе-привычный холод наручников.
Мама заплетала ей косички, темным ореолом вокруг светлой головы: Рей умела сама, но она перешла в другой класс, и сегодня в первый раз шла в школу, требовалась особая аккуратность. Рей волновалась больше, чем показывала, злилась за это на саму себя. Пальцы Леи — холодные и тонкие — привычно и мягко мелькали вокруг головы дочери.
Рей смотрела в зеркало, сравнивала их отражения: ей казалось, что она невероятно груба и некрасива, особенно в сравнении с хрупкой мамой, которую уже обогнала в росте.
— Я никогда не выйду замуж, — внезапно вырвалось у нее. Лея на мгновение замерла, потом сказала тепло:
— Что ты… Выйдешь, конечно.
— Как жаль, что у меня нет брата.
Лея снова замерла — на этот раз дольше — пальцы левой ее руки, сжимавшей шпильку, сжались и чуть дрогнули, но правая рука, державшая волосы Рей, осталась все такой же нежной. На ее лицо набежала тень, и Рей поняла, что мама думает о сыновьях: погибшем и потерянном. Раскаяние коснулось ее, но прежде, чем она успела подобрать ободряющие слова, Лея спросила:
— Почему ты думаешь о брате?
— Ну как же… — Рей даже растерялась от этого неожиданного вопроса, — Он полюбил бы меня.
Лея посмотрела куда-то в сторону, в пустоту, словно искала и никак не могла найти ответа.
Вечером они позвали ее на кухню: мама сидела за столом, папа, отвернувшись, стоял у окна. По тому, как они были напряжены, Рей поняла, что они что-то обсудили между собой и теперь хотели поговорить с ней. Ей это не понравилось: будто они вместе выступали против нее.
Мама сказала:
— Послушай… Ты знаешь, насколько… необычна наша семья. Рей… Не бери пример с нас с папой. Это ненормально.
Папа вдруг повернулся к ним, вид у него был печальный. Рей мучительно сказала:
— Почему это ненормально?
Люк вдруг оттолкнулся от окна, шагнул к Лее, легко хлопнул ее по руке, а потом положил руку на ее плечо. Лея подняла на него глаза и сказала нервно:
— Люк, скажи ты ей!
Он откашлялся — и Рей поняла, что он не поддерживает маму в ее стремлении развивать этот разговор, но считает нужным хотя бы не противодействовать ей.
Как и всегда.
Люк сказал, обращаясь к сестре:
— Лея, не надо. Ей четырнадцать лет. Мы можем поговорить об этом потом.
— Нет, сейчас! Да, ей четырнадцать, но столько было и нам, столько было и мне, когда мы…
Мама осеклась и замолчала. Рей переводила взгляд с одного на другого — и отчаянно пожелала оказаться в своей комнате.
— В доме нет ни подвалов, ни монстров. И братьев у неё нет, — Рей вдруг подумала, что папа последних приравнивает к остальным опасностям, — Дай ей еще вырасти.
— Люк… — сказала Лея тем особенным тоном, которым иногда говорила его имя, и Рей поняла, что папа сейчас сделает все, как она хочет.
— Хорошо. Рей, послушай. Мама права. Не нужно на нас равняться…
— На кого мне еще равняться? — упрямо сказала она, — На тех, кто продал меня за бутылку пойла? На тех, кто притворялся моими родителями, чтобы выпрашивать милостыню? С легкостью! Вы только скажите — на этих или на тех?!
— Рей!
— Нет! Я ничего не хочу слышать! — завопила она и выбежала с кухни.
— Передай мне соль, малыш.
Они сидели за столом, мягкие сентябрьские сумерки кутали их. Мама с силой потёрла ладони, и Люк, не говоря ни слова, укрыл пледом ее плечи.
Она, не глядя на него, потянулась к ножу, и нормальный мир Рей рухнул, стоило маминым тонким пальцам обвиться вокруг рукояти ножа.
Лея положила левую руку на стол и вдруг начала ударять ножом между пальцами — сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Нож скользнул, оставил багровый след на мизинце, но она словно не заметила этого, продолжила свою игру, и смотрела на Люка, ухмыляясь. Он отодвинулся от стола, привстал, завороженно глядя на танец ее рук. Она сказала — резко и злобно:
— Сядь. Сядь на место, я сказала.
— Лея…
— Нет, теперь мой черед. Увлекательная игра, правда, брат? Кому больнее будет — мне или тебе? Правда, забавно?
— Прекрати!
Но она — нарочно, даже Рей это поняла — ударила себя ножом по большому пальцу, слабо охнула, но продолжила:
— Взгляни на свою руку — больно? Проступила у тебя кровь?
Люк, пригвожденный было ее словами, резко встал — стул жалобно скрипнул. Он метнулся к ней, схватил ее руку, державшую нож, заломил ее, выхватил обагренную сталь.
Лея вскрикнула и закричала, яростно стуча кулаком по столу:
— Ты — Вейдер, Вейдер, Вейдер! Не прикасайся ко мне!
Люк застыл, выпустил ее руку, и глаза у него сделались совершенно дикими. Рей, неожиданно для себя, издала короткий звук — полу стон-полу всхлип. И папа — нет, не папа — отец — поднял на нее яростный и тяжелый взгляд, и в первый раз в жизни закричал на нее, в первый раз за всю жизнь повысил голос на нее:
— Марш в свою комнату! Быстро!
Рей, как ударенная, выметнулась из-за стола, выбежала, вылетела из ставшей вдруг страшной и чужой кухни, от этих своих привычных, но ставших чуждыми в одно мгновение людей, которых привыкла называть родителями.
Она, не заметив, пролетела лестницу, коридор, вбежала в свою комнату — такую девичью, уютную, маленькую — из доброй и безопасной вдруг ставшую темницей, куда может ворваться невиданное зло.
Она стояла, некоторое время, дрожа, стараясь не прислушиваться к звукам, доносившимся откуда-то снизу, к отчаянному крику мамы — но не могла, как заколдованная. Потом она подтащила стул к двери, чтобы ее забаррикадировать, потом второй, потом тяжелые сумки, книги — но ей казалось, что ничто не сможет удержать тот ужас, что внезапно вырвался из клетки и сожрал ее отца и мать. Плача, почти ничего не видя от слез, она все носила и носила вещи к двери, прислушиваясь к звукам внизу: крик сменился рыданиями, сначала яростными, потом горькими, тихими. Раздался, наконец, голос отца: ровный, тихий, нежный. Он как будто уговаривал маму, и Рей вдруг представилось, как они сидят на полу, и он нежно обнимает Лею, пытаясь ее успокоить.
Она тряхнула головой и подкатила к двери журнальный столик.
Маму не было больше слышно: только тихий и ровный голос отца все журчал и журчал, но после — стих и он.
Тогда Рей легла на кровать и обняла подушку, которая скоро промокла от ее слез.
Папа пришел к ее комнате через несколько часов — слабо постучал. Три раза, потом еще два. Позвал умоляюще:
— Малыш… Хочешь апельсин? Я апельсин тебе принес.
Рей не двинулась.
— Малыш… Извини меня, малыш.
Рей села на кровати, пытаясь справиться с душащими ее эмоциями — голос папы обволакивал, успокаивал, уговаривал: все будет хорошо. Но Рей не могла поверить в это.
— Малыш… Точно не хочешь апельсинчик?
Рей шмыгнула носом и подошла к двери.
— Малыш, я не хотел. Ты видела, в каком мама была состоянии… Я испугался. Я побоялся, что не справлюсь с вами обеими, если ты вдруг заплачешь…
Рей отодвинула комод, распихала половину вещей, закрывающих проход — там был ее папа, и другого у нее не было. Ободренный звуками ее возни, папа сказал:
— Я знаю, я твой отец, я должен был... Но я очень испугался. Этого больше не повторится. Пожалуйста, открой. Давай поговорим. Пожалуйста.
Она оттянула стулья, один, другой. Несмело приоткрыла дверь. Папа стоял перед ней: вид у него был виноватый, голова опущена, и в левой руке он действительно держал любовно почищенный апельсин. Он сказал, глядя на ее ботинки:
— Мама спит. Я ее уложил поспать. Она… Она столько пережила… Ей нужна помощь, малыш, врачебная помощь. Я думал… Я и раньше видел, но поверить боялся. Ничего. Не бойся. Я справлюсь. Мы справимся с этим — вместе.
И Рей проскользнула сквозь узкий проход, повисла на шее у папы, который осторожно ее обнял — руки у него были в маминой крови и сладком соке апельсина. Он погладил ее по голове, по темным, как у матери, волосам, и рассеянно сказал:
— Вот так. Вот и хорошо. Все будет хорошо, малыш. Я тебе это обещаю.
Рей всхлипнула и прижалась к нему сильнее — так, как прижималась всегда, находя утешение, любовь и защиту — так, как прижалась когда-то давно, когда он впервые привел ее домой, когда он сказал ей, что она — его дочка.
Его малыш.
— Ты похож на деда.
Бен обернулся, вздрогнул, Рей смотрела задумчиво, словно расчленяя его на людей, которых знала, на идеи и смыслы, разбирала, как разбирала все игрушки, когда была маленькой, как разбирала детали машин, когда подросла. Смотрела так, словно хотела понять, как он устроен. Откуда взялся его огонь, откуда его злое смущение, откуда тьма, танцующая вокруг него завитками, словно корона его волос. Бен спросил:
— На деда?
— Да. В гостиной стоит его с бабушкой карточка. Посмотришь утром. Я долго думала — на кого, сначала решила, что на папу. Но потом поняла — нет, на деда.
— Какого черта ты так долго не шел?
Он смотрел на нее — молча, не мигая, папиными синими глазами. В его взгляде нельзя ничего было прочесть, но Рей понимала его на каком-то невероятном, нутряном уровне. Она вспомнила все свое детство: все ее детство он был с ней, смутным вихрем где-то на периферии взгляда, в самых уголках глаз, колебанием теплого воздуха за правым ее плечом, мечтой и желанием. Тоской, которая догоняла ее в самые яркие минуты веселья, жившей в самом ее смехе. Он всегда был с ней, мысль о нем не оставляла ее, но теперь он пришел — живой, телесный, объемный — его можно было обнять, его можно было ударить. Она продолжила агрессивно:
— Ты хоть представляешь, как мы ждали тебя? Как я ждала тебя? Почему же ты так долго не шел?
Он наклонился к ней, ближе, чем кто-либо когда-либо, ее обдало жаром, когда он хрипло, страшно сказал:
— Я… задержался в пути. Но я здесь теперь.
Она обняла его — едва доставая до его плечей, встала на цыпочки, обняла за шею — и сказала:
— Да. Да, теперь ты дома.
Лея
Если бы ее спросили, она точно могла бы назвать день и час, когда ее брат сошёл с ума.
Семнадцатого марта тысяча девятьсот восемьдесят шестого года в семь часов двадцать минут после полудня по вашингтонскому времени.
Это было время, когда ему принесли в картонной коробке крохотное, трёхкилограммовое тело их сына. Ему предлагали кремацию, но он отказался. Он похоронил его на кладбище, нарек посмертно Энакином, и никогда не говорил о нем.
Лея потом, через десять лет, когда искала фотографии для Рей, вдруг пожелавшей узнать, какой она была, когда была совсем малышкой, нашла все эти документы. Очень долго не дышала.
Она не удивилась имени — отец приходил к ней во снах всю беременность.
Одинокий, старый, нестрашный. Садился на своё кресло в углу кухни, посасывал набалдашник трости. Почти не говорил, только смотрел мутными глазами, грустно глядя на неё, и вздыхал. Один раз сказал:
— Так ты все-таки беременна, доченька? Может быть, теперь хорошие врачи и ты не умрешь?
Лея просыпалась, прижималась плотнее к Люку, он сонно обшаривал ее, гладил ее по голове, находил живот, гладил ребёнка, целовал успокоительно и нежно.
Она все волновалась — боялась родов, да ходить было тяжелее, чем с Беном, но все легче в шестнадцать лет. Люк окружал ее невиданной заботой, высаживал цветы под окном, выкрасил дом в светло-голубой. Каждый день говорил ей, как она красива.
Они даже съездили посмотреть на Ниагару — Лея захотела, и он бросился исполнять.
Лея сожгла потом все снимки, где она стоит, обнимая нежным защищающим жестом, так характерным для всех беременных, свой небольшой живот, на фоне огромной воды и щурится от солнца.
У Люка слезились глаза — от солнца? От счастья?
Все закончилось шестнадцатого марта в четыре часа утра.
Лея, изнурённая долгими родами, почти теряющая сознание, сквозь дымку боли увидела мельком тело, услышала крик медсестры:
— Качай, качай, откачивай!
Деловитый топот медсестры, переходящий в панический, и все не верила, все не могла поверить.
Люк собрал все детские вещи: любовно выглаженные, маленькие, разноцветные, сложенные на полки, и отнёс их в приют. От него ускользнул только мишка, светло-голубой, шерстяной, и он часами сидел на ее кровати, широко расставив ноги, крепко держа игрушку обеими руками, склонив голову.
Он почти не говорил, однажды сказал только:
— Ты была права. Он не хотел к нам приходить, и ты это поняла. Я был не прав. Мы прокляты, сестра.
Он сошёл с ума в марте, но она, охваченная своим горем, поняла это только к ноябрю.
Обострения случались как по часам — ноябрь. Март.
Она даже не удивилась, когда поняла, что мания, его безумие сконцентрировались на ней одной. Он пытался заботиться о ней так, как если бы она была снова беременна, так, как если бы она умирала. Он боялся за нее: ему все мерещились опасности, ужасы, которые могли с ней сотворить другие люди. Того, что она сама могла с собой сотворить.
Ноябрь. Март. По три недели. Шесть недель в году. Полтора месяца. Сорок пять дней. Сначала он просто провожал ее на работу и встречал. Потом заходил в перерывах. Потом и вовсе стал брать отпуска, просиживал в приемной или в кафе напротив — чтобы быть рядом.
Потом он вовсе перестал выпускать ее из дома.
Когда Лее казалось, что он душит ее своей заботой, она вспоминала: кровь их отца, кровь их сына. Молчала.
С работы пришлось уйти.
Он водил ее ко врачам: врачи смотрели недоверчиво, хмурились, после — долго говорили с ней наедине, она рассказывала в общих чертах историю — без того, чтобы признаться в их связи. Про то, что их отец сошел с ума, что он мучил ее брата, что его сын погиб, не родившись. Врачи долго говорили, что помощь нужна ему, она кивала, но не вела его к докторам — не верила, что те могут помочь.
Он приносил таблетки, говорил, что ей нужна помощь, что ей нужна защита. Она выкидывала их, смывала в унитаз, делала вид, что глотает. С годами он стал подозрительнее, меньше доверял ей. Она не помнила день, когда ей в первый раз пришлось выпить таблетку, но помнила то спокойствие, которое охватило ее после: она как будто задеревенела, стала мраморно-стальной. Она подумала, что может пить эти таблетки, даже курсом, если это вернет покой его измученной душе.
В конце концов, все стоило того: это же был Люк.
Лея однажды набралась храбрости и поговорила об этом с дочерью:
— Папа болен, Рей. Но с этим живут. Не бойся. Мы будем с этим жить.
Лея ожидала ужаса, но не такого. Рей взвилась, закричала, как птица, умирающе:
— Папа тоже? Нет, нет, нет!
Выбежала из комнаты, бежала через лес, через поле, к горе, туда, где мине-белая небесная высь манит и манит утешением и забвением.
Через несколько дней Лея застала ее курящей отцовские сигареты, ещё через три недели Рей сделала татуировку на плече — летящая птица, кажется, сокол. Смотрела на мать с вызовом — а ну теперь попробуй наказать! Но Лея только покачала головой, а потом прижала своё дитя к сердцу, плотно, крепко, нежно, да так, что Рей опять разрыдалась, и сама Лея за ней следом: Люк так и застал их, страшно разозлился, спросил только яростно и хрипло:
— Кто посмел?
Но Лея притянула его к себе, к ним, на пол, и они бросились с обеих сторон обнимать его — он ничего не понял. Только то, что некого наказывать за обиду дочери или жены, потом улыбнулся, присел, подхватил обеих за спины, приподнял.
Сразу двоих, так, как будто они были кошками, как будто они вообще ничего не весили.
Она стелила сыну постель — один раз за все почти тридцать лет, подушку выбивала, все глядела на него искоса, наглядеться не могла.
— Ты, верно, ненавидишь меня что я от тебя отказалась?
— Нет. Когда-то — да, но сейчас — нет. Ты мне жизнь дала.
— Жизнь это хорошо? — мучительно спросила Лея.
— Жизнь это страшно. Но лучше, чем нежизнь.
— Я тебя не знаю совсем. Добр ли ты, честен ли.
— Я не добр, мать.
— Пообещай мне одну вещь… Хотя с чего тебе, много добра ты от меня видел?
— Я готов. Чего ты хочешь?
— Не выходи ночью из комнаты. Сегодня и впредь. Не ходи ночами, не гуляй по дому, даже если ты знаешь, куда идти. Даже если тебе рассказали.
Он отвернулась и заправляла одеяло в пододеяльник, а он смотрел на это так, как будто видел это в первый раз и сказал тихо:
— Обещаю.
Люк спал на зеленой тахте, а к ней сон не шел: она все думала, то принималась безмолвно плакать — руки у мальчика были в шрамах, а душа? И все-таки он пришел. Он вернулся. Сам, по доброй своей воле. Ее взрослый, сильный сын. Не младенец, которого она незаметно поцеловала, перед тем, как отдать навсегда — чтобы никто не видел, чтобы никто не понял, как ей тяжело его отдавать.
Лея тихонько села на кровати, боясь разбудить брата. Взглянула на него, и преисполнилась нежности — той, что была с ней, когда он чуть не сбил ее велосипедом. Он посуровел с годами, и волосы у него были теперь разноцветные: золотые и серебряные. Но Лея видела перед собой все того же мальчика, который клялся, что не позволит больше никому ее обидеть.
Она хотела погладить его по голове, поцеловать спящие глаза, но знала, что тогда он проснется и никуда ее не выпустит, а ей нужно было выйти: помимо пришедшего сына, сына-чужака, сына ее крови, у нее еще была дочь, дочь, которую она вскормила не своим молоком, но своими слезами, дочь, рожденная не кровью, но сердцем.
Лея выскользнула из двери: он не знал, но она еще давно сделала себе второй ключ. Она спустилась вниз, миновала два пролета, подошла к гостевой комнате. Постояла у двери, надеясь услышать хоть что-то, но в комнате было тихо. Лея услышала лишь гул улицы, шум проехавшей в ночной тишине машины, а потом очень осторожно открыла дверь
Бен сдержал обещание — он никуда не ушел.
На подушке лежали две головы: каштановые волосы Рей в свете фонаря казались совсем рыжими, переплелись с черными волосами Бена, как огонь, переходящий в пепел. Он обнимал ее во сне рукой, и она прильнула к нему: любовно и трепетно.
Лея тихо-тихо, долго-долго смотрела на них, а после осторожно закрыла дверь.
Она пошла обратно, беззвучно, как призрак, чтобы вернуться к своему брату, но он опять опередил ее: Люк потерянно сидел на лестнице, уходящей вверх. Увидев ее, он просветлел лицом и сказал ей с укором:
— Опять ты бродишь по ночам.
— Брожу, — согласилась она.
Он с силой потер глаза, будто хотел вытереть набежавшие слезы.
— За что ты так со мной? Ведь я люблю тебя.
— Знаю.
Она села рядом с ним, потянулась к нему — всем телом прильнула, прижалась губами к губам. Это был не поцелуй страсти, но поцелуй утешения. Обещание. Клятва. Ты со мной, а я с тобой. Всегда.
Он взял ее за руку — правой, покалеченной рукой. Лея часто разминала ее, когда менялась погода, потому что знала, что рука болит и ноет. Он никогда не просил, но она всегда знала, когда нужно это сделать. Она чувствовала его боль как свою — они ведь были близнецами.
Люк встал, потянул ее за собой, она поднялась.
Некоторое время они стояли молча, а потом пошли наверх: миновали второй этаж, третий, поднимались все выше и выше, выше дома, выше облаков, прямо в бело-синюю небесную высь, где, протянув к ним руки, стояли и ждали их отец и мать — молодые, прекрасные, такие, какими были в день своей свадьбы.


Ктая, блог «Ловец снов»
* * *
Все мы немного волки или чуть-чуть — собаки.
Щуримся исподлобья, смотрим, наморщив нос.
Все мы — порою кошки. Когти не прячем в драке,
Ходим по скату крыши, гордо топорщим хвост.
Кто-то местами птица — певчая или хищник
Волосы-оперенье, быстро-летящий шаг.
Кто-то же — тишь-куница, ходит на мягких лапах,
Стелется по деревьям, бегает сквозь овраг.
Но, вообще-то — люди. Разные и не очень.
Кто-то поет сонеты, кто-то крушит гранит...
Кто-то играет в эльфов, киборгов и драконов
Кто-то же просто любит, верует и хранит.
Все мы немного — кто-то. Паззлами и стихами
Строим себя, рисуем, может, даже поем.
И, вдруг в себя поверив, скрипками-чертежами
Можем открыть все двери.
Можем достичь всего.

Darth Juu, блог «Мурлыкать можно»
Чайное приобретение.

Сегодняшнее мое чайное приобретение - чай габа алишань. Очень хорошо действует на нервы, успокаивает. Правда, стоит как крыло самолета: 100 грамм - 1250 рублей. Но для нервов очень уж хорош, правда, по своему опыту говорю.
Свое странное название этот чай получил от английской аббревиатуры, сокращения от gamma-aminobutyric acid. Это вещество участвует в работе мозга, усиливает кровообращение, увеличивает потенциал нейронов и оказывает стимулирующее действие на головной мозг млекопитающих, а значит, и человека. Впервые это вещество было синтезировано в 1960 году, но в отличие от него ГАБА-чай сам по себе содержит гамма-аминомасляную кислоту. Этот чай можно считать молодым, поскольку технология его приготовления была разработана только в 1987 году в Японии группой ученых, работавших над изучением воздействия гамма-аминомасляной кислоты на мозговую деятельность. Открытие было сделано в Национальном центре по изучению свойств чая под названием «Tianjin Zhi». Через два года чай поступил в свободную продажу в Японии, но не экспортировался и не производился в других местах. В 2001 году китайские ученые в ходе исследований доказали положительное влияние, которое оказывает чай.
Цена его тогда была уже не очень высокой, но он оставался эксклюзивным продуктом. После открытия технологии в Японии производство началось на Тайване, где технология была усовершенствована и доработана. Через некоторое время появился и китайский чай ГАБА, который в настоящее время является самым распространенным. На рынке представлен преимущественно он.
Процесс приготовления Несмотря на то, что самым качественным считается тайский чай, этапы его производства везде практически одинаковы. Так, в процессе производства листья подвергаются вакуумной обработке, то есть без доступа кислорода. В течение десяти часов лист томится в емкостях с азотом в анаэробных условиях. В результате такого воздействия в листе образуется очень много аминомасляной кислоты. Это - нейромедиатор с уникальными свойствами. Он обеспечивает взаимодействие между клетками мозга и обычно вырабатывается в организме без применения дополнительных стимуляторов. Но плохое питание, стрессы, высокая умственная нагрузка, курение и воздействие алкоголя блокируют синтез этой кислоты, в результате чего скорость мозговых реакций уменьшается.
Основные симптомы нехватки аминомасляной кислоты - апатия, нежелание заниматься каким бы то ни было делом, депрессивные состояния. В Тайвани ГАБА-чай производится больше двадцати лет, и весь бизнес находится в руках государства. Цена зависит не только от сорта, но и от количества аминомасляной кислоты в листе. Основные свойства аминомасляной кислоты По результатам исследований, основные свойства аминомасляной кислоты так или иначе связаны с активизацией нейронных связей в мозгу. Среди них: усиление метаболизма клеток мозга; утилизация излишков глюкозы, вывод токсинов и продуктов распада из головного мозга; повышение скорости и продуктивности мыслительных процессов; восстановление мозгового кровообращения при функциональных нарушениях. Все это делает ГАБА-чай одним из самых полезных продуктов для людей, чья деятельность связана с умственным трудом и большими нагрузками. Его рекомендуется пить студентам и школьникам в период экзаменов, а также людям после сорока лет для поддержания продуктивности мышления.
Эффект чая Многочисленные исследования, которые проводились в Японии, Тайване и Китае, подтвердили сформулированную ранее гипотезу. Так, было установлено, что ГАБА-чай, эффект которого долгое время ставился под сомнение, действительно устраняет многие проблемы со здоровьем. Так, происходит мощная стимуляция мозга, за счет чего все органы и системы начинают работать лучше. Шум в ушах и головные боли, вызванные недостаточным кровоснабжением мозга, исчезают, повышается память и концентрация внимания.
Технология заваривания зеленого и красного ГАБА-чая В первом случае она точно такая же, как и при заваривании улуна. Зеленый чай вообще никогда не заливается кипятком, поскольку в этом случае разрушаются все полезные вещества в чайном листе. После закипания вода должна немного постоять и остыть до 85-90 градусов. На 200 мл заварки в чайнике хватит столовой ложки сухого листа. Первая порция горячей воды заливается и тут же сливается. Этот процесс называется промывка. После нее в течение пары минут чай "дышит" без крышки и потом снова заливается вода. Через 10 секунд чай разливается по чашкам. В нашей стране принято оставлять немного воды, чтобы заварка становилась крепче. Это неверно. В идеале, вся залитая вода в чайничке должна быть распределена по чашкам. Во время следующего чаепития чайный лист снова заливается водой, но время настаивания увеличивается на 15 секунд. Качественный чай заваривается до 10 раз, и каждый раз это будет уже другой напиток.
Информация отсюда
К слову, выше описан способ заваривания проливом, а не настаивание чая. Для заваривания проливом в принципе берется много чая, но настаивается он буквально несколько секунд.
Вообще, чтобы успокоиться, есть и бюджетные варианты - мята или чабрец:) Мята, к слову, хорошо перебивает опьянение от дан цхунов, которые я как-то купил на свою голову и вместо опьянения словил паническую атаку. Мне потом Унохана объяснила, что не у всех людей такой эффект, и видимо, я просто очень чувствителен к чаю и его воздействию.
А чай габа пью прямо сейчас, приятный аромат - земляной и ореховый, и плотный вкус с ореховым оттенком. Мне очень нравится:)
- Попробуй чай, вкусный, пахнет орехами и землей!
- Давай. (попробовав) Тряпкой половой пахнет. Мокрой. А вкус маслянистый.
- Странно. А мне пахнет орехами.
- (через пару минут) А вот теперь кислинка, когда выпила, как будто с лимоном чай был...
- Значит, все в порядке. Хотя я не чувствую кислинки...
(из домашних бесед, о разности восприятия вкуса)
P.S. Музыка просто в настроение, одна из моих любимых песен.