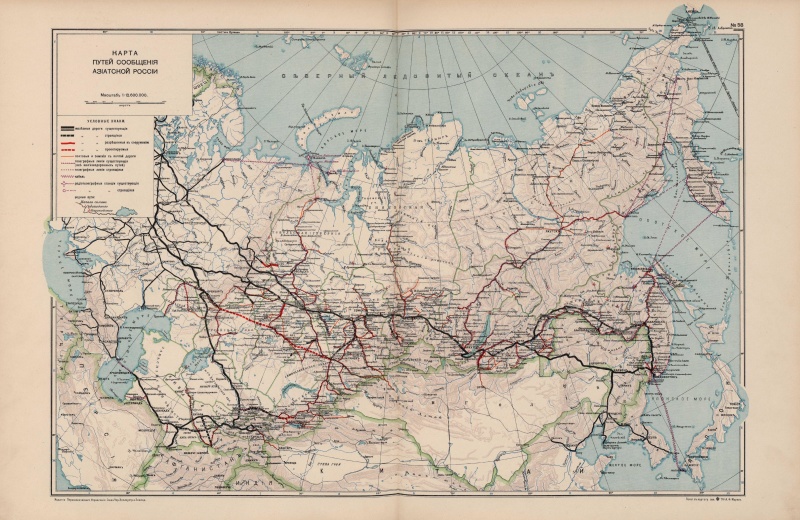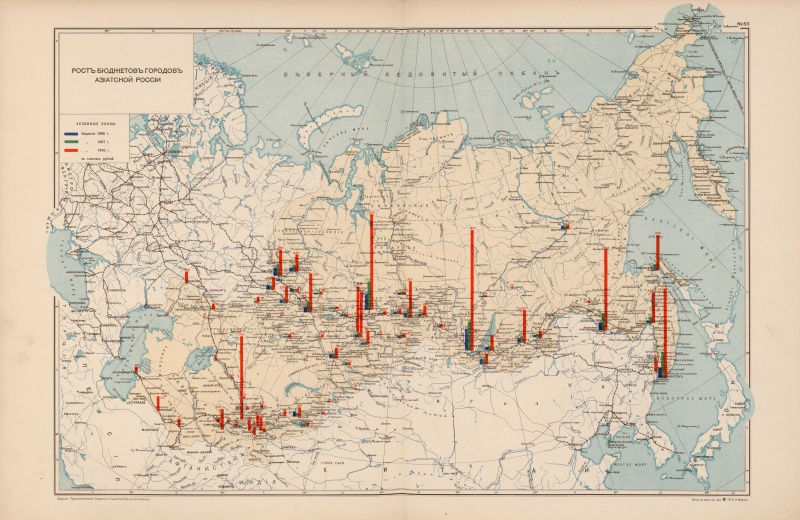EricMackay4 читателя тэги
Автор: EricMackay
#история искать «история» по всему сайту с другими тэгами

* * *
А. В. Беляков
Ногайская знать в России XVI–XVII веков
Весьма ценная содержательно работа, очень нуждающаяся в вычитке и редактуре - мягко говоря. С полиграфией тоже беда - очень мелкий текст и скверного качества печать.
скрытый текстНогайские выходцы
скрытый текст
Вся рассматриваемая автором ногайская знать представляла собой потомков пресловутого Едигея / Эдиге, фактического правителя Золотой Орды на рубеже XIV - XV веков. Среди сыновей Эдиге наиболее заметными были Нур ад-Дин и Мансур, потомки первого стояли во главе Ногайской Орды, потомки второго возглавляли, в качестве карачи-беков, крымских мангытов.
Начиная с XVI века потомки Эдиге появляются в России, оказываясь здесь как добровольно, так и не очень и принимаясь на государеву службу. В статусном отношении они располагались между Чингисидами и служилыми князьями из местных инородцев (татарскими, мордовскими и проч.). При крещении ногайские выходцы получали наследственный княжеский титул. До 1590-х годов они числились служилыми князьями, позднее стольниками и дворянами московскими (обычно на первых местах в соответствующих списках). После Смуты их статус понижается, к концу XVII века ногайские выходцы перемещаются уже в нижнюю часть списков стольников и дворян, некоторые начинают службу стряпчими и даже жильцами. Приказные учреждения ровней им считают уже мещерских служилых татар, ранее стоявших много ниже.
До середины XVII века ногайские выходцы ведались Посольским приказом, позднее - Разрядом.
В русских документах XVI - XVII веков ногайские выходцы фигурировали под родовыми прозвищами (по имени какого-либо значительного предка, чаще всего бия). Как отмечается, генеалогия Эдигеевичей весьма запутана и сложна - как из-за разветвленности рода, так и из-за проблем с источниками. Автором выявлено примерно 200 ногайских выходцев и 25 их родовых прозвищ, по которым он их и группирует, размещая в порядке времени выезда в Россию.
Большинство ногайских родов пресеклось уже в описываемый период, к концу XVII века сохранялось 12 княжеских фамилий ногайского происхождения: Байтерековы, Кекуатовы, Кутумовы, Мамаевы, Мансуровы, Тинбаевы, Ураковы, Урусовы, Шейдяковы (2 рода) и Юсуповы (2 ветви). К середине XVIII века фиксируются представители лишь 5 фамилий - Кекуатовых, Ураковых, Урусовых, Шейдяковых, Юсуповых. До нашего времени дожили потомки князей Урусовых, Ураковых, Кекуатовых и Юсуповых (по женской линии).
Как отмечает автор, случаев выезда / пленения ногайских мурз было значительно больше чем приведено ниже - некоторые ногаи выезжали лишь для участия в войнах, другие жили временно и позднее возвращались в степь, пленных возвращали или обменивали, пленные мурзы XVII века растворялись в среде других пленников и т. д.
Общая динамика выездов выглядела следующим образом. Ногайские мурзы начали выезжать на постоянное жительство в Москву с начала XVI века, поначалу добровольно - вслед за своими свойственниками, татарскими царевичами. С середины XVI века добровольный выезд большей частью сменяется вынужденным - мурзы покидали степи (иногда просто высылались) из-за непрекращающихся кровавых междоусобиц. При этом, как и раньше, все еще сохранялась и возможность отъезда на родину.
На рубеже веков кандидатов на вынужденный отъезд все больше начинает определять Москва, убирая из степи оппонентов своих ставленников, возрастает число ногаев взятых в плен на поле боя. В некоторых случаях разрешение на выезд дается в качестве награды за крещение.
Во второй половине XVII века общее число выездов радикально сокращается. При этом все известные случаи - результат пленения в бою. Захваченных в плен мурз обычно пытались обменять на русских пленных. Если этого сделать не удавалось у мурзы оставалось два варианта - гнить в тюрьме или креститься.
Как отмечает автор, подавляющее большинство ногайских мурз, несмотря на высокий статус и щедрое материальное обеспечение, ощущали себя в России пленниками. Многие из них предпринимали попытки бежать за пределы страны. Положение меняется лишь начиная со второго поколения семей, выросшего или даже родившегося в России.
***
В списке ниже женское потомство ногайских выходцев большей частью игнорируется (мною, а не автором), указываются только сыновья (при наличии).
***
Жены татарских царей и царевичей
скрытый текст
Первые потомки Эдиге в России появились уже в конце XV века - это были жены казанских ханов. Так, в 1487 году в белозерскую ссылку вместе с мужем, свергнутым казанским «царем» Али б. Ибрагимом / Алегамом отправилась «царица» Каракуш, дочь ногайского бия Ямгурчи б. Ваккаса. После смерти первого мужа ее выдали за другого казанского хана, Мухаммеда-Эмина / Магмед-Аминя, вместе с которым она вновь бежала в Россию, живя в 1496 - 1502 годах в Кашире. Другой женой Мухаммеда-Эмина, жившей с ним в Кашире, была еще одна дочь Ямгурчи, Фатима. Она же, возможно, позднее была замужем за еще одним казанским ханом, пресловутым Шах-Али / Шигалеем и, соответственно, бегала в Москву из Казани уже с ним.
Ногайских жен имели и другие выезжие Чингисиды - крымский царевич Мурад-Гирей (выехал в 1585 году), ургенчский царевич Мухаммед-Кул (1595?), плененные в 1598 году сыновья Кучума, царевичи Канай и Али (женатые, соответственно, на дочерях биев Уруса и Дин-Ахмеда).
Как отмечает автор, помимо перечисленных случаев наверняка имелись и другие, нам неизвестные.
Мансуровы, Канбаровы и Тевекелевы
скрытый текстПотомки одного из указанных сыновей Эдиге - Мансура и сына последнего, Дин-Суфи.
Между мартом 1502-го и октябрем 1505 года в Москву выехал внук Дин-Суфи Канбар б. Момола, приходившийся племянником большеордынскому и крымскому беку Хаджике б. Дин-Суфи. В Москве он находился видимо на положении служилого князя, являясь достаточно заметной фигурой. В 1505 - 1507 годах его службы фиксируются разрядами: в октябре 1505 года Канбар-мурза Мамалеев был в Муроме с касимовским царевичем - по казанским вестям; в июле 1507-го ходил на Литву из Северы во главе передового полка (вместе с удельным воеводой кн. Юрия Дмитровского); в сентябре того же года опять ходил на Литву, руководя передовым полком уже единолично (что весьма нетипично). После 1507 года не упоминается.
У Канбара было двое сыновей - Ак-Мухаммед и Тевекель.
Службы Ак-Мухаммеда в 1519 - 1541 годах фиксируются разрядами, он видимо командовал каким-то собственным татарским отрядом, составляя компанию своим свойственникам, сибирским царевичам Ак-Даулету и Шах-Алею (под присмотром русских приставов) - большей частью в походах против литвы.
Сын Ак-Мухаммеда Ураз-Али / Уразлый сделал большую карьеру. В разрядах Ураз-Али Канбаров упоминается с 1551 года, в 1558 году он крестился, став князем Иваном Махметевичем / Ахметевичем Канбаровым. В 1560 - 1563 годах князь назначался первым воеводой сторожевого и передового полка на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1566 годах - уже второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву. В 1570 году Канбарова отправили послом в Польшу (умер в дороге).
О другом сыне Канбара, Тевекеле, сведений не имеется. У него имелся видимо сын Мавкош, также ничем не прославившийся. Сын этого Мавкоша сделал заметную карьеру. Мусульманское его имя неизвестно, после крещения он именовался князем Иваном Мовкошевичем («Мавкошевым сыном») Тевекелевым (вар. Девелетевым, Теукечевым, Теукелевым, Теукчеевым), а в одном случае даже Иваном Тевекелевичем Канбаровым. В Тысячной книге князь записан по Торжку - сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном. В 1558 - 1572 годах служил в основном в головах и рындой, хотя в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года - первый воевода передового полка в «немецком походе». «Выбыл» в 1576/77 году. Некий кн. Иван Девлетевич Тевкелев в 1570 - 1575/76 числился также оружничим, однако достоверность этого известия сомнительна.
В XVII - XVIII веках упоминаются и другие князья Канбаровы. Так, в 1630 году крестился некий Тимофей Абдул-мирзин сын Канбаров (Камбаров, Канбаев), числившийся служилым иноземцем по Царевококшайску. Его родство с вышеописанными Канбаровыми сомнительно. В 60-80-х годах XVIII века упоминаются еще какие-то князья Канбаровы, их происхождение неизвестно.
Вероятно вместе с Канбаром в Москву выехал и его двоюродный брат Бибей б. Ибрагим, с сестрами Борнушей и Ош-салтаной. Борнуша позднее была выдана замуж за сибирского царевича Ак-Даулета б. Ак-Курта, а Ош-салтана, вероятно, за астраханского царевича Шейх-Аулеара б. Бахтияра и возможно была матерью (или мачехой) пресловутого Шах-Али, казанского и касимовского царя.
О самом Бибее известно лишь, что через какое-то время после выезда он крестился, став князем Владимиром. У него имелся сын Дохие, в крещении - Семен. В Тысячной книге он записан князем Семеном Васильевичем Бибеевым, сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном - по Ржеве Володимеровой.
Каким-то образом (захвачен в плен?) в Москве оказался и принял крещение еще один Мансур - некий Иван, сын Мевлеша, внук Тевшина / Тениша. Последний (Тениш б. Джанкуват б. Дин-Суфи) приходился двоюродным братом Канбару и был, как и его отец, крымским карачи-беком.
В XVII веке в России упоминаются новые Мансуры. В 1643 /44 году в Астрахани крестили выехавшего еще в 1639 году из Крыма Адиля-мурзу Мансурова. В боярских книгах и списках он отсутствует.
В 1670/71 или 1671/72 году крестился белгородский мурза Антемир (Байтемир) Мансуров, взятый в плен под Севском в 1667/68? году. Больше о нем ничего не известно. Как отмечает автор родовое прозвище Мансуры начинает употребляться в документах только в XVII веке, ранее оно не использовалось
Автор включил в эту группу и пресловутого Дивея-мурзу (Дивея б. Хасана), крымского карачи-бека и ближайшего сотрудника Девлет-Гирея, захваченного в плен под Молодями и подохшего в 1575 году.
Кутумовы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мухаммеда б. Мусы.
В 1564 году в Москву «из Нагаи» с отрядом выехал внук бия, Айдар б. Кутум б. Шейх-Мухаммед, вероятно вместе с братом Али (Алеем). Об Айдаре больше почти ничего не известно. У него имелось два сына - Еналей и Кузей, вероятно погибших в Смуту.
У Али б. Кутума известны два сына - Ахмед и Барай и дочь - Салтан-бике, жена трех последовательно сменявших друг друга касимовских царей (Мустафы-Али, Ураз-Мухаммеда и Арслана б. Али). Еще одна, безымянная, дочь мурзы возможно была женой известного сибирского царевича Маметкула, военачальника Кучума.
Ахмед вероятно погиб в Смуту, а вот Барай б. Али дожил до 1646? года, оставив многочисленное потомство - известно восемь его сыновей (Хан, Сафаралей / Петр, Ирбетя (Ибердей) / Тихон, Тахтаралей, Ем, Шекурей, Опаш и Касбулат). Большой карьеры никто из князей Бараевых не сделал.
Старший из сыновей, Хан, умер до марта 1657 года. Его сын Надыр / Дмитрий в 1680 году крестился под давлением властей. На 1685/86 год - стольник, с 1703 года в отставке, умер до 1708 года.
Сафаралей / Петр крестился в 1647 году, тогда же пожалован в стольники, умер в 1652/53 году. Его сын Дмитрий, тоже стольник, в 1679/80-м сослан Кирилло-Белозерский монастырь.
Ибердей / Тихон крестился в 1629 году, тогда же пожалован в стольники, в 1650-м выписан из стольников в московские дворяне, умер в 1658/59 году.
Тахтаралей ничем не известен, его сын Джадигер / Федор крестился в 1680 или 1681-м, на 1685/86 и 1691/92 годы числился стольником, умер не позднее декабря 1696-го. Сын его, Иван Федорович, на 1685/86 год стольник, умер не позднее 1703 года.
О Еме, Шакурее и Опаше сведений нет.
Почти ничего не известно и о Касбулате. В 1680 или 1681 году у него, за отказ креститься, отписали 79 дворов в Романовском уезде и отправили жить в Вологду, в качестве кормового иноземца. У Касбулата было 6 сыновей, из которых относительно известен один - Каплан / Петр. Он крестился в 1688 году и именовался князем Петром Касбулатовым. На 1685/86 год - стольник (ведался после крещения почему-то в Иноземном приказе), упоминается до 1705 года. По некоторым сведениям воспреемником князя при крещении был. кн. В. В. Голицын (и отечество его было Васильевич) и в 1689 году он посылался с царским жалованьем к Мазепе.
В начале XVIII века этот род пресекся.
Кошумовы
скрытый текстПотомки Хаджи-Мухаммеда (Кошума), нурадина Ногайской Орды, брата бия Саид-Ахмета и сына бия Мусы б. Ваккаса.
В 1567/68 году в Москву для участия в войне с Литвой прибыли Караул и Яныш, сыновья Асанака* (Хасанака) б. Хаджи-Мухаммеда (Кошума) б. Мусы.
Примерно в то же время выехал и позднее крестился Салтангазы (Султан-Гази) б. Хаджи-Мухаммед, в крещении - князь Никита Кошумов. [Судя по тексту - дяда Караула и Яныша, однако на приводимой авторской схеме показан сыном Хасанака и, соответственно, братом первых двух]. Был видимо романовским помещиком.
В XVII веке известен еще один князь Кошумов. В 1637/38 году в Воронежском уезде попал в плен некий мурза Алей Кошумов. В 1642/43 году он крестился и стал князем Василием Кара (Карай, Корай) мурзиным сыном Кошумовым. в 1649/50 - 1654 годах - дворянин московский. Характер его родства с предыдущими Кошумовыми неизвестен.
* Женой этого Асанака была сестра царевича Бекбулата, отца известного кн. Симеона Бекбулатовича, неоднократно навещавшая своих родственников в России.
Уразлыевы
скрытый текстВнуки бия Шейх-Мухаммеда.
В 1560 - 1561 годах в Москву, в связи с усобицей в Ногайской Орде, выехали сыновья Ураз-Али б. Шейх-Мухаммеда - Пулад, Тимур, Бабаджан (Бибизян) и Тохтар. Тохтар позднее вернулся в степи, судьба Пулада неизвестна. Тимур и Бабаджан Уразлыевы, а также сын Тохтара Эль отмечены в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года как прежние помещики.
Юнусовы, Юсуповы, Юсуповы-Княжево
скрытый текстПотомки бия Юсуфа б. Мусы.
Первой представительницей рода оказавшейся в России была женщина - пресловутая Сююн-бике, жена казанских ханов Джан-Али / Яналея и Сафа-Гирея и бывшего казанского хана и касимовского царя Шах-Али / Шигалея (1551 год).
После убийства в 1554 году бия Юнуса и «воцарения» его младшего брата Ибрагима, в Москву начали выезжать конфликтовавшие с дядей потомки покойного бия.
Весной 1558 года выехал один из сыновей сын Юсуфа - Юнус б. Юсуф. Он был всячески обласкан, но уже в мае 1561 года умер. В России жило трое его сыновей - Бий-Мухаммед, Ак-Мухаммед и Тин-Али / Тиналей. В конце 1560-х они были испомещены в Романовском уезде. Ак-Мухаммед, по некоторым сведениям, позднее уехал в Малую Ногайскую Орду. Тин-Али в 1570 году бежал вместе с другими ногаями в Литву, а оттуда в Крым (см. ниже).
Вместе с Юнусом выехал его малолетний племянник Дан-Али б. Али б. Юсуф. Возможно это упоминаемый русскими документами Наделы Алеев сын Хромого, романовский помещик и еще один участник побега 1570 года.
В 1564 году бий Исмаил выслал в Москву других сыновей Юсуфа - Ибрагима и Эля. Они были также испомещены в Романовском уезде. В 1570 году Ибрагим Юсупов, после ссоры с опричником Романом Пивовым, вместе с одним из своих сыновей, Тиналеем Юнусовым и двумя неидентифицируемыми мурзами (упоминавшимся Наделы Алеевым и неким Ахмалой Бештавзином) бежал в Литву, а оттуда - в Крым (позднее перебрался в Малые Ногаи).
В России у Ибрагима осталось два сына - Сеит-Мухаммед и Сююш.
Сеит-Мухаммед («Сеит-Мамет-мурза Абреимов») в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года упоминается как прежний помещик. У него был сын - «Козяк (Хозяк) мурза Сеит-Магметев сын Юсупов» (упоминается в 1609 году), бывший видимо племянником касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
У Сююша также был сын - Ибрагим / Никита. Князь Никита Исеушевич Юсупов в боярских списках 1606/07, 1610/11 и 1626 годов числится дворянином московским. За московское осадное сиденье 1618 года пожалован переводом части кашинского поместья в вотчину. Последнее упоминание - 1647/48 год.
У Никиты было четверо сыновей - Федор, Василий Большой, Василий Меньшой и Андрей и дочь Анна.
Анна была замужем за Иваном Гавриловичем Хлоповым, родственником несостоявшейся царской супруги, патриаршим стольником и позднее дворянином московским.
Федор - стольник с 1641 года, умер не ранее 1667-го.
Андрей - с 1638 года стряпчий, с 1667-го - дворянин московский, умер не ранее 1667 года. У него был сын Петр, жилец с 1696/97 года, позднее возможно стольник, умер не ранее 1720-го, сын Иван - к 1719 году прапорщик Рязанского пехотного полка.
Василий Меньшой в 1660/61 пожалован в стряпчие из жильцов, служил до 1676 года, умер не ранее 1721-го. У него был сын Иван, жилец с 1695/96 года.
Василий Большой имел семерых? сыновей - Ивана (стряпчий с 1671/72, стольник с 1676/77, умер ок. 1708 года), Василия (дворянин московский с 1675/76, умер до 1720 года), Петра (стряпчий с 1681/82, стольник с 1691/92, умер ок. 1708 года), Бориса (дворянин московский с 1680/81, умер ок. 1708 года), Леонтия, Алексея и Федора. Борис, Иван, Василий и Алексей тоже имели сыновей, но никто из них в петровские времена выше армейского обер-офицера не поднялся.
Эль б. Юсуф (умер между августом 1610 и сентябрем 1611 года) имел трех сыновей - Сююша, Бая и Чина (Чин-Мухаммеда).
Бай погиб в Смуту, между августом 1610 и сентябрем 1611 года.
Чинбыл видимо сыном от брака с сестрой сибирского хана Кучума и какое-то время жил в Сибири. В 1595 году он с семьей сдался русским в Таре и был отправлен в Москву. Погиб или умер во время Смуты (до ноября 1608?). У Чина было вероятно три сына - Будай, Петр (на 1607/08 стольник, на 1610/11 - «в измене») и Корел (в другом месте именуется Корепом, сын сестры крымских выходцев Юрия и Василия Сулешевых).
У Корела / Корепа был сын Бий, унаследовавший вотчины деда, Юрия Сулешева. В 1639/40 году он крестился и стал князем Иваном Кореповичем Юсуповым (Исуповым). В 1649 году сослан с семьей на Белоозеро. Стольник, после 1651/52 - дворянин московский, умер не ранее1676/77 года. Его жена Мария была племянницей боярина кн. Бориса Александровича Репнина. Сын Семен - с 1671/72 года стряпчий, с 1675/76 - стольник, умер не ранее 1685/86 года.
Сююш (умер в 1656 году) унаследовал большую часть семейных земель и имел обширное потомство. У него было пятеро сыновей - Абдулла / Дмитрий, Джан, Иштерек, Ислам и Ак.
Иштерек (умер в 1654/55) и Ислам (умер до 1659 года) потомства видимо не имели.
Джан имел двух сыновей - Бая (умер в 1664/65 году) и Хана / Ивана (крестился в 1681-м, умер в 1682 году).
Ак также имел двух сыновей - Ая / Алексея (крестился под нажимом властей в 1681-м, в том же году умер) и Сендегу / Петра (стольник в 1685/86 - 1691/92, умер в 1692 году).
Наиболее многочисленной и успешной была линия Абдуллы / Дмитрия. В 1680/81 он крестился под нажимом властей. Вместе с ним крестились и сыновья, известные уже под христианскими именами - Матвей, Иван и Григорий.
Иван имел чин стольника, умер в начале 1700 года. Его сын Александр умер в 1741 году, не оставив потомства.
Матвей также имел чин стольника, упоминается до 1721 года, у него был сын Михаил.
Григорий (1676 - 1730), благодаря близкому юношескому знакомству с царем Петром сделал прекрасную карьеру, дослужившись в итоге до генерал-аншефа (1730 год). Был женат на дочери окольничего Н. И. Акинфиева. У него было трое сыновей - Григорий, Сергей и Борис. Григорий [умер в 1737 году] дослужился до драгунского полковника, Сергей (умер ок. 1733 года) - до армейского подполковника. [Борис (1695 - 1759) сделал блестящую карьеру - московский и петербургский губернатор, президент Коммерц-коллегии, тайный советник и пр. Он и его потомство, собственно и составили славу рода Юсуповых].
Потомки Сююша, желая отделить себя от прочих Юсуповых до конца XVIII века называли себя Юсуповы-Княжево
В целом, как видно, из всего этого обширного рода в долгосрочном плане преуспела только одна ветвь потомков Сююша.
Шейдяковы
скрытый текстПод этим родовым прозвищем скрывались представители двух разных родов - потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы и потомки Саид-Ахмеда б. Мухаммеда б. Исмаила б. Мусы - выходцы из Малой Ногайской Орды. Генеалогия Шейдяковых весьма запутана и часто сложно понять к какому из указанных родов относится соответствующий персонаж.
Потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы.
Саид-Ахмед (Сейдяк, Шидак, Шейдяк - отсюда Шейдяковы) считался в Москве старшим из сыновей Мусы б. Ваккаса и его потомки обладали наиболее высоким статусом среди всех ногайских выходцев XVI века. Позднее их «общегосударственный» статус понизился, однако в среде татарских выходцев оставался высоким и в XVII веке.
В 1568 - 1570 годах впервые упоминаются некие Аман-Газы и Дос-Магмет «Шиидяковы дети княжие». Первый вероятно внук Саид-Ахмеда Аман-Газы б. Тутай, второй - то ли сын Саид-Ахмеда Дурс-Мухаммед, то ли сын этого самого Дурс-Мухаммеда (автор склоняется ко второй версии). В начале 1570-х оба они вероятно крестились, став соответственно князьями Петром Тутаевичем и Афанасием Шейдяковыми. Оба сделали неплохую карьеру.
Петр Тутаевич Шейдяков в разрядах упоминается в 1571 - 1580 годах. Он занимал высокие воеводские должности - первый воевода передового, сторожевого, правой руки [и большого] полков, был наместником во Пскове и проч. Умер в 1581 году.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1586 годах бывал первым воеводой большого полка, наместником Юрьева, осадным воеводой в Новгороде. В 1588 году попал видимо в опалу - взят за пристава и позднее высоких должностей не занимал, умер в 1602 году.
В 1571 году в источниках появляется князь Иван Келмамаевич Келмамаев. Высокий статус князя несомненен - его женили на дочери Малюты и проч., однако происхождение неясно. Автор предполагает, что он мог быть правнуком Саид-Ахмеда - сыном Кель-Мухаммеда (Кель-Мамая) б. Кель-Мухаммеда б. Саид-Ахмеда. В 1571 - 1572 годах - рында с большим саадаком у царевича Ивана Ивановича. Умер в 1573 году.
Помимо этого в 1560 - 1570 годах в России видимо находились сыновья Атая б. Саид-Ахмеда (еще одного сына бия) - некий безымянный и Мустафа Татаев (Атаев) сын Шейдяков (насчет происхождения последнего имеются разные версии, автор его считает сыном Атая). Последнего вероятно крестили в 1571 году.
В Смуту (боярский список 1606/07 года) упоминается еще какой-то новокрещен стольник князь Михаил Шейдяков. «Изменил» в в июле 1608-го (отъехал в Тушино?).
Еще одна семья Шейдяковых также видимо происходила из Большой Ногайской Орды и предположительно относилась к потомкам Саид-Ахмеда. Статус семьи был достаточно высок - только с этой ветвью Шейдяковых в XVII век заключали браки служилые Чингисиды.
Где-то на рубеже XVI - XVII веков в России оказались Еналей (Джан-Али), Каплан и Алей Тугановы дети Шейдяковы, вместе с дядей, Теникеем, Оксаровым (Аксаровым) сыном. Последний вероятно был сыном или внуком Саид-Ахмеда.
Еналей (Алей) в Смуту видимо изменил и в декабре 1610-го был убит казаками в Калуге, в отместку за убийство татарами Вора. У него были сыновья Девлет (Девлет-Мамет), Канай / Алексей и Зорбек / Федор.
Девлет в 1625 году упоминается как кормовой иноземец в Ярославле, умер в 1646 году. Он был женат на дочери Кучума Молдур и вдове касимовского царя Арслана б. Али Нал-ханише.
Канай был женат на племяннице касимовского царя Арслана б. Али. Позднее крестился с именем Алексей, на 1651/52 год дворянин московский. В 1653 году, вместе с сыновьями Сафа-Гиреем / Василием и Шин-Гиреем / Никифором арестован по (сомнительному, по мнению автора) обвинению в попытке отъехать в Польшу. Умер в 1653/54 году. Помимо Василия и Никифора у Каная / Алексея было еще два сына - Давыд Алексеев? (на 1675/76 - 1676/77 годы - дворянин московский) и другой, остающийся безымянным
Зорбек был прижит с наложницей, позднее жил у дяди Теникея и его сына Кул-Мухаммеда, пытавшегося его похолопить, бежал и в 1621/22 году крестился, став князем Федором Еналеевичем (Аналеевичем) Шейдяковым. В 1626 - 1649 годах дворянин московский. Был женат на дочери кн. Романа Петровича Пожарского (двоюродного брата национального героя). У князя был сын Михаил (стольник с 1657/58 года, умер в 1687-м воеводой Соликамска). У Михаила имелось три сына - Семен (на 1712 год - жилец и армейский капитан, позднее асессор Сенатской конторы), Афанасий (стольник с 1685/86 года, на 1722 год - вице-президент Ярославского надворного суда) и Яков (стольник царицы Прасковьи в 1685/86 году). У Якова были сыновья Афанасий (на 1706 год числился среди полковников, подполковников и начальных людей) и Григорий (на 1706-й - стольник). Потомки Григория известны до начала XIX века, но особой карьеры не сделали (максимум - гвардейский поручик). Это единственная ветвь Шейдяковых дотянувшая до XIX века.
Каплан Туганов (Таганов) умер в 1627/28 году. У него было четверо сыновей - Эрмамет (Ир-Мамет, Ураз-Мухаммед?), Бий / Абрам, (Канай) / Иван Большой и Салтанай / Иван Меньшой. Трое последних пожалованы в стольники из новокрещенов в 1649 году, умерли в 1654/55, 1658/59 и после 1708 года соответственно.
У Бия / Абрама были сыновья Роман (стольник в 1649 - 1666/67 годах) и Василий, у Салтаная / Ивана Меньшого - сыновья Василий (на 1706 год в списке полковников и других начальных людей, умер не позднее 1711 года) и (вероятно) Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92, упоминается до 1700 года).
У упомянутого выше дяди перечисленных Шейдяковых, Теникея б. Аксара, был сын Кул-Мухаммед (Келмамет, Клеш) / Артемий, крестившийся в 1621/22 году и имевший чин дворянина московского (умер к 1623/24? году). У него имелись сыновья Федор и Михаил (стольники с 1629 года).
У Федора был сын Иван (стряпчий с 1675-го, стольник с 1685 года), трое сыновей последнего (Федор, Алексей и Иван) в начале XVIII века числились армейскими обер-офицерами.
У Михаила были сыновья Лев (комнатный стольник царя Ивана Алексеевича с 1685/86 года, на 1709 год армейский капитан), Афанасий (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, позднее обер-комендант и вице-президент [Владимирского?] надворного суда) и Семен (на 1712 год жилец и армейский капитан).
Известен также некий Сафарлей (Сафар-Али) Арасланов сын Шейдяков, выехавший, по мнению автора, в конце XVI века и испомещенный не позднее 1606/07 года в Юрьеве-Польском. Его женой была то ли сестра, то ли тетка касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
Малоногайская ветвь Шейдяковых
В 1620 году в Москве крестился внук бия Малой Ногайской Орды Касима - Бек (Батук) б. Султан (Султанаш) б. Касим б. Ислам б. Саид-Ахимед, ставший дворянином московским князем Леонтием Султанашевичем Шейдяковым. В Москву его привезли еще в 1617 году из Михайлова - в качестве «языка». Умер в 1641/42 году.
У Бека / Леонтия имелся брат Дмитрий (мусульманское имя неизвестно), выехавший видимо уже на рубеже XVI - XVII веков (на 1606/07 год в боярском списке записан стольник кн. Дмитрий Салтанаш-мурзин сын Шейдяков). После 1614/15 года он бежал [в степь?], но затем то ли попал в плен, то ли вернулся добровольно. В 1621 году его сослали в Устюг «за измену», простив не позднее 1637/38 года. У князя был сын Борис (стольник в 1647 - 1667 годах, в 1679-м послан под начало в Кирилло-Белозерский монастырь - за пьянство). У Бориса были сыновья Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, в 1700-м повешен за убийство) и Федор (на 1691/92 год стряпчий, с 1703-го в отставке, умер в 1705-м).
У Леонтия и Дмитрия был еще один брат Хан, также оказавшийся в России и имевший двух сыновей - Григория (стольник в 1685 - 1692 годах, умер 1704-м) и Бориса.
К этому же роду относились двоюродные братья Леонтия, Дмитрия и Хана - Белек / Федор, Степан, Исай и Урак?
Белек (Белек-Темир) б. Навруз б. Касим попал в русский плен в 1633/34 году, в ходе похода окольничего П. Ф. Волконского на Малых Ногаев и долго сидел на «аманатском дворе» в Астрахани. В 1650 году он крестился и стал князем Федором (стряпчий с апреля 1654 года, упоминается до 1667-го).
Урак*, Степан и Исай были видимо отпрысками другого сына Касима - Казбулата. Судя по челобитной Урака Степан и Исай на 1637/38 год получали поденный корм. По предположению автора оба они попали в плен под Саратовым в 1627/28 году и сидели в вологодской тюрьме до крещения в 1630/31-м. В документах имеются и иные упоминания Степана и Исая Шейдяковых, однако неясно те же это лица или нет.
С 1649 года упоминается также некий дворянин московский князь Исай Чегорда-мирзин сын Шейдяков (убит в 1659 году под Быховым), тоже возможно внук Касима. У него имелись сыновья Петр (на 1680/81 год стряпчий, на 1691/92 - стольник) и Михаил.
***
Помимо этого известно еще некоторое число Шейдяковых генеалогия которых неясна, но большей частью это видимо выходцы из Малых Ногаев.
Около 1560 года в Москву выехал некий Мустафа б. Тата (Татай) б. Саид-Ахмед - уже в 1561-м отпущен в степь по просьбе бия Исмаила.
В 1614/15 году крестили Дивея / Семена мирзу Шейдякова. Позднее он «побежал» с кн. Дмитрием Салтанаш-мирзин сыном Шейдяков (см. выше), позднее был пойман и сослан в Устюг, где и умер в 1621 году.
В 1622/23 году крестили некоего Дин-Али (Тиналея) Шейдякова. Больше о нем ничего не известно.
В сентябре 1637 года в Новосильском уезде пленили Солох-мирзу (Такаева) Токаева сына Шейдякова - в 1639/40 году крестился под именем Иван, умер в 1646 году.
В 1648/49 году крестился некий Кочюк / Дмитрий Такаев - возможно брат предыдущего.
В 1648/49 году выехал Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков, в 1653/54 - 1664/65 годах - московский дворянин.
В 1689/90 - 1691/92 годах в боярских списках числится стольник Григорий Толбундинов Шейдяков (упоминается до 1721 года).
На 1700 год по «сказкам» Генерального двора в России проживало всего 10 мужских представителей рода Шейдяковых. До начала следующего столетия, как уже отмечалось, дотянула лишь одна, ничем особо не примечательная, ветвь.
* Неясно жил ли он вообще в России - в тексте упоминается его челобитье 1637/38 года о повышении оклада брата, но больше никаких сведений не приводится, на авторской генеалогической схеме он показан в России не жившим.
Смайлевы
скрытый текстПотомки Ханбая б. Исмаила, сына бия Исмаила.
Среди захваченной в 1598 году в Сибири родни хана Кучума имелся и его внук Зен-Магмет (Джан-Мухаммед). Позднее в Россию выехал отец этого Зен-Магмета [и видимо внук бия Исмаила], ногайский мурза Бегай (Бегей) б. Ханбай б. Исмаил (на 1609 год числился дорогобужским помещиком). Позднее Бегай-мурза Смайлев с семьей оказался в Смоленске и затем видимо служил Сигизмунду (некий Бегай-мурза Ханбаевич в 1610 - 1612 годах был пожалован королем дорогобужским поместьем). Позднее [у автора указано число и месяц, но не указан год] он с семьей выехал в осаждавшую Смоленск армию кн. Д. М. Черкасского, был отправлен в Москву и испомещен в Суздальском уезде. К ноябрю 1627 года Бегай крестился с именем Семен (пожалован в стольники), умер в 1632/33 году.
У Бегая / Семена имелись сыновья Сары / Лев (крестился в 1625-м, пожалован в стольники, умер в 1642/43 году), Деян / Дьян (возможно это упоминавшийся Зен-Магмет / Джан-Мухаммед, умер в 1621/22 году), Бирим и, возможно, Козей (на 1636 год кормовой иноземец в Ярославле) и Акманай (на 1642/43 кормовой иноземец в Ярославле, в 1653-м упоминается как член двора касимовского царевича Сеит-Бурхана).
У Деяна / Дьяна был сын Прокопий / Александр (крестился в 1625-м?, стольник, упоминается до 1652 года).
Шихмамаевы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мамая б. Мусы.
В боярском списке 1606/07 года отмечены правнук бия стольник кн. Петр Акназар-мурзин сын Шихмамаев (б. Хак-Назар б. Бай б. Шейх-Мамай), стольник кн. Григорий Келмамет-мурзин сын Шихмамаев (тоже видимо правнук Шейх-Мамай, но генеалогия его неизвестна) и некий дворянин московский Иван Шихмамаев. Как они оказались в Москве неизвестно, возможно это было как-то связано с вывозом в Россию толпы Кучумовичей на рубеже веков.
Ахметевы
скрытый текстВ начале XVII века упоминаются несколько Ахметевых, вероятно ногайских мурз и членов одной семьи, однако их происхождение остается неясным.
В 1609 году в Ростовском уезде упоминается некий Касым-мурза Ахметев, вероятно ногайский мурза. В 1616 году неких Пантелея-мурзу Касымова Ахметева и его племянника Досая Ангилдеева (Кангилдеева) сына Муратова (в 1625 году упоминается уже как Досай Касымов) кинули в тюрьму, вероятно за попытку бежать из России. В 1619-м обоих выпустили, но поместий не вернули и перевели в ярославские кормовые иноземцы.
Урусовы
скрытый текстПотомки бия Уруса б. Исмаила. Единственный серьезно преуспевший в описываемый период ногайский род - части Урусовых удалось войти в состав русской правящей элиты.
После убийства бия Большой Ногайской Орды Уруса б. Исмаила в 1590 году его сыновья вели упорную борьбу против своих дядьев, биев Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила и Дин-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила, убив в итоге обоих. В конце-концов в эту распрю напрямую вмешалась Москва, посадив бием младшего брата погибших - Иштерека б. Дин-Ахмеда. Возглавлявший «Урусовых детей» Джан-Арслан б. Урус в 1601 году попал в русский плен, в 1604-м был отпущен обратно в степь, однако в 1614 году был вновь арестован русскими властями и в апреле 1615-го умер в Казани. В России жили также сыновья Джан-Арслана - Урак / Петр, Зорбек / Александр и Тук / Иван и его племянники - Андан / Борис, Бий / Петр и Касай / Андрей.
Урак / Петр оказался в Москве еще при первом пленении отца, позднее был крещен, став князем Петром Еруслановичем Урусовым (впервые упоминается в июле 1604 года). Князя «не по ево воли» женили на вдове кн. А. И. Шуйского (урожденной Годуновой), обеспечив и обширными земельными владениями (по росписи 1604 года выставлял 47 человек = 4700 четей). На 1606/1607 год - первый в списке стольников. В том же году бежал из под Тулы в Крым или к ногаям. Позднее вернулся и, возглавляя отряд юртовских татар, с осени 1608 года служил Вору в Тушине, а потом в Калуге. В декабре 1610 года убил Вора в Калуге и снова бежал в Крым, где принимал активное участие в политической борьбе, в 1639 году казнен в Бахчисарае.
Зорбек / Александр оказался в Москве вместе с братом и в дальнейшем разделял его судьбу - крещен при Борисе, на 1606/1607 год - стольник, бежал с Петром из под Тулы, вернулся в Россию и служил Вору, снова бежал в Крым.
Иван / Тук попал в руки русских властей после освобождения Астрахани от воров (май 1614-го), позднее был крещен и вывезен в Москву, после 1616 года не упоминается.
Андан (Ондан) б. Хан б. Урус и его брат Бий также попали в руки русских властей в Астрахани после мая 1614-го и позднее были крещены, став стольниками князьями Борисом и Петром Кановичами Урусовыми. Оба участвовали в московском осадном сидении 1618 года. Борис умер в феврале 1618-го, Петр в 1628 году был взят за пристава за попытку сбежать в Крым, в 1629-м сослан в Вятку, где сидел в местной тюрьме.
Еще один племянник Джан-Арслана Касай б. Саты, также видимо попал в руки русских властей в Астрахани, вместе с дядей и двоюродными братьями, и также был крещен, став стольником князем Андреем Сатыевичем Урусовым. Участвовал в московском осадном сидении 1618 года, позднее упоминается как дворянин московский, умер в 1642/43 году. По жене, Марии Васильевне Тюменской, был в родстве с Шереметевыми. Имел сына Семена.
Семен Андреевич Урусов был женат на дочери боярина кн. Бориса Михайловича Лыкова Федосье (двоюродной сестре царя Михаила Федоровича) и благодаря этому браку сделал прекрасную карьеру - с 1637 года стольник, в 1641 - 1645 годах - кравчий, с марта 1655 года - боярин. Умер в 1657 году. Четверо его сыновей (Петр, Юрий, Никита и Федор) также стали боярами.
Петр Семенович (1636 - 1686), стольник с 1654 года, кравчий с 1658 года, боярин с 1676 года. Сыновья - Василий [стольник, умер в 1677-м] и Григорий.
Никита Семенович (1640 - 1691), стольник с 1654 года, боярин с 1679 года. Имел сыновей Ивана, Якова, Семена, Алексея и Федора. [От Алексея и Семена Никитичей пошли ветви последующих князей Урусовых].
Юрий Семенович, стольник с 1661 года, боярин с 1676 года, умер не ранее 1713-го.
Федор Семенович, стольник с 1661 года, с 1680 года боярин, умер в 1694-м. Был женат на Фекле Грущецкой, сестре первой супруги царя Федора Алексеевича.
Барангазыевы
скрытый текстСыновья бия Малой Ногайской Орды Баран-Гази б. Саид-Ахмеда б. Мухаммеда.
Каплан б. Баран-Гази выехал при Борисе Годунове и позднее крестился. В боярском списке 1606/07 года он князь Федор Барангазыев-мурзин сын Шидохметев. В Смуту он повсюду таскался с Петром Ураковым - был с ним в Тушине, Калуге и в Крыму. Позднее перебрался в Малые Ногаи, а от них - под Астрахань. В 1630/31 году Каплана / Федора взяли в плен астраханские служилые люди, он прошел обряд исправления веры, снова став князем Федором и даже успел жениться, но в 1633/34 году помер.
Зор б. Баран-Гази, младший брат Каплана, крестился в Астрахани в 1635/36 году, став князем Григорием. Позднее был написан по московскому списку, в 1640 году переведен в Москву и упоминается в боярских списках до 1649 года.
Исуповы
скрытый текстПроисхождение неизвестно (не путать с Юсуповыми и русскими дворянами Исуповыми).
В 1642/43 году в Москве известен некий Дементий Исупов.
В 1644 году в Астрахани пожелал креститься некий мурза Кантемир Сары Исупов.
Иштерековы
скрытый текстВнук бия Иштерека б. Дин-Ахмеда новокрещен князь Иван Магмет-мурзин сын Иштереков в 1634/35 или 1636/37 году перебрался в Москву из Астрахани и был записан стольником. В 1639 - 1640 годах в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, позднее возвращен в Моску, умер в 1643 году.
Тинмаметевы, Кейкуватовы, Егенеевы*, Байтерековы
скрытый текстПотомки сыновей бия Дин-Ахмеда - бия Дин-Мухаммеда (Тинмамета) и его младшего брата нурадина Большой Ногайской Орды Байтерека.
Когда начались выезды представителей этой семьи неизвестно, в русских документах они упоминаются под разными именами.
В 1625 году сына Дин-Мухаммеда Урака Тинмаметева русские власти обвинили в ссылках с Крымом и выслали с семьей из астраханских улусов в Кострому. Умер он около 1628 года. Перед смертью возможно крестился с именем Петр. Сын его Прокопий крестился в 1628 году, в боярских списках упоминается в 1652/53 - 1667/68 годах - как дворянин московский князь Прокопий Урак-мурзин сын Тинмаметев.
В 1644 году крещен еще один астраханский выходец, Кантемир-мурза Сары Исупов - в крещении князь Алексей Исупов Тинмаметев (на генеалогической схеме показан двоюродным племянником Прокопия Тинмаметева, внуком Исупа, брата Урака Тинмаметева).
В 1633/34 году в Астрахани крестился двоюродный брат Кантемира / Алексея Отманай (Атманай) Урус-мурзин сын Кейкуватов, внук кековата Джан-Мухаммеда (еще одного брата Урака Тинмаметева). В 1647 - 1656/57 годах упоминается как князь Петр Урус-мурзин сын Кейкуватов [т. е. здесь фамилию образовали от должности дедушки]. У него были сын Тихон (жилец на 1677/78 год) и внук Федор Тихонович (жилец на 1712 и 1713 годы).
В 1636 году в Астрахани крестился племянник Атманая / Петра, известный уже под христианским именем Иван. В 1640/41 году князь Иван Егенеев [здесь фамилию образовали уже от имени отца князя - Егинея / Едигея] перебрался в Москву, где писался уже дворянином московским князем Иваном Еней-мурзин сыном Кейкуватовым (!). У князя возможно был сын - костромской городовой дворянин кн. Петр Иванович Кейкуватов (Кокуватов).
В Россию выехали также потомки нурадина Байтерека б. Дин-Ахмеда - сыновья Гази, Али и Ак (с сыном Элем). На 1636/37 год все они значатся среди ярославских служилых мурз. Больше о них ничего не известно.
Сын указанного Али, Урак, в 1633 году крестился став князем Дмитрием Алеевым сыном Байтерековым.
В 1649 году крестились другой сын Али, Кантемир и его двоюродный брат, сын Гази, Шантемир, ставшие дворянами московскими князьями Григорием Алей-мурзиным сыном и Михаилом Казый-мурзиным сыном Байтерековыми соответственно. У Григория (умер в 1667 году) имелись сыновья Юрий (стряпчий, позднее стольник) и Яков (стольник на 1706 год). Сын последнего, Иван, при Петре был армейским обер-офицером.
* У автора в заголовке главки и оглавлении - Енеевы, в тексте и на схеме - Егенеевы.
Тинбаевы, Кинбаевы
скрытый текстПотомки нурадина Динбая (Тинбая) б. Исмаила.
В боярском списке 1606/07 года отмечен стольник князь Михаил Конай-мурзин сын Кинбаев. До крещения его вероятно звали Гази б. Канай б. Динбай б. Исмаил, т. е. он был внуком упомянутого нурадина. Этот же князь вероятно был героем упоминаемым «Новым летописцем» - отличившимся в «королевичев приход» и погибшим в 1619 году.
В 1629 году крестился некий Янмамет-мурза, вероятно другой внук Динбая - Ян (Джан) б. Абдулла б. Динбай, ставший князем Тимофеем Тинбаевым. Позднее он не упоминается, однако известен князь Тимофей Кинбаев, по предположению автора, это одно и тоже лицо.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Помимо этого известна еще пара Тинбаевых, степень родства которых с предыдущими неясна.
В 1669/70 году крестили присланного из Астрахани Алексея Шеим-мурзина сына Тинбаева (Тимбаева). На 1675 год - стольник.
В 1679/80 году отмечен некий Матвей Хан-Канбулатов Тинбаев-Мансуров.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Урмаметевы
скрытый текстПотомки бия Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда.
Первым представителем этого рода оказавшимся в России был вероятно сын Ураз-Мухаммеда Мустафа Уразмаметев, упоминающийся в 1618/19 году (больше о нем ничего не известно).
В 1623 году крестился внук Ураз-Мухаммеда Зорбек б. Арслан ставший стольником князем Василием Урмаметевым. Служил князь плохо, пил и морально разлагался, в 1628 году арестован за попытку бежать из России (возможно по ложному доносу уставших от его художеств дворовых людей), сослан в Чердынь (где сидел в тюрьме), в 1641/42 - 1643/44 - под началом в Кирилло-Белозерском монастыре, затем видимо прощен. В 1634 - 1648 годах в боярских списках писался уже дворянином московским. Умер в 1652/53 году. У него был сын Дмитрий (с 1641 года - стольник, упоминается до 1667 года).
Еще один внук Ураз-Мухаммеда, Токтамет (сын нурадина Кара Кель-Мухаммеда), в детстве был захвачен в плен калмыками, бежал от них в Уфу, здесь был похолоплен воеводой Иваном Чичериным и крещен с именем Яков. В 1628/29 году Токтамет / Яков подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства, был отобран у Чичерина и, после проведенного разбирательства, в 1630/31году сделался дворянином московским князем Яковом Кутмамет-мурзиным сыном Урмаметевым. Упоминается до 1640 года.
Третий внук Ураз-Мухаммеда дворнянин московский князь Куданат / Михаил Бий-мирзин сын (Шейдяков сын) Урмаметев упоминается в боярских списках в 1649/50 - 1667 годах. Он возможно был сыном Шейдяка (Саид-Ахмеда) Урмаметева, сидевшего в 1624 - 1637 годах в Астрахани на аманатском дворе (за временную откочевку в Крым).
Мамаевы
скрытый текстПотомки бия Малой Ногайской Орды Якшисаата б. Мамая б. Саид-Ахмеда б. Мусы.
Первым в России появился сын указанного Якшисаата. Его мусульманское имя и время выезда неизвестны (возможно выехал еще до Смуты). В 1618 - 1628 годах упоминается как дворянин московский князь Василий Якшатов (Якшисатов) Мамаев. В королевичев приход участвовал в московском осадном сидении, за что награжден переводом части ярославских поместий в вотчину.
Двоюродный брат Василия малолетний Султанбек / Иван б. Саин. Мамай до 1612 года был захвачен в плен астраханскими стрельцами и продан холмогорскому купцу Василию Исаеву (который его и крестил). В 1613 году Иван бежал из Астрахани в Москву (где ходил по приказам со своей историей, но официально челом не бил и ничего не добился), из столицы перебрался в Вологду (где кормился по монастырям), в 1619 году записался в стрельцы и лишь в 1633 году подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства. После разбирательства сделался дворянином московским князем Иваном Саиновым Мамаевым (в документах значился выезжим с 1633/34 года). Умер к 1659/60 году. Его сын Григорий (стольник в 1652 году) умер в 1660/61 году. В боярском списке 1712 года числится некий жилец Кирилл Иванович Мамаев, возможно еще один сын князя.
Токаевы (Тукеевы)
скрытый текстПроисхождение неизвестно.
В 1648 году юртовский мурза Кучук Токаев (Тукеев) крестился в Москве став князем Дмитрием. Иных сведений о нем нет.
Ураковы
скрытый текстПотомки Урака б. Алчагира б. Мусы, сына бия Ногайской Орды Алчагира и внука бия Ногайской Орды Мусы.
Известная генеалогия Ураковых вызывает большие сомнения. Известны две ветви рода - потомки основателя Малой Ногайской Орды (Казыева улуса) известного Газы (Казыя) б. Урака и его предполагаемого брата Рудака / Рудачека.
Правнук Газы б. Урака Сафарлей б. Али б. Караш (Хорошай) был взят в плен «за порогами» в 1659/60 году. Обменять на русских пленных мурзу не удалось и он сидел в тюрьме вплоть до крещения в 1670/71 году. После крещения стал дворянином московским князем Яковом Ураковым. В 1679 - 1691 годах - стольник, умер не позднее 1700 года. У него были сыновья Иван (жилец с 1702 года) и Петр.
У Газы б. Урака был будто бы брат по прозвищу Рудак /Рудачек (по цвету волос), попавший в русский плен в конце XVI века, живший в Уфе, крестившийся в 1590/91 году с именем Андрей Федорович (его сыновья использовали фамилию Рудаков) и поверстаный в некие «дворяне» (до 1619/20 года служил толмачом).
От этого Рудака / Андрея выводила свой род «уфимская» ветвь Ураковых. По мнению автора генеалогия этой ветви сфальсифицирована - видимо узнав о пожаловании в князья Сафарлея / Якова Уракова и вдохновившись историей Якова Урмаметева (тоже уфимца) Рудаковы решили и сами пролезть в князья и, в условиях неразберихи, связанной с массовой раздачей титулов новокрещеным ногаям, это им удалось.
У Рудака / Андрея Уракова имелось три, служивших по Уфе, сына - Андрей / Потеха (толмач), Антон и Иван.
У Андрея / Потехи были сыновья Василий и Андрей [так в тексте, на прилагаемой схеме Андрей не показан]. У Василия имелся сын Григорий, обзаведшийся обширным потомством (трое сыновей, шестеро внуков и четыре правнука), выше полковника, впрочем, не поднимавшимся. Известен также дворянин московский Дмитрий Васильевич Ураков - возможно еще один сын Василия.
У Андрея имелся сын Михаил, дослужившийся в 1720-е до поручика, сосланный в 1731 году за злоупотребления в Илимск и служивший там слободским приказчиком.
У Антона были сыновья Богдан, Василий, Семен и Михаил. У Богдана (убит во время башкирского восстания, не позднее 1664 года), были сын Федор (стольник, упоминается в 1691 - 1721 годах) и внук Степан Федорович (жилец на 1712 и 1713 годы).
Семен Антонович (вместе со своим сыном Иваном Семеновичем) в 1686 году подал челобитную о признании за этим родом княжеского достоинства «против стольника князя Якова Уракова». В 1689 году ее удовлетворили.
У Ивана Рудакова имелись сын и внук Василии и правнук Егор. У этого последнего имелось три сына - Михаил (дослужился до поручика), Афанасий (генерал-майор, в 1802 году подал прошение о признании за ним княжеского достоинства) и Василий (генерал-лейтенант).
Араслановы
скрытый текстДворянин московский Григорий Кузьмин Арасланов, из ярославских новокрещенов, отмечается в боярских книгах в 1658 - 1677 годах (без княжеского титула). Возможно ногайский выходец, однако известны и Араслановы из арских князей [татарские князья Вятской земли].
Ураевы
скрытый текстВ 1689 и 1691 годах в боярских книгах отмечен стольник Андрей Келмамаевич Ураев. Упоминается до 1721 года, в числе стольников новокрещеных с 1680 года. Предположительно ногайский выходец.
Материальное обеспечение
скрытый текст
Содержание ногайских мурз и князей складывалось из набора отдельных элементов, подбиравшихся индивидуально в каждом конкретном случае. При назначении содержания учитывался целый ряд факторов - политические соображения, статусное положение конкретного рода и лица, наличие семьи и слуг,
имевшиеся прецеденты, личные служебные заслуги и проч.
Поместный и денежный оклады
Поместный и денежный оклады ногайских выходцев документально фиксируются с конца XVI века, хотя возможно они в какой-то форме существовали и ранее. Размер оклада определялся «честностью» конкретного персонажа. Так, бОльшие оклады назначались детям и внукам биев, нурадинов и кековатов, отцы получали больше сыновей, старшие братья больше младших и т. п. Некоторые лица получали высокие оклады по политическим соображениям или усилиями высокопоставленной русской родни. Повышение окладов достигалось службой, до 1630-х годов существенно повысить их мог и переход в православие.
Максимальный размер окладов у ногаев доходил до 1300 четей и 200 рублей (у Чингисидов до 2000 четей и 200-250 рублей), некоторым исключением были лишь Юсуповы и Урусовы. На протяжении семнадцатого столетия, параллельно с падением значения ногайских выходцев, падал и размер их окладов, сокращаясь от поколения к поколению. Некоторым исключением и здесь были князья Юсуповы и Урусовы.
Денежный оклад в первой половине XVII веке обычно платился в половинном размере. Для получения второй половины требовалось прилагать отдельные усилия - подавать челобитные с объяснением зачем она понадобилась получателю (крещение, пожар, дворовое строение, свадьба, похороны и проч.). Некоторые ушлые ногаи, впрочем, исхитрялись получать полный оклад почти постояннно.
Автор приводит сведения об окладах отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году дали оклад в 1000 четей и 100 рублей.
Айдар Кутумов на 1584 год имел оклад в 70 рублей, Барай б. Али на 1619 год - 200 рублей (поместного не имел), позднее - 120 рублей. Ибердей / Тихон Бараев после крещения в 1629 году получил оклад в 1000 четей и 100 рублей. Его брат Сафаралей / Петр после крещения в 1646/47 году получил такой же оклад - «против брата». Каплан / Петр Касбулатов после крещения в 1688 году получил оклад в 400 четей и 25 рублей.
Эль Юсупов на 1584 год имел оклад в 250 рублей, его сын Сююш на 1613 год - 300 рублей (с придачей «за подмосковные службы», поместного оклада не имел), позднее - 250 руб.
Корел / Кореп Чин-мурзин сын в 1615/16 году был поверстан окладом в 500 четей и 40 рублей (к 1631 году поместный оклад вырос до 550 четей). Его сын Бий / Иван после крещения в 1639/40 году получил оклад в 1200 четей и 150 рублей.
Василию Никитичу в 1646 году дали новичный оклад в 500 четей и 30 рублей (уже в 1646/47 году видимо повышенный сразу до 800 четй и 47 руб., за черкасские службы и Конотопский бой 1658 - 1659 гг. князю прибавили 100 четей и 10 руб.). Брату Василия, Федору Никитичу, в 1646 году назначили новичный оклад в 500 четей и 25 рублей.
Никита Сююшевич на 1609/10 год имел оклад в 40 руб., на 1628/29 год его поместный оклад (с прибавкой за московское осадное сидение 1618 года) составлял 800 четей. Сын его, Василий Никитич, на 1658 - 1659 год имел оклад в 600 четей и 30 рублей (с прибавкой в 100 четей и 10 руб. за черкасские службы и Конотопский бой).
Алей и Каплан Тугановы дети Шейдяковы имели видимо оклад по 1050 четей и 120 рублей. Канай Еналеев - 850 четей и 80 рублей. Сафарлей Исламов на 1606/07 - 800 четей и 80 рублей.
Салтанай / Иван Меньшой Капланов на 1631 год год имел оклад в 600 четей и 40 рублей. Девлет Еналеев на 1631 год - 500 четей и 40 рублей.
Зорбек / Федор Шейдяков после крещения в 1621/22 году получил оклад в 700 четей и 70 рублей.
Келмамет / Артемий Теникеев имел оклад в 800 четей и 90 рублей, после крещения в 1621/22 году видимо повышенный до 1100 четей и 150 рублей.
Малоногайский Бек / Леонтий Шейдяков после крещения в 1619/20 году получил оклад в 1100 четей и 130 рублей. Брат его Дмитрий имел оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков после выезда в 1648/49-м был верстан окладом в 550 четей и 35 рублей, за литовскую службу 1654 - 1656 годов ему добавили 150 четей и 12 рублей (по другой версии, за службы 1658 - 1660 гг. прибавили 250 четей и 19 рублей, а за службы 1663 - 1665 гг. - еще 130 четей и 9 рублей, доведя оклад до 930 четей и 63 рублей).
Бегай Смайлев в 1613/14 году имел (с прибавками) оклад в 1200 четей и 100, 130 или 200 рублей. Его сын Дьян в том же году имел оклад в 900 четей и 80 рублей, а другой сын Сары / Лев на 1621/22 год - 600 четей и 40 рублей. После крещения в 1625/26 году его оклад повысили до 1000 четей и 100 рублей.
Андрей Сатыевич Урусов на 1615/16 год имел поместный оклад в 1500 четей, денежный (на 1618/19 год) - 200 рублей. На 1628/29 год - уже в 1000 четей и 200 рублей.
Семен Андреевич Урусов на 1637 год имел оклад в 1300 четей и 170 рублей (к 1655/56 году - уже 500 рублей).
Каплан / Федор Барангазыев на 1632/33 год имел оклад в 1000 четей и 100 рублей, а его младший брат Зор / Григорий на 1640/41 год - в 800 четей и 80 рублей.
Кантемир / Алексей Тинмаметев и его двоюродный брат Атманай / Петр Кейкуватов имели оклады в 600 четей и 60 рублей. Племянник Атманая / Петра Иван Егенеев в 1640/41 году - в 700 четей и 70 рублей.
Дмитрий Байтереков после крещения в 1632/33 году получил оклад в 800 четей и 80 рублей. Его брат Кантемир / Григорий и двоюродный брат Газы / Михаил после крещения в 1649 году получили по 550 четей и 35 рублей (за службы 1659 - 1661 годов обоим добавлено по 120 четей и 10 рублей).
Тимофей Тинбаев после крещения в 1628/29 году получил оклад в 600 четей и 60 рублей.
Василию Урмаметеву после крещения в 1622/23 году дали оклад в 1100 четей и 150 рублей. Яков Урмаметев в 1630 получил клад в 900 четей и 100 рублей. Михаил Шейдяков Урмаметев на 1649 год имел оклад в 550 четей и 35 рублей.
Ивану Саинову Мамаеву в 1633/34 году дали оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрию Токаеву после крещения в 1649 году дали оклад в 550 четей и 35 рублей.
Федор Богданов Ураков (из уфимской ветви) в 1685 году получил оклад в 550 четей и 25 рублей.
Реальное землевладение
Историю землевладения ногайских выходцев можно проследить лишь начиная с 1560-х годов.
С осени-зимы 1569 года они компактно испомещались в Романовском уезде, где Иван Грозный вероятно планировал создать некий ногайский вариант Касимовского царства. Затея эта провалилась и в дальнейшем ногаев селили и в других уездах (прежде всего - в Ярославском). Впрочем и позднее правительство видимо стремилось испомещать мурз / князей более менее компактно. Поместья им давались из дворцовых земель и по весьма щедрым нормам. Поместья бездетных выходцев передавались обычно новым ногайским выходцам. У крещеных ногаев к поместьям добавлялись обычно приданые вотчины их русских жен и за счет этого (а также обычной купли-продажи-мены вотчин) их землевладение постепенно «расползалось» по стране.
После Смуты нормы испомещения ногайских выходцев понижаются, обширные владения прежних выходцев постепенно раздробляются между наследниками и к концу XVII века землевладение ногайских выходцев уже практически ничем не отличается от общерусского.
В 1680 году оставшимся ногайским мурзам-мусульманам было предписано креститься. У отказывавшихся отписывали поместья, переводя в кормовые иноземцы.
В Романовском уезде ногайским мурзам в лучшие (для них) годы принадлежало возможно до 30 000 четей земли. По писцовой книге 1593 - 1594 годов среди местных помещиков значились Эль Юсупов (6186 четей, видимо вместе с землями его испомещенных казаков - 125 человек), Алей и Айдар Кутумовы (2940 и 2622 чети, тоже видимо с землями казаков), Афанасий Шейдяков (1635,5 чети).
Среди бывших помещиков уезда указаны Ибрагим б. Юсуп (2028,5 чети), Ак-Мухаммед б. Юнус (1558,5 чети), Сети-Мухаммед б. Ибрагим б. Юсуп (617 четей - возможно неполные данные), Бабаджан Уразлыев (1432,5 чети), Темир Уразлыев (1348 четей), Никита / Султан-Гази Кошумов (1613,5 чети), Мустафа Шейдяков (1060,5 чети) и др.
На 1627 год за Сююш-мурзой Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Барай-мурзой Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара).
Помимо Ростовского и Ярославского уездов известны земельные владения ногайских мурз в Дорогобужском (Бегай-мурза Смайлев), Переяславском (тот же Барай Кутумов - 1170 четей на 1627 год), Ростовском и Суздальском (тот же Бегай-мурза) уездах.
Владения крещеных ногайских выходцев отмечены в 45 уездах. Так, упомянутый Афанасий Шейдяков, помимо 1635,5 четей в Романовском уезде, имел поместья в Звенигородском (633 чети) и Зубцовском уездах и приданую вотчину жены в Новоторжском уезде.
За Иваном Келмамаевым Шейдяковым числились обширные подмосковные поместья - 1681 четь и 1253 копны сена (75 крестьянских и бобыльских дворов) в Сурожском стане и 406 четей и 240 копен (9 дворов) в Горетове.
За Иваном Канбаровым в Коломенском уезде числились 601 четь и 1775 копен сена.
Петр Урусов, вместе с данной ему в жены вдовой одного из братьев Шуйских, владел вероятно 4800 четями земли.
Михаил / Гази Канаев Тинбаев на 1617 год владел в Шацком уезде поместьем в 1098 четей (в пересчете на добрую землю - 881) и 450 копен (правда сильно запущенным / разоренным - 1057 четей в перелоге или заросло лесом). Позднее оно как выморочное перешло к Василию Урмаметеву, а в 1628 году было отписано у последнего за измену.
За Андреем Сатаевичем Урусовым в том же Шацком уезде на 1617 год числилось огромное поместье в 2226 четей (в пересчете на добрую землю - 1382), 2050 копен сена и 83 двора (тоже сильно запущенное - в перелоге и лесом поросло - 1719 четей).
Леонтий Салтанашевич Шейдяков после крещения в 1620 году получил поместья в Нижегородском уезде (669 четей в одном поле, 110 крестьян и бобылей).
В середине и второй половине XVII века значительные владения числятся только за Урусовыми и Юсуповыми. Так, на 1646 год Василий Никитич Юсупов владел в Новоторжском уезде вотчиной с 1048 дворами и 3755 крестьянами.
Никита Семенович Урусов владел вотчинами в Ростовском (не менее 142 дворов и 467 крестьян), Переяславском (92 двора, 226 крестьян), Пешехонском (50 дворов, 172 крестьянина) уездах, вотчиной и поместьем в Рязанском уезде, небольшой подмосковной вотчиной? (7 дворов, 24 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Веневском уезде. Его брат Петр Семенович - вотчиной в Переяславском уезде (133 двора, 446 крестьян), подмосковным поместьем / вотчиной (22 двора, 93 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Соловском уезде и т. д
Поденный корм и питье
Корм и питье давались неиспомещенным мурзам и князьям. После испомещения их выдача обычно прекращалась - за исключением случаев приобретения совсем небольших земельных владений (в таких случаях корм мог сохраняться, но размер его пересчитывался). Корм давался также лицам лишенным земельных владений, пленным и заключенным.
Размер корма определялся теми же соображениями, что и размер окладов - политическая целесообразность, статус конкретного лица и рода, прецеденты и проч. Как отмечает автор, в большинстве случаев сложно понять на какое число людей давался корм, что затрудняет и ранжирование получателей и определение реального размера дач на человека.
Как и в случае с окладами этот вид жалованья документально фиксируется с конца XVI века, однако вероятно существовал и ранее. До середины XVII века размеры дач возрастали, позднее наметилась тенденция к их уменьшению. Тем не менее, на протяжении всего семнадцатого столетия на поденном крме можно было существовать вполне комфортно и некоторые семьи ногайских выходцев предпочитали кормовое содержание испомещению (за что и поплатились уже в петровские времена).
При вступлении мурзы / князя в брак к его корму обычно добавляли 2-3 алтына - на корм жене. Вдова могла рассчитывать на половину корма супруга. Наибольший размер корма в XVII веке - 3 рубля в день. Столько (по не совсем понятным причинам) давали в 1642/43 году Льву Михайловичу Шейдякову (потомку мурзы Теникея) с женой и людьми.
Мурзам и князьям попавшим в опалу давали видимо лишь половину назначенного им корма. Так, отправленный в Кострому Урак Тинмаметев получал в 1626 году на себя семью и своих людей по 35 копеек в день (5 коп. - самому мурзе, трем его женам и падчерице - по 4, людям (7 человек) - по 2).
Содержащимся в тюрьме / пленным давали еще меньше, так плененному в 1617 году Беку Салтанашевичу Шейдякову полагалось по копейке на день.
Небольшим был и корм дававшийся новокрещенам бывшим в монастыре «под началом», так, в 1621/22 году бывшей жене Артемия Шейдякова Феодоре в Новодевичьем монастыре полагалось 6 копеек в день, ее людям - по 1,5 копейки.
Автор приводит сведения о корме отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году назначили корм в 50 копеек + 4 чарки вина и по ведру меда и пива в день.
У Касбулата Кутумова за отказ креститься в 1679/80 году отписали поместья, переведя кормовым иноземцем в Вологду и назначив корм в 30 копеек. Его сыновьям давали от 15 до 30 копеек в день.
Чину Юсупову в феврале 1596 года назначили месячный корм в 35 рублей, однако непонятно давался ли он лишь самому мурзе с семьей или же и всем его людям (одних мужчин 37 человек).
Его сын Корел / Кореп получал 10 рублей в месяц (33 коп. в день) плюс деньги в счет питья (4 чарки вина и по 2 кружки меда и пива в день). В 1616/17 году ему полагалось 30 коп. в день (15 - самому, 6 - жившей с ним матери и 9 - трем его людям) + питье.
Сын Корепа / Корела Иван Юсупов после крещения в 1639/40 году получал 60 или 84 копейки в день + питье (по 3 чарки вина, по кружке романеи и меда вишневого, 1/3 ведра меда паточного и 2/3 ведра меда цеженного из Дворца и по 4 чарки вина и по 1 1/3 ведра меда и и пива из Новой чети). Его людям давали по 3 коп. и чарке вина в день и (на всех) по 1 1/3 ведра пива. После опалы 1665/66 года, сопровождавшейся отпиской земель на государя, Иван жил на 30 руб. кормовых в месяц.
Федор / Зорбек Шейдяков в 1620/21 году до крещения получал 10 копеек в день (его люди - еще по три), после крещения - уже 25 или 30 копеек, 4 чарки вина, кружку или полведра меда и 2 кружки пива в день.
Девлет Шейдяков, будучи ярославским кормовым татарином, в 1626 году получал по 25 копеек в день. Его жене давали по 24 копейки (видимо по причине высокого статуса - она была дочерью сибирского хана Кучума).
Канай / Алексей Еналеев Шейдяков в 1647 году получал 25 копеек в день, а его сыновья новокрещены Василий и Никифор - по шесть.
Упомянутому Льву Шейдякову с семьей и людьми в 1642/43 году давали аж по 3 рубля в день.
Бегаю Смайлеву давали 21 копейку в день. Его сын Сары / Лев до крещения в 1625/26 году получал по 15 коп., после - 30 коп. [Так у автора, выше этот же персонаж упоминается как испомещенный еще до крещения, соответственно корм ему вроде бы не полагался].
Тук / Иван, Андрей Сатыев и Петр Канович Урусовы с сентября 1615 года получали по 15 копеек в день, а шестеро их людей - по три. С мая 1616 года новокрещеным князьям стали давать по 60 копеек, 4 чарки вина, ведру меда и пива в день, а их людям (4 человека) - по 3 копейки в день (+ 2 ведра пива на всех). Помимо этого каждому князю давался корм для трех лошадей и по возу дров в неделю и в общей сложности они получали 25,62 руб. в месяц. В июле и августе на корм добавили по 5 рублей и месячный размер его достиг 35 руб, а годовой 427,44 рублей.
Григорию Барангазыеву в 1640/41 году назначили корм в 25 копеек, однако давали только половину - остальное засчитывалось как доход от земельных владений его супруги Ульяны.
Федору Барангазыеву [видимо с 1630/31 года] давали 60 копеек, 4 чарки вина и полведра или ведро меда и ведро пива.
Ивану Егенееву Кейкуватову в 1640/41 году дали корм в 20 или 21 копейку, позднее повысив до 24 - 25.
Алексею Исупов Тинмаметеву давали 20 копеек, 4 чарки вина и 3 кружки меда в день [1644?].
Прокопию Уракову Тинмаметеву в 1665/66 - 19 копеек.
Дмитрий Алеев Байтереков после крещения в 1632/33 году получал 50 копеек, 3 чарки вина, 1/2 ведра меда 1/2 или ведро пива.
Тимофею Кинбаеву / Тинбаеву до крещения в 1628/29 году давали 6 копеек, после - 15 копеек, 4 чарки вина и по кружке меда и пива, позднее корм увеличили до 35 копеек.
Василию / Зорбеку Урмаметеву до крещения в 1623 году давали 10 копеек, после - 25 копеек, 4 чарки вина и по 1/2 ведра меда и пива. После женитьбы корм подняли до 50 копеек.
Токтамету / Якову Урмаметеву давали (видимо с 1630/31 года) 36 копеек, 4 чарки вина, кружку меда и 2 кружки пива.
Ивану Саинову Мамаеву давали [с 1633/34?] 30 копеек, 4 чарки вина кружку меда и 2 кружки пива, по другим данным - 25 копеек, вычитая ежегодно по 17,6 рублей [т. е примерно 20%] за земельное владение жены.
***
Помимо собственно корма неиспомещенным выходцам полагались также дачи на конский корм, дрова и свечи. Их часто засчитывали в общий размер поденного корма, однако иногда расписывали отдельно.
В известных случаях корм давался на 1, 2, 3 лошади (Льву Шейдякову в 1642/43 году давали даже на 10), обычный его размер в XVII веке составлял видимо 72 копейки в месяц и возможно давали его только полгода (с ноября по апрель). Дров обычно давали один воз на неделю (~ 20 копеек?), на свечи - по 1-2 копейки на день.
Разовые дачи
Ногайские выходцы получали также разнообразные разовые дачи - на приезд, за крещение, на дворовое строение, свадьбу, похороны и т. д.
Дачи на приезд существовали в XVI веке, в семнадцатом столетии их видимо давать перестали, однако когда именно неизвестно. Дачи давались добровольно выезжавшим на постоянное жительство, прибывавшим для участия в военных кампаниях или по другим делам и (как минимум в первой половине XVII века) романовским мурзам при отправлении на полковую службу или при возвращении с нее. Пленным и прочим насильно вывезенным она не полагалась.
О размерах дач можно судить по известным прецедентам.
Выехавшему в 1596 году Чину Юсупову, сыну Эль-мурзы дали шубу бархатную на соболях (50 рублей), кафтан камчат золотной (15 рублей), опашень зуфной (5 рублей), кубок серебряный весом в 4 гривенки и видимо еще что-то (запись испорчена). Что-то дали также бывшим с ним сыновьям, детям, женщинам и слугам. Взрослых мужчин (37 человек) поделили на три статьи, дав им по два отреза ткани (шелковой и шерстяной) и от 1 до 3 рублей деньгами.
Прибывшим в 1631/32 году для участия в польской войне Адилю Урмаметову (с 23 всадниками) и Яну Иштерекову (с 14 всадниками) дали по шубе камчатой на соболях (43,87 и 48,2 руб.), а первому еще и шапку лисью (6 рублей). Адиль, в свою очередь, ударил государю челом двумя конями - серым и саврасым.
Дача за крещение фактически состояла из двух или даже трех частей. Первая часть («за подначальство») состояла из креста и комплекта одежды и давалась посланным «под начало» в монастырь новокрещенам. Вторая давалась новокрещенам бывшим на приеме у государя («у руки») и включала разнообразные ценности. Царская аудиенция предполагала и последующее приглашение к царскому столу, вместо которого могли дать еще одну дачу - «в стола место» (см. ниже).
Дополнительной «наградой» за крещение видимо служил воспреемник, подбиравшийся из числа представителей верхушки двора или приказного аппарата. Так, крестным Василия Урмаметева в 1623 году стал окольничий С. В. Головин, Льва Бигеева Смайлева в 1625/26-м - окольничий кн. Д. И. Долгоруков, Тихона Бараева Кутумова в 1629 году - окольничий кн. Г. К. Волконский, Якова Урмаметева в 1628/29 году - думный дьяк Федор Лихачев и т. д. В худшем положении, соответственно, оказывались крестившиеся в Астрахани - их воспреемниками были представители тамошней верхушки.
Дача крещеному при Борисе Зорбеку / Александру Араслановичу Урусову (брату пресловутого Петра Урусова) долгое время была видимо верхним пределом подобных дач (столько же дали лишь один раз - Леонтию Шейдякову в 1628 году). Зорбек / Александр получил золоченый серебряный кубок (6 с лишним гривенок, 18,03 рубля), серебряные братину, ковш и стопку (всего почти на 15 рублей), камку бурскую на 17 рублей, 40 аршин камки адамашки четырех разных цветов, 40 аршин атласа четырех цветов, постав синего лундыша (20 рублей), 40 соболей (21 рубль), 2 опашня (один в 30 рублей), кафтан (20 рублей), бархата на 20 рублей и 100 рублей деньгами.
В 1639/40 году Ивану Кореповичу Юсупову дали еще больше - в общей сложности на 905 с лишним рублей. Кроме традиционных тканей, серебра, разнообразной одежды (включая атласную соболью шубу стоимостью почти в 84 рубля и два пристяжных воротника-ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом в 40 и 150 рублей) дача включала аргамака с конской упряжью (соответственно 60 и 91,54 рубля) и 150 рублей деньгами.
Прочие дачи были много скромнее - Сары / Льву Бигееву Смайлеву в 1625/26 году дали «за подначальство» серебряный крест и одежду (всего на 35 рублей), а «как был у государя» - еще на 90 рублей вещей и денег (серебряный кубок, ткани, 40 соболей и 20 рублей деньгами).
Федор / Зорбек Еналеев Шейдяков в 1621/22 году получил платья на 35 рублей, а «как был у государя» - соболей на 30 рублей и 30 рублей деньгами.
Крестившемуся в 1671/72 году белгородскому мурзе Сафарлею / Якову Туганову сыну Уракову дали всего 25 руб. на платье и соболей на 25 рублей. И т. д.
Дачи на крещение получали и женщины. Им давали одежду и деньги, к руке они видимо не допускались и дополнительной дачи за это не получали.
Дача «в стола место» полагалась всем побывавшим «у руки» (по случаю приезда, крещения, отбытия в полки и проч.) и не приглашенным позднее к царскому столу.
В 1637/38 году Сююшу Юсупову, посланному на полковую службу в Туле, дали из Дворца калач крупчатый в 1,5 лопатки; 1,5 кружки вина двойного, по кружке романеи и меда обарного, по половине кружки меда паточного и цеженного и ведро пива; а из Большого Прихода - гуся, утку, зайца, тетерева, барана, 4 курицы и 36 копеек деньгами (на мелкое).
В 1640/41 году посланным в полки ярославским поместным и кормовым мурзам Канаю и Девлету Еналеевым и Салтанаю, Хану и Бию Каплановым Шейдяковым дали по кружке двойного вина и романеи, по 1/2 ведра меда паточного и цеженного, ведру пива, гусю, утке, барану, по 2 курице и по 20 копеек.
На дворовое строение (как новое, так и послепожарное), крестины детей, похороны обычно давали половину годового денежного содержания, хотя имелись и исключения, так, в 1640/41 году Ивану Егенееву и Григорию Барангазыеву выдали на дворовое строение 70 и 80 рублей соответственно - «против их оклада».
Дачи на свадьбу давались как натурой, так и деньгами (последние считались видимо менее престижными), размер их зависел от статуса получателя. Так, Андрею Сатыевичу Урусову в 1617/18 году дали из Большого Дворца по 20 ведер пресного и паточного меда, 4 ведра романеи, 2 ведра алкану, по 6 ведер меду пресного [так в тексте] и меду вишневого, 12 ведер вина горячего и 20 четей солоду яичного. Дача Ивану Араслановичу Урусову была вдвое меньше.
Деньгами давали обычно 1/2 оклада, иногда треть оклада, иногда против оклада. Дачи на свадьбу могли получать и женщины.
Дачи на платье известны только для женщин (хотя у Чингисидов их получали и мужчины). В известных случаях давали по 10, 15 и 20 рублей (видимо ежегодно).
Службы и местничество
скрытый текст[Некрещеные мурзы несли в основном военную службу во главе / в рядах татарских формирований, гоударственных назначений не получая. Некоторым исключением был видимо Канбар-мурза / Канбар б. Момола в начале XVI века бывший в паре походов на литву воеводой передового полка (см. выше)].
Некоторые крещеные мурзы / князья во второй половине XVI века получали высокие назначения - полковыми и городовыми воеводами, наместникам и проч.
Иван / Ураз-Али Махметевич / Ахметевич Канбаров в 1560 - 1563 годах назначался первым воеводой сторожевого и передового полков на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1567 годах - второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву, в 1568 - 1569 годах первый воевода полка левой руки «на берегу». В 1570 году отправлен послом в Польшу (умер в дороге).
Иван Мовкошевич Тевекелев* в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года первый воевода передового полка в «немецком походе».
Петр Тутаевич Шейдяков в 1571 - 1572 годах первый воевода сторожевого и передового полков в государевых походах «на берегу» и против «свейских немцев». В зимнем государевом походе на Пайду 1572/73 года - второй воевода большого полка, в 1572/73 году псковский наместник. В государевом походе в Ливонию 1577 года - первый воевода полка правой руки.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1576/77 годах наместник и воевода в Юрьеве, оставаясь юрьевским наместником участвовал как первый воевода передового и большого полков в различных ливонских походах.
Позднее высоких полковых назначений ногайские выходцы почти не получали. Единственным исключением (если не считать Урусовых) был Михаил Канаевич Кинбаев (Тинбаев), в 1616 году посланный с полком воевать литву.
Отдельные ногайские выходцы в XVII веке назначались городовыми воеводами.
Лев Бигеевич Смайлев в 1633 году был воеводой в Ярославле.
Андрей Сатыевич Урусов в 1637 - 1638 годах был воеводой в Нижнем Новгороде.
Иван Корепович Юсупов в 1653 году был белозерским воеводой.
Михаил Федорович Шейдяков в 1685 году числился воеводой Козлова (фактически возглавлял масштабную военно-географическую экспедицию производившую изыскания для строительства новой засечной черты). В 1686 году - воевода в Соликамске.
Андрей Никитич Урусов - в 1697 году воевода в Вятке.
Отдельно следует выделить Семена Андреевича Урусова и его сыновей, получавших соответствующие назначения уже как часть русского правящего слоя.
Сам Семен Андреевич Урусов в 1641 - 1645 годах был кравчим, в 1645 - 1647 годах - воеводой в Новгороде, в 1655 году - боярин и воевода в Вильне.
Петр Семенович Урусов - кравчий с 1658 года, в 1670 году полковой воевода в походе против Разина, боярин с 1676 года.
Никита Семенович Урусов - воевода в Новгороде в 1677 году, воевода в Киеве в 1678 - 1679 годах, боярин с 1679 года, в 1681 - 1682 годах двинский воевода.
Юрий Семенович Урусов - боярин с 1676 года, в 1679 году воевода в Смоленске, в 1683 году возможно в Казани, судья Московского судного приказа в 1683 - 1685 и 1697 - 1699 годах.
Федор Семенович Урусов - с 1680 года боярин, в 1683 - 1684 годах воевода в Новгороде. Судья Пушкарского (1682, 1689 - 1693), Иноземного (1689 - 1694), Рейтарского (1689 - 1694) приказов.
Известно всего три случая местничества ногайских выходцев.
В 1564/65 году на Ивана Махметевича Канбарова, назначенного третьим воеводой большого полка бил челом 4-й воевода - князь Петр Иванович Татев (не взял списков, [ему видимо отказали])
Осенью 1567 года на того же Ивана Канбарова, назначенного уже вторым воеводой большого полка бил челом Андрей Иванович Шеин - второй в правой руке (тоже списков не взял, [исход дела неизвестен, сам поход не состоялся]).
В марте 1641 года на именинах царицы Евдокии Лукьяновны стольник кн. Иван Иванович Дашков бил челом на кравчего кн. Семена Андреевича Урусова - и был сурово наказан (бит кнутом и на неделю посажен в тюрьму).
Как отмечает автор, иски к Канбарову были видимо пробными шарами, для определения общего статуса ногайских выходцев. С Петром и Афанасием Шейдяковыми местничать не решались - их высокий статус был видимо очевиден. В XVII веке большинство ногайских выходцев уже не занимало позиций пригодных для местнических споров, а попытки проверять на «честность» возвысившуюся ветвь Урусовых были жестоко подавлены в зародыше.
* Сам автор здесь именует его Иваном Тевекелевичем Канбаровым. Одни и те же персонажи у него вообще в разных местах текста часто именуются по разному, что очень, очень раздражает.
Частная жизнь, религия и прочее
скрытый текст
Процедура выезда ногайского мурзы в XVI веке выстраивалась по примеру посольских церемоний - на подъезде его встречало специально делегированное лицо, затем с оответствующими церемониями, его доставляли в столицу, проводили прием у государя (причем последний видимо еще и корошевался с мурзой), затем обед и проч. Со временем процедуру максимально упростили (никакого корошевания, вместо обеда дача в стола место и т. д.).
О религиозной жизни мурз-мусульман в России мы почти ничего не знаем. Известно, что здесь жили мусульманские «попы», именовавшиеся в русских документах абызами (термин мулла употреблялся редко и почти исключительно в дипломатических документах). В Москве и, возможно, в других местах имелись вероятно и мечети / молельные дома.
Со временем ногайские мурзы стали все больше переходить в православие. На рубеже 1550 - 1560 годов крестились жившие в России Мансуры (неизвестно добровольно или нет), позднее занимавшие видное положение.
Вторая волна крещений случилась после бегства в 1570 году Ибрагима Юсупова со товарищи в Литву - крестилась часть Шейдяковых, Юсуповых и Кошумовых. Оставшиеся мусульманами Юсуповы и Кутумовы, впрочем, не понесли видимых статусных потерь, а среди новокрещенов этой волны лишь двое (Петр и Афанасий Шейдяковы) сделали заметную карьеру.
Следующая волна крещений случилась при Борисе - пресловутый Петр Урусов и проч.
После Смуты крещение стало обязательным условием выезда и мусульманами оставались лишь мурзы старого выезда и их потомки. Часть из них, впрочем, тоже крестилась - как под давлением властей, так и добровольно. В последнем случае крещению нередко способствовали конфликты с мусульманскими родственниками (Тихон Бараевич Кутумов, Федор Еналеевич Шейдяков).
На рубеже 1670 - 1680 годов оставшимся мурзам-мусульманам было предписано креститься под угрозой отписки поместий и большинство из них перешли в православие. Мусульманами осталась только часть Кутумовых, пошедшая ради этого на понижение своего статуса и ухудшение материального положения.
В целом, как видно, большинство ногайских выходцев крестилось вынужденно и ожидать от них христианского благочестия не приходилось. Бежавшие из России ногаи тут же забывали о крещении, судя по сохранившимся в архивах жалобам отнюдь не все оставшиеся вели христианский образ жизни, почти неизвестны монастырские вклады ногайских новокрещенов и т. д. Так, личными вкладами в монастыри отметились лишь Афанасий Шейдяков, Иван Корепович Юсупов, Иван Шейдяков и Дмитрий / Надыр Ханович Шейдяков. Леонтий / Бек Султанашевич Шейдяков в 1627 году возвел по обету церковь в своем нижегородском поместье.
Браки крещеных мурз из статусных семей (Шейдяковы, Юсуповы, Урусовы и проч.) устраивались видимо русскими властями и в жены им подбирали представительниц статусных же русских семей. Некрещенным мурзам из тех же родов, также видимо не без участия властей, устраивались браки со статусными мусульманками - представительницами Чингисидов и проч.
В XVII веке статус русских жен ногаев формально понизился - это были в основном дочери стольников и дворян московских из не самых громких фамилий. Однако, как отмечает автор, фактически это могло быть и не так, поскольку об их родственных связях по женской линии почти ничего не известно.
Менее «честные» ногайские выходцы, как мусульмане, так и крестившиеся, предпочитали в целом заключать браки с представительницами таких же семей других ногайских выходцев.
Как отмечает автор, никакой общей родовой солидарности Эдигеевичи в целом не демонстрировали, разделяясь на отдельные сообщества, друг к другу в общем равнодушные.
О частной жизни, быте и т. п. ногайских выходцев нам почти ничего не известно. Быт и домашняя обстановка крещеных выходцев видимо мало отличались от быта и обстановки русских служилых людей.
Крещеных Эдигеевичей хоронили видимо поблизости от места проживания / смерти или в некрополях родственников их русских жен. О захоронениях оставшихся мусульманами сведений почти нет - в Романове подобный некрополь неизвестен, неизвестны и захоронения Эдигеевичей в Касимове. В Москве их могли хоронить на татарском кладбище за Калужскими воротами. Тело умершего в 1561 году в Москве Юнуса б. Юсуфа отправили за казенный счет в Сарайчик, традиционное место погребения ордынских ханов и ногайских биев, однако других таких случаев не выявлено.
Ногайские вооруженные формирования
скрытый текст
Во второй половине XVI века ногайские отряды (в качестве наемников) регулярно участвовали в русских военных кампаниях. Численность их обычно была невелика. Так, в Полоцком походе 1563 года участвовали ногайский мурза? Бекчюра «с товарыщи 60 человек» (в ертауле) и мурза Тохтар (Тохтар б. Ураз-Али?) с 15 другими мурзами и 244 казаками (среди которых преобладали не ногаи, а некие «крымские выходцы» - возможно ногаи пришедшие из Крыма) в передовом полку. Наиболее значительный ногайский отряд явился на русскую службу в 1564 году - 20 мурз и голов и 1 653 казака.
Ногайские наемники получали корм для лошадей, относительно корма для них самих четких указаний в источниках не имеется. Основной наградой для ногаев был видимо захваченный в походе полон.
В XVII веке к военной службе регулярно привлекались ногаи жившие под Астраханью - юртовские татары (до 2 000 чел. максимум) и едисаны (максимум 900 чел.), с мурзами и табунными головами.
Среди ногаев живших непосредственно в России наиболее многочисленную группу составляли романовские. С. Немоевский в своих записках сообщает, со слов Эля Юсупова, что в 1560-х годах в Романовском уезде имелось до 700 ногайских казаков. Однако автор считает эту цифру завышенной - за самим Элем Юсуповым и Айдаром и Алеем Кутумовыми изначально числилось всего 225 казаков (соответственно 125, 50 и 50), еще 130 казаков бежало в Литву с Ибрагимом Юсуповым и другими четырьмя мурзами в 1570 году (т. е. всего 355) и вряд ли за прочими, менее значительными мурзами, могло иметься еще три с половиной сотни.
Ко времени Смуты в Романовском уезде, по сообщению все того же Немоевского, оставалось уже не более 300 ногаев, однако автор и эту цифру считает завышенной.
На 1577 год в поход выходило от 220 до 250 романовских татар. На 1616 год в списке романовских татар Посольского приказа числился 171 человек - 72 за Сююшем Юсуповым и 99 (делившихся на три статьи - 27,37 и 35 соответственно) за Бараем Кутумовым. Помимо этого, Юсупов и Кутумов выставляли со своих земель даточных (тоже видимо татар) - 15 и 25 человек соответственно (возможно учтены среди всех романовских татар). В уезде имелись также и некие «безмурзные» казаки.
В целом, насколько можно понять, после Смуты на службу должно было выходить примерно 200 романовских казаков - по сто юсуповских и кутумовских. Фактически, в силу разных причин, выходило меньше. Так, в 1620/21 году Барай Кутумов мог выставить лишь 59 человек своей половины (реально вышло на службу лишь 54 человека, из числа недостающих 15 казаков крестились и вышли из подчинения мурзы).
На 1626 и 1627 годы всего имелось 180 романовских казаков, при этом в Смоленскую войну на службу выходило 129 - 134 человека. На 1636 год имелось всего 159 юсуповских и кутумовских казаков, к 1679 году их число сократилось до 121 человека.
На службу в 1661 году выходило 86 романовских татар и новокрещенов (57 и 29 чел. соответственно) - возможно только половина. В 1663 году романовских мурз, новокрещенов и татар, вместе с ярославскими мурзами и новокрещенами на службе числилось 245 человек.
До испомещения романовские татары видимо получали корм в каком-то виде. После испомещения, помимо доходов с земли, они дополнительно получали денежное жалованье - 500 рублей в год на всех, из местных романовских же доходов. За сбор денег отвечали государев приказной человек (позднее воевода), 4 «лучших татарина» романовских мурз и целовальники (5-6 человек). Указанные «романовские доходы» включали, насколько можно понять*, сборы с посада самого Романова, уездных рыбных ловель, кабаков, таможен и перевозов. Помимо этого в зачет указанных 500 рублей шли положенные казне налоговые сборы с поместий самих мурз («данные и оброчные деньги»), т. е. фактически ногаям давали видимо не 500 рублей, а меньше.
Давший в 1606 году жалованную грамоте Элю Юсупову Самозванец этот зачет (доходивший, как выясняется, до 284 рублей) упразднил, однако и общую сумму выдачи из романовских доходов видимо понизил - до 300 рублей. Дополнительное жалованье давалось лишь выходящим на службу.
Михаил Федорович в жалованной грамоте 1613 года, данной уже Сююшу Юсупову, (приводится в приложениях) эти изменения, в целом, подтвердил.
[Согласно грамоте «данные» деньги с сел Сююша в зачет оклада не идут, а прочие (ямские, ямчужные, посоха и пр.) сборы не берутся. К романовским доходам идущим на жалованье самому Сююшу и его казакам отнесены ямские и кабацкие деньги, тамга, мыт, перевоз, наместничий белый корм и проч.].
Русских жителей уезда судил тот же государев приказной человек / воевода, на суде при этом присутствовали те же 4 «лучших татарина» (возможно для контроля за сбором судебных пошлин). Дела между ногаями и русскими разбирались в Посольском приказе. Самих ногаев вероятно судили их мурзы.
Испомещением казаков поначалу фактически руководили их мурзы, определявшие видимо и размер поместий (что открывало, естественно, широкие возможности для злоупотреблений). Кто занимался обработкой земель казаков неясно, возможно это были латыши - захваченные в литовских походах полонянники. В общей сложности на испомещение ногаев в уезде, согласно жалованной грамоте Федора Ивановича (1584 год) отводилось 10 356 четей земли - 4 912 (3589 пашни и 1323 перелога) четей самим мурзам и 5 444 (4161 + 1283) чети в раздачу их казакам.
В 1615/16 году романовских казаков вывели из подчинения мурзам, приказав испоместить и выдать им ввозные грамоты (аналогичные меры были приняты в отношении темниковских татар). В 1620/21 году татар половины Барая Кутумова вернули под начало мурзы (то же вероятно проделали и с татарами юсуповской половины).
На 1627 год за Сююшем Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Бараем Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара), за романовскими татарами (теоретически - 225) - чуть более 7439 четей.
После Смуты романовские казаки начали постепенно креститься. Крещеный казак выходил из подчинения мурзы - вместе со своим поместьем. Появляются также и «безместные» / кормовые казаки, получавшие от своих мурз не поместья, а корм - возможно как реакция на распространявшееся крещение.
На рубеже 1670 - 1680-х годов, как уже отмечалось, оставшимся помещикам-мусульманам Романовского уезда было предписано креститься - под угрозой отписки поместий. Отказывавшихся креститься переводили в кормовые иноземцы. Эта мера привела к окончательной ликвидации корпорации романовских татар.
Общая численность ногаев живших непосредственно в России и несших здесь военную службу, была, таким образом, невелика и заметной роли они не играли.
* Авторский текст, и так, в общем, своеобразный, в этом разделе особенно сложно понять.
Ногайская знать в России XVI–XVII веков
Весьма ценная содержательно работа, очень нуждающаяся в вычитке и редактуре - мягко говоря. С полиграфией тоже беда - очень мелкий текст и скверного качества печать.
скрытый текстНогайские выходцы
скрытый текст
Вся рассматриваемая автором ногайская знать представляла собой потомков пресловутого Едигея / Эдиге, фактического правителя Золотой Орды на рубеже XIV - XV веков. Среди сыновей Эдиге наиболее заметными были Нур ад-Дин и Мансур, потомки первого стояли во главе Ногайской Орды, потомки второго возглавляли, в качестве карачи-беков, крымских мангытов.
Начиная с XVI века потомки Эдиге появляются в России, оказываясь здесь как добровольно, так и не очень и принимаясь на государеву службу. В статусном отношении они располагались между Чингисидами и служилыми князьями из местных инородцев (татарскими, мордовскими и проч.). При крещении ногайские выходцы получали наследственный княжеский титул. До 1590-х годов они числились служилыми князьями, позднее стольниками и дворянами московскими (обычно на первых местах в соответствующих списках). После Смуты их статус понижается, к концу XVII века ногайские выходцы перемещаются уже в нижнюю часть списков стольников и дворян, некоторые начинают службу стряпчими и даже жильцами. Приказные учреждения ровней им считают уже мещерских служилых татар, ранее стоявших много ниже.
До середины XVII века ногайские выходцы ведались Посольским приказом, позднее - Разрядом.
В русских документах XVI - XVII веков ногайские выходцы фигурировали под родовыми прозвищами (по имени какого-либо значительного предка, чаще всего бия). Как отмечается, генеалогия Эдигеевичей весьма запутана и сложна - как из-за разветвленности рода, так и из-за проблем с источниками. Автором выявлено примерно 200 ногайских выходцев и 25 их родовых прозвищ, по которым он их и группирует, размещая в порядке времени выезда в Россию.
Большинство ногайских родов пресеклось уже в описываемый период, к концу XVII века сохранялось 12 княжеских фамилий ногайского происхождения: Байтерековы, Кекуатовы, Кутумовы, Мамаевы, Мансуровы, Тинбаевы, Ураковы, Урусовы, Шейдяковы (2 рода) и Юсуповы (2 ветви). К середине XVIII века фиксируются представители лишь 5 фамилий - Кекуатовых, Ураковых, Урусовых, Шейдяковых, Юсуповых. До нашего времени дожили потомки князей Урусовых, Ураковых, Кекуатовых и Юсуповых (по женской линии).
Как отмечает автор, случаев выезда / пленения ногайских мурз было значительно больше чем приведено ниже - некоторые ногаи выезжали лишь для участия в войнах, другие жили временно и позднее возвращались в степь, пленных возвращали или обменивали, пленные мурзы XVII века растворялись в среде других пленников и т. д.
Общая динамика выездов выглядела следующим образом. Ногайские мурзы начали выезжать на постоянное жительство в Москву с начала XVI века, поначалу добровольно - вслед за своими свойственниками, татарскими царевичами. С середины XVI века добровольный выезд большей частью сменяется вынужденным - мурзы покидали степи (иногда просто высылались) из-за непрекращающихся кровавых междоусобиц. При этом, как и раньше, все еще сохранялась и возможность отъезда на родину.
На рубеже веков кандидатов на вынужденный отъезд все больше начинает определять Москва, убирая из степи оппонентов своих ставленников, возрастает число ногаев взятых в плен на поле боя. В некоторых случаях разрешение на выезд дается в качестве награды за крещение.
Во второй половине XVII века общее число выездов радикально сокращается. При этом все известные случаи - результат пленения в бою. Захваченных в плен мурз обычно пытались обменять на русских пленных. Если этого сделать не удавалось у мурзы оставалось два варианта - гнить в тюрьме или креститься.
Как отмечает автор, подавляющее большинство ногайских мурз, несмотря на высокий статус и щедрое материальное обеспечение, ощущали себя в России пленниками. Многие из них предпринимали попытки бежать за пределы страны. Положение меняется лишь начиная со второго поколения семей, выросшего или даже родившегося в России.
***
В списке ниже женское потомство ногайских выходцев большей частью игнорируется (мною, а не автором), указываются только сыновья (при наличии).
***
Жены татарских царей и царевичей
скрытый текст
Первые потомки Эдиге в России появились уже в конце XV века - это были жены казанских ханов. Так, в 1487 году в белозерскую ссылку вместе с мужем, свергнутым казанским «царем» Али б. Ибрагимом / Алегамом отправилась «царица» Каракуш, дочь ногайского бия Ямгурчи б. Ваккаса. После смерти первого мужа ее выдали за другого казанского хана, Мухаммеда-Эмина / Магмед-Аминя, вместе с которым она вновь бежала в Россию, живя в 1496 - 1502 годах в Кашире. Другой женой Мухаммеда-Эмина, жившей с ним в Кашире, была еще одна дочь Ямгурчи, Фатима. Она же, возможно, позднее была замужем за еще одним казанским ханом, пресловутым Шах-Али / Шигалеем и, соответственно, бегала в Москву из Казани уже с ним.
Ногайских жен имели и другие выезжие Чингисиды - крымский царевич Мурад-Гирей (выехал в 1585 году), ургенчский царевич Мухаммед-Кул (1595?), плененные в 1598 году сыновья Кучума, царевичи Канай и Али (женатые, соответственно, на дочерях биев Уруса и Дин-Ахмеда).
Как отмечает автор, помимо перечисленных случаев наверняка имелись и другие, нам неизвестные.
Мансуровы, Канбаровы и Тевекелевы
скрытый текстПотомки одного из указанных сыновей Эдиге - Мансура и сына последнего, Дин-Суфи.
Между мартом 1502-го и октябрем 1505 года в Москву выехал внук Дин-Суфи Канбар б. Момола, приходившийся племянником большеордынскому и крымскому беку Хаджике б. Дин-Суфи. В Москве он находился видимо на положении служилого князя, являясь достаточно заметной фигурой. В 1505 - 1507 годах его службы фиксируются разрядами: в октябре 1505 года Канбар-мурза Мамалеев был в Муроме с касимовским царевичем - по казанским вестям; в июле 1507-го ходил на Литву из Северы во главе передового полка (вместе с удельным воеводой кн. Юрия Дмитровского); в сентябре того же года опять ходил на Литву, руководя передовым полком уже единолично (что весьма нетипично). После 1507 года не упоминается.
У Канбара было двое сыновей - Ак-Мухаммед и Тевекель.
Службы Ак-Мухаммеда в 1519 - 1541 годах фиксируются разрядами, он видимо командовал каким-то собственным татарским отрядом, составляя компанию своим свойственникам, сибирским царевичам Ак-Даулету и Шах-Алею (под присмотром русских приставов) - большей частью в походах против литвы.
Сын Ак-Мухаммеда Ураз-Али / Уразлый сделал большую карьеру. В разрядах Ураз-Али Канбаров упоминается с 1551 года, в 1558 году он крестился, став князем Иваном Махметевичем / Ахметевичем Канбаровым. В 1560 - 1563 годах князь назначался первым воеводой сторожевого и передового полка на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1566 годах - уже второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву. В 1570 году Канбарова отправили послом в Польшу (умер в дороге).
О другом сыне Канбара, Тевекеле, сведений не имеется. У него имелся видимо сын Мавкош, также ничем не прославившийся. Сын этого Мавкоша сделал заметную карьеру. Мусульманское его имя неизвестно, после крещения он именовался князем Иваном Мовкошевичем («Мавкошевым сыном») Тевекелевым (вар. Девелетевым, Теукечевым, Теукелевым, Теукчеевым), а в одном случае даже Иваном Тевекелевичем Канбаровым. В Тысячной книге князь записан по Торжку - сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном. В 1558 - 1572 годах служил в основном в головах и рындой, хотя в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года - первый воевода передового полка в «немецком походе». «Выбыл» в 1576/77 году. Некий кн. Иван Девлетевич Тевкелев в 1570 - 1575/76 числился также оружничим, однако достоверность этого известия сомнительна.
В XVII - XVIII веках упоминаются и другие князья Канбаровы. Так, в 1630 году крестился некий Тимофей Абдул-мирзин сын Канбаров (Камбаров, Канбаев), числившийся служилым иноземцем по Царевококшайску. Его родство с вышеописанными Канбаровыми сомнительно. В 60-80-х годах XVIII века упоминаются еще какие-то князья Канбаровы, их происхождение неизвестно.
Вероятно вместе с Канбаром в Москву выехал и его двоюродный брат Бибей б. Ибрагим, с сестрами Борнушей и Ош-салтаной. Борнуша позднее была выдана замуж за сибирского царевича Ак-Даулета б. Ак-Курта, а Ош-салтана, вероятно, за астраханского царевича Шейх-Аулеара б. Бахтияра и возможно была матерью (или мачехой) пресловутого Шах-Али, казанского и касимовского царя.
О самом Бибее известно лишь, что через какое-то время после выезда он крестился, став князем Владимиром. У него имелся сын Дохие, в крещении - Семен. В Тысячной книге он записан князем Семеном Васильевичем Бибеевым, сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном - по Ржеве Володимеровой.
Каким-то образом (захвачен в плен?) в Москве оказался и принял крещение еще один Мансур - некий Иван, сын Мевлеша, внук Тевшина / Тениша. Последний (Тениш б. Джанкуват б. Дин-Суфи) приходился двоюродным братом Канбару и был, как и его отец, крымским карачи-беком.
В XVII веке в России упоминаются новые Мансуры. В 1643 /44 году в Астрахани крестили выехавшего еще в 1639 году из Крыма Адиля-мурзу Мансурова. В боярских книгах и списках он отсутствует.
В 1670/71 или 1671/72 году крестился белгородский мурза Антемир (Байтемир) Мансуров, взятый в плен под Севском в 1667/68? году. Больше о нем ничего не известно. Как отмечает автор родовое прозвище Мансуры начинает употребляться в документах только в XVII веке, ранее оно не использовалось
Автор включил в эту группу и пресловутого Дивея-мурзу (Дивея б. Хасана), крымского карачи-бека и ближайшего сотрудника Девлет-Гирея, захваченного в плен под Молодями и подохшего в 1575 году.
Кутумовы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мухаммеда б. Мусы.
В 1564 году в Москву «из Нагаи» с отрядом выехал внук бия, Айдар б. Кутум б. Шейх-Мухаммед, вероятно вместе с братом Али (Алеем). Об Айдаре больше почти ничего не известно. У него имелось два сына - Еналей и Кузей, вероятно погибших в Смуту.
У Али б. Кутума известны два сына - Ахмед и Барай и дочь - Салтан-бике, жена трех последовательно сменявших друг друга касимовских царей (Мустафы-Али, Ураз-Мухаммеда и Арслана б. Али). Еще одна, безымянная, дочь мурзы возможно была женой известного сибирского царевича Маметкула, военачальника Кучума.
Ахмед вероятно погиб в Смуту, а вот Барай б. Али дожил до 1646? года, оставив многочисленное потомство - известно восемь его сыновей (Хан, Сафаралей / Петр, Ирбетя (Ибердей) / Тихон, Тахтаралей, Ем, Шекурей, Опаш и Касбулат). Большой карьеры никто из князей Бараевых не сделал.
Старший из сыновей, Хан, умер до марта 1657 года. Его сын Надыр / Дмитрий в 1680 году крестился под давлением властей. На 1685/86 год - стольник, с 1703 года в отставке, умер до 1708 года.
Сафаралей / Петр крестился в 1647 году, тогда же пожалован в стольники, умер в 1652/53 году. Его сын Дмитрий, тоже стольник, в 1679/80-м сослан Кирилло-Белозерский монастырь.
Ибердей / Тихон крестился в 1629 году, тогда же пожалован в стольники, в 1650-м выписан из стольников в московские дворяне, умер в 1658/59 году.
Тахтаралей ничем не известен, его сын Джадигер / Федор крестился в 1680 или 1681-м, на 1685/86 и 1691/92 годы числился стольником, умер не позднее декабря 1696-го. Сын его, Иван Федорович, на 1685/86 год стольник, умер не позднее 1703 года.
О Еме, Шакурее и Опаше сведений нет.
Почти ничего не известно и о Касбулате. В 1680 или 1681 году у него, за отказ креститься, отписали 79 дворов в Романовском уезде и отправили жить в Вологду, в качестве кормового иноземца. У Касбулата было 6 сыновей, из которых относительно известен один - Каплан / Петр. Он крестился в 1688 году и именовался князем Петром Касбулатовым. На 1685/86 год - стольник (ведался после крещения почему-то в Иноземном приказе), упоминается до 1705 года. По некоторым сведениям воспреемником князя при крещении был. кн. В. В. Голицын (и отечество его было Васильевич) и в 1689 году он посылался с царским жалованьем к Мазепе.
В начале XVIII века этот род пресекся.
Кошумовы
скрытый текстПотомки Хаджи-Мухаммеда (Кошума), нурадина Ногайской Орды, брата бия Саид-Ахмета и сына бия Мусы б. Ваккаса.
В 1567/68 году в Москву для участия в войне с Литвой прибыли Караул и Яныш, сыновья Асанака* (Хасанака) б. Хаджи-Мухаммеда (Кошума) б. Мусы.
Примерно в то же время выехал и позднее крестился Салтангазы (Султан-Гази) б. Хаджи-Мухаммед, в крещении - князь Никита Кошумов. [Судя по тексту - дяда Караула и Яныша, однако на приводимой авторской схеме показан сыном Хасанака и, соответственно, братом первых двух]. Был видимо романовским помещиком.
В XVII веке известен еще один князь Кошумов. В 1637/38 году в Воронежском уезде попал в плен некий мурза Алей Кошумов. В 1642/43 году он крестился и стал князем Василием Кара (Карай, Корай) мурзиным сыном Кошумовым. в 1649/50 - 1654 годах - дворянин московский. Характер его родства с предыдущими Кошумовыми неизвестен.
* Женой этого Асанака была сестра царевича Бекбулата, отца известного кн. Симеона Бекбулатовича, неоднократно навещавшая своих родственников в России.
Уразлыевы
скрытый текстВнуки бия Шейх-Мухаммеда.
В 1560 - 1561 годах в Москву, в связи с усобицей в Ногайской Орде, выехали сыновья Ураз-Али б. Шейх-Мухаммеда - Пулад, Тимур, Бабаджан (Бибизян) и Тохтар. Тохтар позднее вернулся в степи, судьба Пулада неизвестна. Тимур и Бабаджан Уразлыевы, а также сын Тохтара Эль отмечены в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года как прежние помещики.
Юнусовы, Юсуповы, Юсуповы-Княжево
скрытый текстПотомки бия Юсуфа б. Мусы.
Первой представительницей рода оказавшейся в России была женщина - пресловутая Сююн-бике, жена казанских ханов Джан-Али / Яналея и Сафа-Гирея и бывшего казанского хана и касимовского царя Шах-Али / Шигалея (1551 год).
После убийства в 1554 году бия Юнуса и «воцарения» его младшего брата Ибрагима, в Москву начали выезжать конфликтовавшие с дядей потомки покойного бия.
Весной 1558 года выехал один из сыновей сын Юсуфа - Юнус б. Юсуф. Он был всячески обласкан, но уже в мае 1561 года умер. В России жило трое его сыновей - Бий-Мухаммед, Ак-Мухаммед и Тин-Али / Тиналей. В конце 1560-х они были испомещены в Романовском уезде. Ак-Мухаммед, по некоторым сведениям, позднее уехал в Малую Ногайскую Орду. Тин-Али в 1570 году бежал вместе с другими ногаями в Литву, а оттуда в Крым (см. ниже).
Вместе с Юнусом выехал его малолетний племянник Дан-Али б. Али б. Юсуф. Возможно это упоминаемый русскими документами Наделы Алеев сын Хромого, романовский помещик и еще один участник побега 1570 года.
В 1564 году бий Исмаил выслал в Москву других сыновей Юсуфа - Ибрагима и Эля. Они были также испомещены в Романовском уезде. В 1570 году Ибрагим Юсупов, после ссоры с опричником Романом Пивовым, вместе с одним из своих сыновей, Тиналеем Юнусовым и двумя неидентифицируемыми мурзами (упоминавшимся Наделы Алеевым и неким Ахмалой Бештавзином) бежал в Литву, а оттуда - в Крым (позднее перебрался в Малые Ногаи).
В России у Ибрагима осталось два сына - Сеит-Мухаммед и Сююш.
Сеит-Мухаммед («Сеит-Мамет-мурза Абреимов») в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года упоминается как прежний помещик. У него был сын - «Козяк (Хозяк) мурза Сеит-Магметев сын Юсупов» (упоминается в 1609 году), бывший видимо племянником касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
У Сююша также был сын - Ибрагим / Никита. Князь Никита Исеушевич Юсупов в боярских списках 1606/07, 1610/11 и 1626 годов числится дворянином московским. За московское осадное сиденье 1618 года пожалован переводом части кашинского поместья в вотчину. Последнее упоминание - 1647/48 год.
У Никиты было четверо сыновей - Федор, Василий Большой, Василий Меньшой и Андрей и дочь Анна.
Анна была замужем за Иваном Гавриловичем Хлоповым, родственником несостоявшейся царской супруги, патриаршим стольником и позднее дворянином московским.
Федор - стольник с 1641 года, умер не ранее 1667-го.
Андрей - с 1638 года стряпчий, с 1667-го - дворянин московский, умер не ранее 1667 года. У него был сын Петр, жилец с 1696/97 года, позднее возможно стольник, умер не ранее 1720-го, сын Иван - к 1719 году прапорщик Рязанского пехотного полка.
Василий Меньшой в 1660/61 пожалован в стряпчие из жильцов, служил до 1676 года, умер не ранее 1721-го. У него был сын Иван, жилец с 1695/96 года.
Василий Большой имел семерых? сыновей - Ивана (стряпчий с 1671/72, стольник с 1676/77, умер ок. 1708 года), Василия (дворянин московский с 1675/76, умер до 1720 года), Петра (стряпчий с 1681/82, стольник с 1691/92, умер ок. 1708 года), Бориса (дворянин московский с 1680/81, умер ок. 1708 года), Леонтия, Алексея и Федора. Борис, Иван, Василий и Алексей тоже имели сыновей, но никто из них в петровские времена выше армейского обер-офицера не поднялся.
Эль б. Юсуф (умер между августом 1610 и сентябрем 1611 года) имел трех сыновей - Сююша, Бая и Чина (Чин-Мухаммеда).
Бай погиб в Смуту, между августом 1610 и сентябрем 1611 года.
Чинбыл видимо сыном от брака с сестрой сибирского хана Кучума и какое-то время жил в Сибири. В 1595 году он с семьей сдался русским в Таре и был отправлен в Москву. Погиб или умер во время Смуты (до ноября 1608?). У Чина было вероятно три сына - Будай, Петр (на 1607/08 стольник, на 1610/11 - «в измене») и Корел (в другом месте именуется Корепом, сын сестры крымских выходцев Юрия и Василия Сулешевых).
У Корела / Корепа был сын Бий, унаследовавший вотчины деда, Юрия Сулешева. В 1639/40 году он крестился и стал князем Иваном Кореповичем Юсуповым (Исуповым). В 1649 году сослан с семьей на Белоозеро. Стольник, после 1651/52 - дворянин московский, умер не ранее1676/77 года. Его жена Мария была племянницей боярина кн. Бориса Александровича Репнина. Сын Семен - с 1671/72 года стряпчий, с 1675/76 - стольник, умер не ранее 1685/86 года.
Сююш (умер в 1656 году) унаследовал большую часть семейных земель и имел обширное потомство. У него было пятеро сыновей - Абдулла / Дмитрий, Джан, Иштерек, Ислам и Ак.
Иштерек (умер в 1654/55) и Ислам (умер до 1659 года) потомства видимо не имели.
Джан имел двух сыновей - Бая (умер в 1664/65 году) и Хана / Ивана (крестился в 1681-м, умер в 1682 году).
Ак также имел двух сыновей - Ая / Алексея (крестился под нажимом властей в 1681-м, в том же году умер) и Сендегу / Петра (стольник в 1685/86 - 1691/92, умер в 1692 году).
Наиболее многочисленной и успешной была линия Абдуллы / Дмитрия. В 1680/81 он крестился под нажимом властей. Вместе с ним крестились и сыновья, известные уже под христианскими именами - Матвей, Иван и Григорий.
Иван имел чин стольника, умер в начале 1700 года. Его сын Александр умер в 1741 году, не оставив потомства.
Матвей также имел чин стольника, упоминается до 1721 года, у него был сын Михаил.
Григорий (1676 - 1730), благодаря близкому юношескому знакомству с царем Петром сделал прекрасную карьеру, дослужившись в итоге до генерал-аншефа (1730 год). Был женат на дочери окольничего Н. И. Акинфиева. У него было трое сыновей - Григорий, Сергей и Борис. Григорий [умер в 1737 году] дослужился до драгунского полковника, Сергей (умер ок. 1733 года) - до армейского подполковника. [Борис (1695 - 1759) сделал блестящую карьеру - московский и петербургский губернатор, президент Коммерц-коллегии, тайный советник и пр. Он и его потомство, собственно и составили славу рода Юсуповых].
Потомки Сююша, желая отделить себя от прочих Юсуповых до конца XVIII века называли себя Юсуповы-Княжево
В целом, как видно, из всего этого обширного рода в долгосрочном плане преуспела только одна ветвь потомков Сююша.
Шейдяковы
скрытый текстПод этим родовым прозвищем скрывались представители двух разных родов - потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы и потомки Саид-Ахмеда б. Мухаммеда б. Исмаила б. Мусы - выходцы из Малой Ногайской Орды. Генеалогия Шейдяковых весьма запутана и часто сложно понять к какому из указанных родов относится соответствующий персонаж.
Потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы.
Саид-Ахмед (Сейдяк, Шидак, Шейдяк - отсюда Шейдяковы) считался в Москве старшим из сыновей Мусы б. Ваккаса и его потомки обладали наиболее высоким статусом среди всех ногайских выходцев XVI века. Позднее их «общегосударственный» статус понизился, однако в среде татарских выходцев оставался высоким и в XVII веке.
В 1568 - 1570 годах впервые упоминаются некие Аман-Газы и Дос-Магмет «Шиидяковы дети княжие». Первый вероятно внук Саид-Ахмеда Аман-Газы б. Тутай, второй - то ли сын Саид-Ахмеда Дурс-Мухаммед, то ли сын этого самого Дурс-Мухаммеда (автор склоняется ко второй версии). В начале 1570-х оба они вероятно крестились, став соответственно князьями Петром Тутаевичем и Афанасием Шейдяковыми. Оба сделали неплохую карьеру.
Петр Тутаевич Шейдяков в разрядах упоминается в 1571 - 1580 годах. Он занимал высокие воеводские должности - первый воевода передового, сторожевого, правой руки [и большого] полков, был наместником во Пскове и проч. Умер в 1581 году.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1586 годах бывал первым воеводой большого полка, наместником Юрьева, осадным воеводой в Новгороде. В 1588 году попал видимо в опалу - взят за пристава и позднее высоких должностей не занимал, умер в 1602 году.
В 1571 году в источниках появляется князь Иван Келмамаевич Келмамаев. Высокий статус князя несомненен - его женили на дочери Малюты и проч., однако происхождение неясно. Автор предполагает, что он мог быть правнуком Саид-Ахмеда - сыном Кель-Мухаммеда (Кель-Мамая) б. Кель-Мухаммеда б. Саид-Ахмеда. В 1571 - 1572 годах - рында с большим саадаком у царевича Ивана Ивановича. Умер в 1573 году.
Помимо этого в 1560 - 1570 годах в России видимо находились сыновья Атая б. Саид-Ахмеда (еще одного сына бия) - некий безымянный и Мустафа Татаев (Атаев) сын Шейдяков (насчет происхождения последнего имеются разные версии, автор его считает сыном Атая). Последнего вероятно крестили в 1571 году.
В Смуту (боярский список 1606/07 года) упоминается еще какой-то новокрещен стольник князь Михаил Шейдяков. «Изменил» в в июле 1608-го (отъехал в Тушино?).
Еще одна семья Шейдяковых также видимо происходила из Большой Ногайской Орды и предположительно относилась к потомкам Саид-Ахмеда. Статус семьи был достаточно высок - только с этой ветвью Шейдяковых в XVII век заключали браки служилые Чингисиды.
Где-то на рубеже XVI - XVII веков в России оказались Еналей (Джан-Али), Каплан и Алей Тугановы дети Шейдяковы, вместе с дядей, Теникеем, Оксаровым (Аксаровым) сыном. Последний вероятно был сыном или внуком Саид-Ахмеда.
Еналей (Алей) в Смуту видимо изменил и в декабре 1610-го был убит казаками в Калуге, в отместку за убийство татарами Вора. У него были сыновья Девлет (Девлет-Мамет), Канай / Алексей и Зорбек / Федор.
Девлет в 1625 году упоминается как кормовой иноземец в Ярославле, умер в 1646 году. Он был женат на дочери Кучума Молдур и вдове касимовского царя Арслана б. Али Нал-ханише.
Канай был женат на племяннице касимовского царя Арслана б. Али. Позднее крестился с именем Алексей, на 1651/52 год дворянин московский. В 1653 году, вместе с сыновьями Сафа-Гиреем / Василием и Шин-Гиреем / Никифором арестован по (сомнительному, по мнению автора) обвинению в попытке отъехать в Польшу. Умер в 1653/54 году. Помимо Василия и Никифора у Каная / Алексея было еще два сына - Давыд Алексеев? (на 1675/76 - 1676/77 годы - дворянин московский) и другой, остающийся безымянным
Зорбек был прижит с наложницей, позднее жил у дяди Теникея и его сына Кул-Мухаммеда, пытавшегося его похолопить, бежал и в 1621/22 году крестился, став князем Федором Еналеевичем (Аналеевичем) Шейдяковым. В 1626 - 1649 годах дворянин московский. Был женат на дочери кн. Романа Петровича Пожарского (двоюродного брата национального героя). У князя был сын Михаил (стольник с 1657/58 года, умер в 1687-м воеводой Соликамска). У Михаила имелось три сына - Семен (на 1712 год - жилец и армейский капитан, позднее асессор Сенатской конторы), Афанасий (стольник с 1685/86 года, на 1722 год - вице-президент Ярославского надворного суда) и Яков (стольник царицы Прасковьи в 1685/86 году). У Якова были сыновья Афанасий (на 1706 год числился среди полковников, подполковников и начальных людей) и Григорий (на 1706-й - стольник). Потомки Григория известны до начала XIX века, но особой карьеры не сделали (максимум - гвардейский поручик). Это единственная ветвь Шейдяковых дотянувшая до XIX века.
Каплан Туганов (Таганов) умер в 1627/28 году. У него было четверо сыновей - Эрмамет (Ир-Мамет, Ураз-Мухаммед?), Бий / Абрам, (Канай) / Иван Большой и Салтанай / Иван Меньшой. Трое последних пожалованы в стольники из новокрещенов в 1649 году, умерли в 1654/55, 1658/59 и после 1708 года соответственно.
У Бия / Абрама были сыновья Роман (стольник в 1649 - 1666/67 годах) и Василий, у Салтаная / Ивана Меньшого - сыновья Василий (на 1706 год в списке полковников и других начальных людей, умер не позднее 1711 года) и (вероятно) Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92, упоминается до 1700 года).
У упомянутого выше дяди перечисленных Шейдяковых, Теникея б. Аксара, был сын Кул-Мухаммед (Келмамет, Клеш) / Артемий, крестившийся в 1621/22 году и имевший чин дворянина московского (умер к 1623/24? году). У него имелись сыновья Федор и Михаил (стольники с 1629 года).
У Федора был сын Иван (стряпчий с 1675-го, стольник с 1685 года), трое сыновей последнего (Федор, Алексей и Иван) в начале XVIII века числились армейскими обер-офицерами.
У Михаила были сыновья Лев (комнатный стольник царя Ивана Алексеевича с 1685/86 года, на 1709 год армейский капитан), Афанасий (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, позднее обер-комендант и вице-президент [Владимирского?] надворного суда) и Семен (на 1712 год жилец и армейский капитан).
Известен также некий Сафарлей (Сафар-Али) Арасланов сын Шейдяков, выехавший, по мнению автора, в конце XVI века и испомещенный не позднее 1606/07 года в Юрьеве-Польском. Его женой была то ли сестра, то ли тетка касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
Малоногайская ветвь Шейдяковых
В 1620 году в Москве крестился внук бия Малой Ногайской Орды Касима - Бек (Батук) б. Султан (Султанаш) б. Касим б. Ислам б. Саид-Ахимед, ставший дворянином московским князем Леонтием Султанашевичем Шейдяковым. В Москву его привезли еще в 1617 году из Михайлова - в качестве «языка». Умер в 1641/42 году.
У Бека / Леонтия имелся брат Дмитрий (мусульманское имя неизвестно), выехавший видимо уже на рубеже XVI - XVII веков (на 1606/07 год в боярском списке записан стольник кн. Дмитрий Салтанаш-мурзин сын Шейдяков). После 1614/15 года он бежал [в степь?], но затем то ли попал в плен, то ли вернулся добровольно. В 1621 году его сослали в Устюг «за измену», простив не позднее 1637/38 года. У князя был сын Борис (стольник в 1647 - 1667 годах, в 1679-м послан под начало в Кирилло-Белозерский монастырь - за пьянство). У Бориса были сыновья Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, в 1700-м повешен за убийство) и Федор (на 1691/92 год стряпчий, с 1703-го в отставке, умер в 1705-м).
У Леонтия и Дмитрия был еще один брат Хан, также оказавшийся в России и имевший двух сыновей - Григория (стольник в 1685 - 1692 годах, умер 1704-м) и Бориса.
К этому же роду относились двоюродные братья Леонтия, Дмитрия и Хана - Белек / Федор, Степан, Исай и Урак?
Белек (Белек-Темир) б. Навруз б. Касим попал в русский плен в 1633/34 году, в ходе похода окольничего П. Ф. Волконского на Малых Ногаев и долго сидел на «аманатском дворе» в Астрахани. В 1650 году он крестился и стал князем Федором (стряпчий с апреля 1654 года, упоминается до 1667-го).
Урак*, Степан и Исай были видимо отпрысками другого сына Касима - Казбулата. Судя по челобитной Урака Степан и Исай на 1637/38 год получали поденный корм. По предположению автора оба они попали в плен под Саратовым в 1627/28 году и сидели в вологодской тюрьме до крещения в 1630/31-м. В документах имеются и иные упоминания Степана и Исая Шейдяковых, однако неясно те же это лица или нет.
С 1649 года упоминается также некий дворянин московский князь Исай Чегорда-мирзин сын Шейдяков (убит в 1659 году под Быховым), тоже возможно внук Касима. У него имелись сыновья Петр (на 1680/81 год стряпчий, на 1691/92 - стольник) и Михаил.
***
Помимо этого известно еще некоторое число Шейдяковых генеалогия которых неясна, но большей частью это видимо выходцы из Малых Ногаев.
Около 1560 года в Москву выехал некий Мустафа б. Тата (Татай) б. Саид-Ахмед - уже в 1561-м отпущен в степь по просьбе бия Исмаила.
В 1614/15 году крестили Дивея / Семена мирзу Шейдякова. Позднее он «побежал» с кн. Дмитрием Салтанаш-мирзин сыном Шейдяков (см. выше), позднее был пойман и сослан в Устюг, где и умер в 1621 году.
В 1622/23 году крестили некоего Дин-Али (Тиналея) Шейдякова. Больше о нем ничего не известно.
В сентябре 1637 года в Новосильском уезде пленили Солох-мирзу (Такаева) Токаева сына Шейдякова - в 1639/40 году крестился под именем Иван, умер в 1646 году.
В 1648/49 году крестился некий Кочюк / Дмитрий Такаев - возможно брат предыдущего.
В 1648/49 году выехал Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков, в 1653/54 - 1664/65 годах - московский дворянин.
В 1689/90 - 1691/92 годах в боярских списках числится стольник Григорий Толбундинов Шейдяков (упоминается до 1721 года).
На 1700 год по «сказкам» Генерального двора в России проживало всего 10 мужских представителей рода Шейдяковых. До начала следующего столетия, как уже отмечалось, дотянула лишь одна, ничем особо не примечательная, ветвь.
* Неясно жил ли он вообще в России - в тексте упоминается его челобитье 1637/38 года о повышении оклада брата, но больше никаких сведений не приводится, на авторской генеалогической схеме он показан в России не жившим.
Смайлевы
скрытый текстПотомки Ханбая б. Исмаила, сына бия Исмаила.
Среди захваченной в 1598 году в Сибири родни хана Кучума имелся и его внук Зен-Магмет (Джан-Мухаммед). Позднее в Россию выехал отец этого Зен-Магмета [и видимо внук бия Исмаила], ногайский мурза Бегай (Бегей) б. Ханбай б. Исмаил (на 1609 год числился дорогобужским помещиком). Позднее Бегай-мурза Смайлев с семьей оказался в Смоленске и затем видимо служил Сигизмунду (некий Бегай-мурза Ханбаевич в 1610 - 1612 годах был пожалован королем дорогобужским поместьем). Позднее [у автора указано число и месяц, но не указан год] он с семьей выехал в осаждавшую Смоленск армию кн. Д. М. Черкасского, был отправлен в Москву и испомещен в Суздальском уезде. К ноябрю 1627 года Бегай крестился с именем Семен (пожалован в стольники), умер в 1632/33 году.
У Бегая / Семена имелись сыновья Сары / Лев (крестился в 1625-м, пожалован в стольники, умер в 1642/43 году), Деян / Дьян (возможно это упоминавшийся Зен-Магмет / Джан-Мухаммед, умер в 1621/22 году), Бирим и, возможно, Козей (на 1636 год кормовой иноземец в Ярославле) и Акманай (на 1642/43 кормовой иноземец в Ярославле, в 1653-м упоминается как член двора касимовского царевича Сеит-Бурхана).
У Деяна / Дьяна был сын Прокопий / Александр (крестился в 1625-м?, стольник, упоминается до 1652 года).
Шихмамаевы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мамая б. Мусы.
В боярском списке 1606/07 года отмечены правнук бия стольник кн. Петр Акназар-мурзин сын Шихмамаев (б. Хак-Назар б. Бай б. Шейх-Мамай), стольник кн. Григорий Келмамет-мурзин сын Шихмамаев (тоже видимо правнук Шейх-Мамай, но генеалогия его неизвестна) и некий дворянин московский Иван Шихмамаев. Как они оказались в Москве неизвестно, возможно это было как-то связано с вывозом в Россию толпы Кучумовичей на рубеже веков.
Ахметевы
скрытый текстВ начале XVII века упоминаются несколько Ахметевых, вероятно ногайских мурз и членов одной семьи, однако их происхождение остается неясным.
В 1609 году в Ростовском уезде упоминается некий Касым-мурза Ахметев, вероятно ногайский мурза. В 1616 году неких Пантелея-мурзу Касымова Ахметева и его племянника Досая Ангилдеева (Кангилдеева) сына Муратова (в 1625 году упоминается уже как Досай Касымов) кинули в тюрьму, вероятно за попытку бежать из России. В 1619-м обоих выпустили, но поместий не вернули и перевели в ярославские кормовые иноземцы.
Урусовы
скрытый текстПотомки бия Уруса б. Исмаила. Единственный серьезно преуспевший в описываемый период ногайский род - части Урусовых удалось войти в состав русской правящей элиты.
После убийства бия Большой Ногайской Орды Уруса б. Исмаила в 1590 году его сыновья вели упорную борьбу против своих дядьев, биев Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила и Дин-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила, убив в итоге обоих. В конце-концов в эту распрю напрямую вмешалась Москва, посадив бием младшего брата погибших - Иштерека б. Дин-Ахмеда. Возглавлявший «Урусовых детей» Джан-Арслан б. Урус в 1601 году попал в русский плен, в 1604-м был отпущен обратно в степь, однако в 1614 году был вновь арестован русскими властями и в апреле 1615-го умер в Казани. В России жили также сыновья Джан-Арслана - Урак / Петр, Зорбек / Александр и Тук / Иван и его племянники - Андан / Борис, Бий / Петр и Касай / Андрей.
Урак / Петр оказался в Москве еще при первом пленении отца, позднее был крещен, став князем Петром Еруслановичем Урусовым (впервые упоминается в июле 1604 года). Князя «не по ево воли» женили на вдове кн. А. И. Шуйского (урожденной Годуновой), обеспечив и обширными земельными владениями (по росписи 1604 года выставлял 47 человек = 4700 четей). На 1606/1607 год - первый в списке стольников. В том же году бежал из под Тулы в Крым или к ногаям. Позднее вернулся и, возглавляя отряд юртовских татар, с осени 1608 года служил Вору в Тушине, а потом в Калуге. В декабре 1610 года убил Вора в Калуге и снова бежал в Крым, где принимал активное участие в политической борьбе, в 1639 году казнен в Бахчисарае.
Зорбек / Александр оказался в Москве вместе с братом и в дальнейшем разделял его судьбу - крещен при Борисе, на 1606/1607 год - стольник, бежал с Петром из под Тулы, вернулся в Россию и служил Вору, снова бежал в Крым.
Иван / Тук попал в руки русских властей после освобождения Астрахани от воров (май 1614-го), позднее был крещен и вывезен в Москву, после 1616 года не упоминается.
Андан (Ондан) б. Хан б. Урус и его брат Бий также попали в руки русских властей в Астрахани после мая 1614-го и позднее были крещены, став стольниками князьями Борисом и Петром Кановичами Урусовыми. Оба участвовали в московском осадном сидении 1618 года. Борис умер в феврале 1618-го, Петр в 1628 году был взят за пристава за попытку сбежать в Крым, в 1629-м сослан в Вятку, где сидел в местной тюрьме.
Еще один племянник Джан-Арслана Касай б. Саты, также видимо попал в руки русских властей в Астрахани, вместе с дядей и двоюродными братьями, и также был крещен, став стольником князем Андреем Сатыевичем Урусовым. Участвовал в московском осадном сидении 1618 года, позднее упоминается как дворянин московский, умер в 1642/43 году. По жене, Марии Васильевне Тюменской, был в родстве с Шереметевыми. Имел сына Семена.
Семен Андреевич Урусов был женат на дочери боярина кн. Бориса Михайловича Лыкова Федосье (двоюродной сестре царя Михаила Федоровича) и благодаря этому браку сделал прекрасную карьеру - с 1637 года стольник, в 1641 - 1645 годах - кравчий, с марта 1655 года - боярин. Умер в 1657 году. Четверо его сыновей (Петр, Юрий, Никита и Федор) также стали боярами.
Петр Семенович (1636 - 1686), стольник с 1654 года, кравчий с 1658 года, боярин с 1676 года. Сыновья - Василий [стольник, умер в 1677-м] и Григорий.
Никита Семенович (1640 - 1691), стольник с 1654 года, боярин с 1679 года. Имел сыновей Ивана, Якова, Семена, Алексея и Федора. [От Алексея и Семена Никитичей пошли ветви последующих князей Урусовых].
Юрий Семенович, стольник с 1661 года, боярин с 1676 года, умер не ранее 1713-го.
Федор Семенович, стольник с 1661 года, с 1680 года боярин, умер в 1694-м. Был женат на Фекле Грущецкой, сестре первой супруги царя Федора Алексеевича.
Барангазыевы
скрытый текстСыновья бия Малой Ногайской Орды Баран-Гази б. Саид-Ахмеда б. Мухаммеда.
Каплан б. Баран-Гази выехал при Борисе Годунове и позднее крестился. В боярском списке 1606/07 года он князь Федор Барангазыев-мурзин сын Шидохметев. В Смуту он повсюду таскался с Петром Ураковым - был с ним в Тушине, Калуге и в Крыму. Позднее перебрался в Малые Ногаи, а от них - под Астрахань. В 1630/31 году Каплана / Федора взяли в плен астраханские служилые люди, он прошел обряд исправления веры, снова став князем Федором и даже успел жениться, но в 1633/34 году помер.
Зор б. Баран-Гази, младший брат Каплана, крестился в Астрахани в 1635/36 году, став князем Григорием. Позднее был написан по московскому списку, в 1640 году переведен в Москву и упоминается в боярских списках до 1649 года.
Исуповы
скрытый текстПроисхождение неизвестно (не путать с Юсуповыми и русскими дворянами Исуповыми).
В 1642/43 году в Москве известен некий Дементий Исупов.
В 1644 году в Астрахани пожелал креститься некий мурза Кантемир Сары Исупов.
Иштерековы
скрытый текстВнук бия Иштерека б. Дин-Ахмеда новокрещен князь Иван Магмет-мурзин сын Иштереков в 1634/35 или 1636/37 году перебрался в Москву из Астрахани и был записан стольником. В 1639 - 1640 годах в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, позднее возвращен в Моску, умер в 1643 году.
Тинмаметевы, Кейкуватовы, Егенеевы*, Байтерековы
скрытый текстПотомки сыновей бия Дин-Ахмеда - бия Дин-Мухаммеда (Тинмамета) и его младшего брата нурадина Большой Ногайской Орды Байтерека.
Когда начались выезды представителей этой семьи неизвестно, в русских документах они упоминаются под разными именами.
В 1625 году сына Дин-Мухаммеда Урака Тинмаметева русские власти обвинили в ссылках с Крымом и выслали с семьей из астраханских улусов в Кострому. Умер он около 1628 года. Перед смертью возможно крестился с именем Петр. Сын его Прокопий крестился в 1628 году, в боярских списках упоминается в 1652/53 - 1667/68 годах - как дворянин московский князь Прокопий Урак-мурзин сын Тинмаметев.
В 1644 году крещен еще один астраханский выходец, Кантемир-мурза Сары Исупов - в крещении князь Алексей Исупов Тинмаметев (на генеалогической схеме показан двоюродным племянником Прокопия Тинмаметева, внуком Исупа, брата Урака Тинмаметева).
В 1633/34 году в Астрахани крестился двоюродный брат Кантемира / Алексея Отманай (Атманай) Урус-мурзин сын Кейкуватов, внук кековата Джан-Мухаммеда (еще одного брата Урака Тинмаметева). В 1647 - 1656/57 годах упоминается как князь Петр Урус-мурзин сын Кейкуватов [т. е. здесь фамилию образовали от должности дедушки]. У него были сын Тихон (жилец на 1677/78 год) и внук Федор Тихонович (жилец на 1712 и 1713 годы).
В 1636 году в Астрахани крестился племянник Атманая / Петра, известный уже под христианским именем Иван. В 1640/41 году князь Иван Егенеев [здесь фамилию образовали уже от имени отца князя - Егинея / Едигея] перебрался в Москву, где писался уже дворянином московским князем Иваном Еней-мурзин сыном Кейкуватовым (!). У князя возможно был сын - костромской городовой дворянин кн. Петр Иванович Кейкуватов (Кокуватов).
В Россию выехали также потомки нурадина Байтерека б. Дин-Ахмеда - сыновья Гази, Али и Ак (с сыном Элем). На 1636/37 год все они значатся среди ярославских служилых мурз. Больше о них ничего не известно.
Сын указанного Али, Урак, в 1633 году крестился став князем Дмитрием Алеевым сыном Байтерековым.
В 1649 году крестились другой сын Али, Кантемир и его двоюродный брат, сын Гази, Шантемир, ставшие дворянами московскими князьями Григорием Алей-мурзиным сыном и Михаилом Казый-мурзиным сыном Байтерековыми соответственно. У Григория (умер в 1667 году) имелись сыновья Юрий (стряпчий, позднее стольник) и Яков (стольник на 1706 год). Сын последнего, Иван, при Петре был армейским обер-офицером.
* У автора в заголовке главки и оглавлении - Енеевы, в тексте и на схеме - Егенеевы.
Тинбаевы, Кинбаевы
скрытый текстПотомки нурадина Динбая (Тинбая) б. Исмаила.
В боярском списке 1606/07 года отмечен стольник князь Михаил Конай-мурзин сын Кинбаев. До крещения его вероятно звали Гази б. Канай б. Динбай б. Исмаил, т. е. он был внуком упомянутого нурадина. Этот же князь вероятно был героем упоминаемым «Новым летописцем» - отличившимся в «королевичев приход» и погибшим в 1619 году.
В 1629 году крестился некий Янмамет-мурза, вероятно другой внук Динбая - Ян (Джан) б. Абдулла б. Динбай, ставший князем Тимофеем Тинбаевым. Позднее он не упоминается, однако известен князь Тимофей Кинбаев, по предположению автора, это одно и тоже лицо.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Помимо этого известна еще пара Тинбаевых, степень родства которых с предыдущими неясна.
В 1669/70 году крестили присланного из Астрахани Алексея Шеим-мурзина сына Тинбаева (Тимбаева). На 1675 год - стольник.
В 1679/80 году отмечен некий Матвей Хан-Канбулатов Тинбаев-Мансуров.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Урмаметевы
скрытый текстПотомки бия Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда.
Первым представителем этого рода оказавшимся в России был вероятно сын Ураз-Мухаммеда Мустафа Уразмаметев, упоминающийся в 1618/19 году (больше о нем ничего не известно).
В 1623 году крестился внук Ураз-Мухаммеда Зорбек б. Арслан ставший стольником князем Василием Урмаметевым. Служил князь плохо, пил и морально разлагался, в 1628 году арестован за попытку бежать из России (возможно по ложному доносу уставших от его художеств дворовых людей), сослан в Чердынь (где сидел в тюрьме), в 1641/42 - 1643/44 - под началом в Кирилло-Белозерском монастыре, затем видимо прощен. В 1634 - 1648 годах в боярских списках писался уже дворянином московским. Умер в 1652/53 году. У него был сын Дмитрий (с 1641 года - стольник, упоминается до 1667 года).
Еще один внук Ураз-Мухаммеда, Токтамет (сын нурадина Кара Кель-Мухаммеда), в детстве был захвачен в плен калмыками, бежал от них в Уфу, здесь был похолоплен воеводой Иваном Чичериным и крещен с именем Яков. В 1628/29 году Токтамет / Яков подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства, был отобран у Чичерина и, после проведенного разбирательства, в 1630/31году сделался дворянином московским князем Яковом Кутмамет-мурзиным сыном Урмаметевым. Упоминается до 1640 года.
Третий внук Ураз-Мухаммеда дворнянин московский князь Куданат / Михаил Бий-мирзин сын (Шейдяков сын) Урмаметев упоминается в боярских списках в 1649/50 - 1667 годах. Он возможно был сыном Шейдяка (Саид-Ахмеда) Урмаметева, сидевшего в 1624 - 1637 годах в Астрахани на аманатском дворе (за временную откочевку в Крым).
Мамаевы
скрытый текстПотомки бия Малой Ногайской Орды Якшисаата б. Мамая б. Саид-Ахмеда б. Мусы.
Первым в России появился сын указанного Якшисаата. Его мусульманское имя и время выезда неизвестны (возможно выехал еще до Смуты). В 1618 - 1628 годах упоминается как дворянин московский князь Василий Якшатов (Якшисатов) Мамаев. В королевичев приход участвовал в московском осадном сидении, за что награжден переводом части ярославских поместий в вотчину.
Двоюродный брат Василия малолетний Султанбек / Иван б. Саин. Мамай до 1612 года был захвачен в плен астраханскими стрельцами и продан холмогорскому купцу Василию Исаеву (который его и крестил). В 1613 году Иван бежал из Астрахани в Москву (где ходил по приказам со своей историей, но официально челом не бил и ничего не добился), из столицы перебрался в Вологду (где кормился по монастырям), в 1619 году записался в стрельцы и лишь в 1633 году подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства. После разбирательства сделался дворянином московским князем Иваном Саиновым Мамаевым (в документах значился выезжим с 1633/34 года). Умер к 1659/60 году. Его сын Григорий (стольник в 1652 году) умер в 1660/61 году. В боярском списке 1712 года числится некий жилец Кирилл Иванович Мамаев, возможно еще один сын князя.
Токаевы (Тукеевы)
скрытый текстПроисхождение неизвестно.
В 1648 году юртовский мурза Кучук Токаев (Тукеев) крестился в Москве став князем Дмитрием. Иных сведений о нем нет.
Ураковы
скрытый текстПотомки Урака б. Алчагира б. Мусы, сына бия Ногайской Орды Алчагира и внука бия Ногайской Орды Мусы.
Известная генеалогия Ураковых вызывает большие сомнения. Известны две ветви рода - потомки основателя Малой Ногайской Орды (Казыева улуса) известного Газы (Казыя) б. Урака и его предполагаемого брата Рудака / Рудачека.
Правнук Газы б. Урака Сафарлей б. Али б. Караш (Хорошай) был взят в плен «за порогами» в 1659/60 году. Обменять на русских пленных мурзу не удалось и он сидел в тюрьме вплоть до крещения в 1670/71 году. После крещения стал дворянином московским князем Яковом Ураковым. В 1679 - 1691 годах - стольник, умер не позднее 1700 года. У него были сыновья Иван (жилец с 1702 года) и Петр.
У Газы б. Урака был будто бы брат по прозвищу Рудак /Рудачек (по цвету волос), попавший в русский плен в конце XVI века, живший в Уфе, крестившийся в 1590/91 году с именем Андрей Федорович (его сыновья использовали фамилию Рудаков) и поверстаный в некие «дворяне» (до 1619/20 года служил толмачом).
От этого Рудака / Андрея выводила свой род «уфимская» ветвь Ураковых. По мнению автора генеалогия этой ветви сфальсифицирована - видимо узнав о пожаловании в князья Сафарлея / Якова Уракова и вдохновившись историей Якова Урмаметева (тоже уфимца) Рудаковы решили и сами пролезть в князья и, в условиях неразберихи, связанной с массовой раздачей титулов новокрещеным ногаям, это им удалось.
У Рудака / Андрея Уракова имелось три, служивших по Уфе, сына - Андрей / Потеха (толмач), Антон и Иван.
У Андрея / Потехи были сыновья Василий и Андрей [так в тексте, на прилагаемой схеме Андрей не показан]. У Василия имелся сын Григорий, обзаведшийся обширным потомством (трое сыновей, шестеро внуков и четыре правнука), выше полковника, впрочем, не поднимавшимся. Известен также дворянин московский Дмитрий Васильевич Ураков - возможно еще один сын Василия.
У Андрея имелся сын Михаил, дослужившийся в 1720-е до поручика, сосланный в 1731 году за злоупотребления в Илимск и служивший там слободским приказчиком.
У Антона были сыновья Богдан, Василий, Семен и Михаил. У Богдана (убит во время башкирского восстания, не позднее 1664 года), были сын Федор (стольник, упоминается в 1691 - 1721 годах) и внук Степан Федорович (жилец на 1712 и 1713 годы).
Семен Антонович (вместе со своим сыном Иваном Семеновичем) в 1686 году подал челобитную о признании за этим родом княжеского достоинства «против стольника князя Якова Уракова». В 1689 году ее удовлетворили.
У Ивана Рудакова имелись сын и внук Василии и правнук Егор. У этого последнего имелось три сына - Михаил (дослужился до поручика), Афанасий (генерал-майор, в 1802 году подал прошение о признании за ним княжеского достоинства) и Василий (генерал-лейтенант).
Араслановы
скрытый текстДворянин московский Григорий Кузьмин Арасланов, из ярославских новокрещенов, отмечается в боярских книгах в 1658 - 1677 годах (без княжеского титула). Возможно ногайский выходец, однако известны и Араслановы из арских князей [татарские князья Вятской земли].
Ураевы
скрытый текстВ 1689 и 1691 годах в боярских книгах отмечен стольник Андрей Келмамаевич Ураев. Упоминается до 1721 года, в числе стольников новокрещеных с 1680 года. Предположительно ногайский выходец.
Материальное обеспечение
скрытый текст
Содержание ногайских мурз и князей складывалось из набора отдельных элементов, подбиравшихся индивидуально в каждом конкретном случае. При назначении содержания учитывался целый ряд факторов - политические соображения, статусное положение конкретного рода и лица, наличие семьи и слуг,
имевшиеся прецеденты, личные служебные заслуги и проч.
Поместный и денежный оклады
Поместный и денежный оклады ногайских выходцев документально фиксируются с конца XVI века, хотя возможно они в какой-то форме существовали и ранее. Размер оклада определялся «честностью» конкретного персонажа. Так, бОльшие оклады назначались детям и внукам биев, нурадинов и кековатов, отцы получали больше сыновей, старшие братья больше младших и т. п. Некоторые лица получали высокие оклады по политическим соображениям или усилиями высокопоставленной русской родни. Повышение окладов достигалось службой, до 1630-х годов существенно повысить их мог и переход в православие.
Максимальный размер окладов у ногаев доходил до 1300 четей и 200 рублей (у Чингисидов до 2000 четей и 200-250 рублей), некоторым исключением были лишь Юсуповы и Урусовы. На протяжении семнадцатого столетия, параллельно с падением значения ногайских выходцев, падал и размер их окладов, сокращаясь от поколения к поколению. Некоторым исключением и здесь были князья Юсуповы и Урусовы.
Денежный оклад в первой половине XVII веке обычно платился в половинном размере. Для получения второй половины требовалось прилагать отдельные усилия - подавать челобитные с объяснением зачем она понадобилась получателю (крещение, пожар, дворовое строение, свадьба, похороны и проч.). Некоторые ушлые ногаи, впрочем, исхитрялись получать полный оклад почти постояннно.
Автор приводит сведения об окладах отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году дали оклад в 1000 четей и 100 рублей.
Айдар Кутумов на 1584 год имел оклад в 70 рублей, Барай б. Али на 1619 год - 200 рублей (поместного не имел), позднее - 120 рублей. Ибердей / Тихон Бараев после крещения в 1629 году получил оклад в 1000 четей и 100 рублей. Его брат Сафаралей / Петр после крещения в 1646/47 году получил такой же оклад - «против брата». Каплан / Петр Касбулатов после крещения в 1688 году получил оклад в 400 четей и 25 рублей.
Эль Юсупов на 1584 год имел оклад в 250 рублей, его сын Сююш на 1613 год - 300 рублей (с придачей «за подмосковные службы», поместного оклада не имел), позднее - 250 руб.
Корел / Кореп Чин-мурзин сын в 1615/16 году был поверстан окладом в 500 четей и 40 рублей (к 1631 году поместный оклад вырос до 550 четей). Его сын Бий / Иван после крещения в 1639/40 году получил оклад в 1200 четей и 150 рублей.
Василию Никитичу в 1646 году дали новичный оклад в 500 четей и 30 рублей (уже в 1646/47 году видимо повышенный сразу до 800 четй и 47 руб., за черкасские службы и Конотопский бой 1658 - 1659 гг. князю прибавили 100 четей и 10 руб.). Брату Василия, Федору Никитичу, в 1646 году назначили новичный оклад в 500 четей и 25 рублей.
Никита Сююшевич на 1609/10 год имел оклад в 40 руб., на 1628/29 год его поместный оклад (с прибавкой за московское осадное сидение 1618 года) составлял 800 четей. Сын его, Василий Никитич, на 1658 - 1659 год имел оклад в 600 четей и 30 рублей (с прибавкой в 100 четей и 10 руб. за черкасские службы и Конотопский бой).
Алей и Каплан Тугановы дети Шейдяковы имели видимо оклад по 1050 четей и 120 рублей. Канай Еналеев - 850 четей и 80 рублей. Сафарлей Исламов на 1606/07 - 800 четей и 80 рублей.
Салтанай / Иван Меньшой Капланов на 1631 год год имел оклад в 600 четей и 40 рублей. Девлет Еналеев на 1631 год - 500 четей и 40 рублей.
Зорбек / Федор Шейдяков после крещения в 1621/22 году получил оклад в 700 четей и 70 рублей.
Келмамет / Артемий Теникеев имел оклад в 800 четей и 90 рублей, после крещения в 1621/22 году видимо повышенный до 1100 четей и 150 рублей.
Малоногайский Бек / Леонтий Шейдяков после крещения в 1619/20 году получил оклад в 1100 четей и 130 рублей. Брат его Дмитрий имел оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков после выезда в 1648/49-м был верстан окладом в 550 четей и 35 рублей, за литовскую службу 1654 - 1656 годов ему добавили 150 четей и 12 рублей (по другой версии, за службы 1658 - 1660 гг. прибавили 250 четей и 19 рублей, а за службы 1663 - 1665 гг. - еще 130 четей и 9 рублей, доведя оклад до 930 четей и 63 рублей).
Бегай Смайлев в 1613/14 году имел (с прибавками) оклад в 1200 четей и 100, 130 или 200 рублей. Его сын Дьян в том же году имел оклад в 900 четей и 80 рублей, а другой сын Сары / Лев на 1621/22 год - 600 четей и 40 рублей. После крещения в 1625/26 году его оклад повысили до 1000 четей и 100 рублей.
Андрей Сатыевич Урусов на 1615/16 год имел поместный оклад в 1500 четей, денежный (на 1618/19 год) - 200 рублей. На 1628/29 год - уже в 1000 четей и 200 рублей.
Семен Андреевич Урусов на 1637 год имел оклад в 1300 четей и 170 рублей (к 1655/56 году - уже 500 рублей).
Каплан / Федор Барангазыев на 1632/33 год имел оклад в 1000 четей и 100 рублей, а его младший брат Зор / Григорий на 1640/41 год - в 800 четей и 80 рублей.
Кантемир / Алексей Тинмаметев и его двоюродный брат Атманай / Петр Кейкуватов имели оклады в 600 четей и 60 рублей. Племянник Атманая / Петра Иван Егенеев в 1640/41 году - в 700 четей и 70 рублей.
Дмитрий Байтереков после крещения в 1632/33 году получил оклад в 800 четей и 80 рублей. Его брат Кантемир / Григорий и двоюродный брат Газы / Михаил после крещения в 1649 году получили по 550 четей и 35 рублей (за службы 1659 - 1661 годов обоим добавлено по 120 четей и 10 рублей).
Тимофей Тинбаев после крещения в 1628/29 году получил оклад в 600 четей и 60 рублей.
Василию Урмаметеву после крещения в 1622/23 году дали оклад в 1100 четей и 150 рублей. Яков Урмаметев в 1630 получил клад в 900 четей и 100 рублей. Михаил Шейдяков Урмаметев на 1649 год имел оклад в 550 четей и 35 рублей.
Ивану Саинову Мамаеву в 1633/34 году дали оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрию Токаеву после крещения в 1649 году дали оклад в 550 четей и 35 рублей.
Федор Богданов Ураков (из уфимской ветви) в 1685 году получил оклад в 550 четей и 25 рублей.
Реальное землевладение
Историю землевладения ногайских выходцев можно проследить лишь начиная с 1560-х годов.
С осени-зимы 1569 года они компактно испомещались в Романовском уезде, где Иван Грозный вероятно планировал создать некий ногайский вариант Касимовского царства. Затея эта провалилась и в дальнейшем ногаев селили и в других уездах (прежде всего - в Ярославском). Впрочем и позднее правительство видимо стремилось испомещать мурз / князей более менее компактно. Поместья им давались из дворцовых земель и по весьма щедрым нормам. Поместья бездетных выходцев передавались обычно новым ногайским выходцам. У крещеных ногаев к поместьям добавлялись обычно приданые вотчины их русских жен и за счет этого (а также обычной купли-продажи-мены вотчин) их землевладение постепенно «расползалось» по стране.
После Смуты нормы испомещения ногайских выходцев понижаются, обширные владения прежних выходцев постепенно раздробляются между наследниками и к концу XVII века землевладение ногайских выходцев уже практически ничем не отличается от общерусского.
В 1680 году оставшимся ногайским мурзам-мусульманам было предписано креститься. У отказывавшихся отписывали поместья, переводя в кормовые иноземцы.
В Романовском уезде ногайским мурзам в лучшие (для них) годы принадлежало возможно до 30 000 четей земли. По писцовой книге 1593 - 1594 годов среди местных помещиков значились Эль Юсупов (6186 четей, видимо вместе с землями его испомещенных казаков - 125 человек), Алей и Айдар Кутумовы (2940 и 2622 чети, тоже видимо с землями казаков), Афанасий Шейдяков (1635,5 чети).
Среди бывших помещиков уезда указаны Ибрагим б. Юсуп (2028,5 чети), Ак-Мухаммед б. Юнус (1558,5 чети), Сети-Мухаммед б. Ибрагим б. Юсуп (617 четей - возможно неполные данные), Бабаджан Уразлыев (1432,5 чети), Темир Уразлыев (1348 четей), Никита / Султан-Гази Кошумов (1613,5 чети), Мустафа Шейдяков (1060,5 чети) и др.
На 1627 год за Сююш-мурзой Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Барай-мурзой Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара).
Помимо Ростовского и Ярославского уездов известны земельные владения ногайских мурз в Дорогобужском (Бегай-мурза Смайлев), Переяславском (тот же Барай Кутумов - 1170 четей на 1627 год), Ростовском и Суздальском (тот же Бегай-мурза) уездах.
Владения крещеных ногайских выходцев отмечены в 45 уездах. Так, упомянутый Афанасий Шейдяков, помимо 1635,5 четей в Романовском уезде, имел поместья в Звенигородском (633 чети) и Зубцовском уездах и приданую вотчину жены в Новоторжском уезде.
За Иваном Келмамаевым Шейдяковым числились обширные подмосковные поместья - 1681 четь и 1253 копны сена (75 крестьянских и бобыльских дворов) в Сурожском стане и 406 четей и 240 копен (9 дворов) в Горетове.
За Иваном Канбаровым в Коломенском уезде числились 601 четь и 1775 копен сена.
Петр Урусов, вместе с данной ему в жены вдовой одного из братьев Шуйских, владел вероятно 4800 четями земли.
Михаил / Гази Канаев Тинбаев на 1617 год владел в Шацком уезде поместьем в 1098 четей (в пересчете на добрую землю - 881) и 450 копен (правда сильно запущенным / разоренным - 1057 четей в перелоге или заросло лесом). Позднее оно как выморочное перешло к Василию Урмаметеву, а в 1628 году было отписано у последнего за измену.
За Андреем Сатаевичем Урусовым в том же Шацком уезде на 1617 год числилось огромное поместье в 2226 четей (в пересчете на добрую землю - 1382), 2050 копен сена и 83 двора (тоже сильно запущенное - в перелоге и лесом поросло - 1719 четей).
Леонтий Салтанашевич Шейдяков после крещения в 1620 году получил поместья в Нижегородском уезде (669 четей в одном поле, 110 крестьян и бобылей).
В середине и второй половине XVII века значительные владения числятся только за Урусовыми и Юсуповыми. Так, на 1646 год Василий Никитич Юсупов владел в Новоторжском уезде вотчиной с 1048 дворами и 3755 крестьянами.
Никита Семенович Урусов владел вотчинами в Ростовском (не менее 142 дворов и 467 крестьян), Переяславском (92 двора, 226 крестьян), Пешехонском (50 дворов, 172 крестьянина) уездах, вотчиной и поместьем в Рязанском уезде, небольшой подмосковной вотчиной? (7 дворов, 24 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Веневском уезде. Его брат Петр Семенович - вотчиной в Переяславском уезде (133 двора, 446 крестьян), подмосковным поместьем / вотчиной (22 двора, 93 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Соловском уезде и т. д
Поденный корм и питье
Корм и питье давались неиспомещенным мурзам и князьям. После испомещения их выдача обычно прекращалась - за исключением случаев приобретения совсем небольших земельных владений (в таких случаях корм мог сохраняться, но размер его пересчитывался). Корм давался также лицам лишенным земельных владений, пленным и заключенным.
Размер корма определялся теми же соображениями, что и размер окладов - политическая целесообразность, статус конкретного лица и рода, прецеденты и проч. Как отмечает автор, в большинстве случаев сложно понять на какое число людей давался корм, что затрудняет и ранжирование получателей и определение реального размера дач на человека.
Как и в случае с окладами этот вид жалованья документально фиксируется с конца XVI века, однако вероятно существовал и ранее. До середины XVII века размеры дач возрастали, позднее наметилась тенденция к их уменьшению. Тем не менее, на протяжении всего семнадцатого столетия на поденном крме можно было существовать вполне комфортно и некоторые семьи ногайских выходцев предпочитали кормовое содержание испомещению (за что и поплатились уже в петровские времена).
При вступлении мурзы / князя в брак к его корму обычно добавляли 2-3 алтына - на корм жене. Вдова могла рассчитывать на половину корма супруга. Наибольший размер корма в XVII веке - 3 рубля в день. Столько (по не совсем понятным причинам) давали в 1642/43 году Льву Михайловичу Шейдякову (потомку мурзы Теникея) с женой и людьми.
Мурзам и князьям попавшим в опалу давали видимо лишь половину назначенного им корма. Так, отправленный в Кострому Урак Тинмаметев получал в 1626 году на себя семью и своих людей по 35 копеек в день (5 коп. - самому мурзе, трем его женам и падчерице - по 4, людям (7 человек) - по 2).
Содержащимся в тюрьме / пленным давали еще меньше, так плененному в 1617 году Беку Салтанашевичу Шейдякову полагалось по копейке на день.
Небольшим был и корм дававшийся новокрещенам бывшим в монастыре «под началом», так, в 1621/22 году бывшей жене Артемия Шейдякова Феодоре в Новодевичьем монастыре полагалось 6 копеек в день, ее людям - по 1,5 копейки.
Автор приводит сведения о корме отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году назначили корм в 50 копеек + 4 чарки вина и по ведру меда и пива в день.
У Касбулата Кутумова за отказ креститься в 1679/80 году отписали поместья, переведя кормовым иноземцем в Вологду и назначив корм в 30 копеек. Его сыновьям давали от 15 до 30 копеек в день.
Чину Юсупову в феврале 1596 года назначили месячный корм в 35 рублей, однако непонятно давался ли он лишь самому мурзе с семьей или же и всем его людям (одних мужчин 37 человек).
Его сын Корел / Кореп получал 10 рублей в месяц (33 коп. в день) плюс деньги в счет питья (4 чарки вина и по 2 кружки меда и пива в день). В 1616/17 году ему полагалось 30 коп. в день (15 - самому, 6 - жившей с ним матери и 9 - трем его людям) + питье.
Сын Корепа / Корела Иван Юсупов после крещения в 1639/40 году получал 60 или 84 копейки в день + питье (по 3 чарки вина, по кружке романеи и меда вишневого, 1/3 ведра меда паточного и 2/3 ведра меда цеженного из Дворца и по 4 чарки вина и по 1 1/3 ведра меда и и пива из Новой чети). Его людям давали по 3 коп. и чарке вина в день и (на всех) по 1 1/3 ведра пива. После опалы 1665/66 года, сопровождавшейся отпиской земель на государя, Иван жил на 30 руб. кормовых в месяц.
Федор / Зорбек Шейдяков в 1620/21 году до крещения получал 10 копеек в день (его люди - еще по три), после крещения - уже 25 или 30 копеек, 4 чарки вина, кружку или полведра меда и 2 кружки пива в день.
Девлет Шейдяков, будучи ярославским кормовым татарином, в 1626 году получал по 25 копеек в день. Его жене давали по 24 копейки (видимо по причине высокого статуса - она была дочерью сибирского хана Кучума).
Канай / Алексей Еналеев Шейдяков в 1647 году получал 25 копеек в день, а его сыновья новокрещены Василий и Никифор - по шесть.
Упомянутому Льву Шейдякову с семьей и людьми в 1642/43 году давали аж по 3 рубля в день.
Бегаю Смайлеву давали 21 копейку в день. Его сын Сары / Лев до крещения в 1625/26 году получал по 15 коп., после - 30 коп. [Так у автора, выше этот же персонаж упоминается как испомещенный еще до крещения, соответственно корм ему вроде бы не полагался].
Тук / Иван, Андрей Сатыев и Петр Канович Урусовы с сентября 1615 года получали по 15 копеек в день, а шестеро их людей - по три. С мая 1616 года новокрещеным князьям стали давать по 60 копеек, 4 чарки вина, ведру меда и пива в день, а их людям (4 человека) - по 3 копейки в день (+ 2 ведра пива на всех). Помимо этого каждому князю давался корм для трех лошадей и по возу дров в неделю и в общей сложности они получали 25,62 руб. в месяц. В июле и августе на корм добавили по 5 рублей и месячный размер его достиг 35 руб, а годовой 427,44 рублей.
Григорию Барангазыеву в 1640/41 году назначили корм в 25 копеек, однако давали только половину - остальное засчитывалось как доход от земельных владений его супруги Ульяны.
Федору Барангазыеву [видимо с 1630/31 года] давали 60 копеек, 4 чарки вина и полведра или ведро меда и ведро пива.
Ивану Егенееву Кейкуватову в 1640/41 году дали корм в 20 или 21 копейку, позднее повысив до 24 - 25.
Алексею Исупов Тинмаметеву давали 20 копеек, 4 чарки вина и 3 кружки меда в день [1644?].
Прокопию Уракову Тинмаметеву в 1665/66 - 19 копеек.
Дмитрий Алеев Байтереков после крещения в 1632/33 году получал 50 копеек, 3 чарки вина, 1/2 ведра меда 1/2 или ведро пива.
Тимофею Кинбаеву / Тинбаеву до крещения в 1628/29 году давали 6 копеек, после - 15 копеек, 4 чарки вина и по кружке меда и пива, позднее корм увеличили до 35 копеек.
Василию / Зорбеку Урмаметеву до крещения в 1623 году давали 10 копеек, после - 25 копеек, 4 чарки вина и по 1/2 ведра меда и пива. После женитьбы корм подняли до 50 копеек.
Токтамету / Якову Урмаметеву давали (видимо с 1630/31 года) 36 копеек, 4 чарки вина, кружку меда и 2 кружки пива.
Ивану Саинову Мамаеву давали [с 1633/34?] 30 копеек, 4 чарки вина кружку меда и 2 кружки пива, по другим данным - 25 копеек, вычитая ежегодно по 17,6 рублей [т. е примерно 20%] за земельное владение жены.
***
Помимо собственно корма неиспомещенным выходцам полагались также дачи на конский корм, дрова и свечи. Их часто засчитывали в общий размер поденного корма, однако иногда расписывали отдельно.
В известных случаях корм давался на 1, 2, 3 лошади (Льву Шейдякову в 1642/43 году давали даже на 10), обычный его размер в XVII веке составлял видимо 72 копейки в месяц и возможно давали его только полгода (с ноября по апрель). Дров обычно давали один воз на неделю (~ 20 копеек?), на свечи - по 1-2 копейки на день.
Разовые дачи
Ногайские выходцы получали также разнообразные разовые дачи - на приезд, за крещение, на дворовое строение, свадьбу, похороны и т. д.
Дачи на приезд существовали в XVI веке, в семнадцатом столетии их видимо давать перестали, однако когда именно неизвестно. Дачи давались добровольно выезжавшим на постоянное жительство, прибывавшим для участия в военных кампаниях или по другим делам и (как минимум в первой половине XVII века) романовским мурзам при отправлении на полковую службу или при возвращении с нее. Пленным и прочим насильно вывезенным она не полагалась.
О размерах дач можно судить по известным прецедентам.
Выехавшему в 1596 году Чину Юсупову, сыну Эль-мурзы дали шубу бархатную на соболях (50 рублей), кафтан камчат золотной (15 рублей), опашень зуфной (5 рублей), кубок серебряный весом в 4 гривенки и видимо еще что-то (запись испорчена). Что-то дали также бывшим с ним сыновьям, детям, женщинам и слугам. Взрослых мужчин (37 человек) поделили на три статьи, дав им по два отреза ткани (шелковой и шерстяной) и от 1 до 3 рублей деньгами.
Прибывшим в 1631/32 году для участия в польской войне Адилю Урмаметову (с 23 всадниками) и Яну Иштерекову (с 14 всадниками) дали по шубе камчатой на соболях (43,87 и 48,2 руб.), а первому еще и шапку лисью (6 рублей). Адиль, в свою очередь, ударил государю челом двумя конями - серым и саврасым.
Дача за крещение фактически состояла из двух или даже трех частей. Первая часть («за подначальство») состояла из креста и комплекта одежды и давалась посланным «под начало» в монастырь новокрещенам. Вторая давалась новокрещенам бывшим на приеме у государя («у руки») и включала разнообразные ценности. Царская аудиенция предполагала и последующее приглашение к царскому столу, вместо которого могли дать еще одну дачу - «в стола место» (см. ниже).
Дополнительной «наградой» за крещение видимо служил воспреемник, подбиравшийся из числа представителей верхушки двора или приказного аппарата. Так, крестным Василия Урмаметева в 1623 году стал окольничий С. В. Головин, Льва Бигеева Смайлева в 1625/26-м - окольничий кн. Д. И. Долгоруков, Тихона Бараева Кутумова в 1629 году - окольничий кн. Г. К. Волконский, Якова Урмаметева в 1628/29 году - думный дьяк Федор Лихачев и т. д. В худшем положении, соответственно, оказывались крестившиеся в Астрахани - их воспреемниками были представители тамошней верхушки.
Дача крещеному при Борисе Зорбеку / Александру Араслановичу Урусову (брату пресловутого Петра Урусова) долгое время была видимо верхним пределом подобных дач (столько же дали лишь один раз - Леонтию Шейдякову в 1628 году). Зорбек / Александр получил золоченый серебряный кубок (6 с лишним гривенок, 18,03 рубля), серебряные братину, ковш и стопку (всего почти на 15 рублей), камку бурскую на 17 рублей, 40 аршин камки адамашки четырех разных цветов, 40 аршин атласа четырех цветов, постав синего лундыша (20 рублей), 40 соболей (21 рубль), 2 опашня (один в 30 рублей), кафтан (20 рублей), бархата на 20 рублей и 100 рублей деньгами.
В 1639/40 году Ивану Кореповичу Юсупову дали еще больше - в общей сложности на 905 с лишним рублей. Кроме традиционных тканей, серебра, разнообразной одежды (включая атласную соболью шубу стоимостью почти в 84 рубля и два пристяжных воротника-ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом в 40 и 150 рублей) дача включала аргамака с конской упряжью (соответственно 60 и 91,54 рубля) и 150 рублей деньгами.
Прочие дачи были много скромнее - Сары / Льву Бигееву Смайлеву в 1625/26 году дали «за подначальство» серебряный крест и одежду (всего на 35 рублей), а «как был у государя» - еще на 90 рублей вещей и денег (серебряный кубок, ткани, 40 соболей и 20 рублей деньгами).
Федор / Зорбек Еналеев Шейдяков в 1621/22 году получил платья на 35 рублей, а «как был у государя» - соболей на 30 рублей и 30 рублей деньгами.
Крестившемуся в 1671/72 году белгородскому мурзе Сафарлею / Якову Туганову сыну Уракову дали всего 25 руб. на платье и соболей на 25 рублей. И т. д.
Дачи на крещение получали и женщины. Им давали одежду и деньги, к руке они видимо не допускались и дополнительной дачи за это не получали.
Дача «в стола место» полагалась всем побывавшим «у руки» (по случаю приезда, крещения, отбытия в полки и проч.) и не приглашенным позднее к царскому столу.
В 1637/38 году Сююшу Юсупову, посланному на полковую службу в Туле, дали из Дворца калач крупчатый в 1,5 лопатки; 1,5 кружки вина двойного, по кружке романеи и меда обарного, по половине кружки меда паточного и цеженного и ведро пива; а из Большого Прихода - гуся, утку, зайца, тетерева, барана, 4 курицы и 36 копеек деньгами (на мелкое).
В 1640/41 году посланным в полки ярославским поместным и кормовым мурзам Канаю и Девлету Еналеевым и Салтанаю, Хану и Бию Каплановым Шейдяковым дали по кружке двойного вина и романеи, по 1/2 ведра меда паточного и цеженного, ведру пива, гусю, утке, барану, по 2 курице и по 20 копеек.
На дворовое строение (как новое, так и послепожарное), крестины детей, похороны обычно давали половину годового денежного содержания, хотя имелись и исключения, так, в 1640/41 году Ивану Егенееву и Григорию Барангазыеву выдали на дворовое строение 70 и 80 рублей соответственно - «против их оклада».
Дачи на свадьбу давались как натурой, так и деньгами (последние считались видимо менее престижными), размер их зависел от статуса получателя. Так, Андрею Сатыевичу Урусову в 1617/18 году дали из Большого Дворца по 20 ведер пресного и паточного меда, 4 ведра романеи, 2 ведра алкану, по 6 ведер меду пресного [так в тексте] и меду вишневого, 12 ведер вина горячего и 20 четей солоду яичного. Дача Ивану Араслановичу Урусову была вдвое меньше.
Деньгами давали обычно 1/2 оклада, иногда треть оклада, иногда против оклада. Дачи на свадьбу могли получать и женщины.
Дачи на платье известны только для женщин (хотя у Чингисидов их получали и мужчины). В известных случаях давали по 10, 15 и 20 рублей (видимо ежегодно).
Службы и местничество
скрытый текст[Некрещеные мурзы несли в основном военную службу во главе / в рядах татарских формирований, гоударственных назначений не получая. Некоторым исключением был видимо Канбар-мурза / Канбар б. Момола в начале XVI века бывший в паре походов на литву воеводой передового полка (см. выше)].
Некоторые крещеные мурзы / князья во второй половине XVI века получали высокие назначения - полковыми и городовыми воеводами, наместникам и проч.
Иван / Ураз-Али Махметевич / Ахметевич Канбаров в 1560 - 1563 годах назначался первым воеводой сторожевого и передового полков на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1567 годах - второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву, в 1568 - 1569 годах первый воевода полка левой руки «на берегу». В 1570 году отправлен послом в Польшу (умер в дороге).
Иван Мовкошевич Тевекелев* в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года первый воевода передового полка в «немецком походе».
Петр Тутаевич Шейдяков в 1571 - 1572 годах первый воевода сторожевого и передового полков в государевых походах «на берегу» и против «свейских немцев». В зимнем государевом походе на Пайду 1572/73 года - второй воевода большого полка, в 1572/73 году псковский наместник. В государевом походе в Ливонию 1577 года - первый воевода полка правой руки.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1576/77 годах наместник и воевода в Юрьеве, оставаясь юрьевским наместником участвовал как первый воевода передового и большого полков в различных ливонских походах.
Позднее высоких полковых назначений ногайские выходцы почти не получали. Единственным исключением (если не считать Урусовых) был Михаил Канаевич Кинбаев (Тинбаев), в 1616 году посланный с полком воевать литву.
Отдельные ногайские выходцы в XVII веке назначались городовыми воеводами.
Лев Бигеевич Смайлев в 1633 году был воеводой в Ярославле.
Андрей Сатыевич Урусов в 1637 - 1638 годах был воеводой в Нижнем Новгороде.
Иван Корепович Юсупов в 1653 году был белозерским воеводой.
Михаил Федорович Шейдяков в 1685 году числился воеводой Козлова (фактически возглавлял масштабную военно-географическую экспедицию производившую изыскания для строительства новой засечной черты). В 1686 году - воевода в Соликамске.
Андрей Никитич Урусов - в 1697 году воевода в Вятке.
Отдельно следует выделить Семена Андреевича Урусова и его сыновей, получавших соответствующие назначения уже как часть русского правящего слоя.
Сам Семен Андреевич Урусов в 1641 - 1645 годах был кравчим, в 1645 - 1647 годах - воеводой в Новгороде, в 1655 году - боярин и воевода в Вильне.
Петр Семенович Урусов - кравчий с 1658 года, в 1670 году полковой воевода в походе против Разина, боярин с 1676 года.
Никита Семенович Урусов - воевода в Новгороде в 1677 году, воевода в Киеве в 1678 - 1679 годах, боярин с 1679 года, в 1681 - 1682 годах двинский воевода.
Юрий Семенович Урусов - боярин с 1676 года, в 1679 году воевода в Смоленске, в 1683 году возможно в Казани, судья Московского судного приказа в 1683 - 1685 и 1697 - 1699 годах.
Федор Семенович Урусов - с 1680 года боярин, в 1683 - 1684 годах воевода в Новгороде. Судья Пушкарского (1682, 1689 - 1693), Иноземного (1689 - 1694), Рейтарского (1689 - 1694) приказов.
Известно всего три случая местничества ногайских выходцев.
В 1564/65 году на Ивана Махметевича Канбарова, назначенного третьим воеводой большого полка бил челом 4-й воевода - князь Петр Иванович Татев (не взял списков, [ему видимо отказали])
Осенью 1567 года на того же Ивана Канбарова, назначенного уже вторым воеводой большого полка бил челом Андрей Иванович Шеин - второй в правой руке (тоже списков не взял, [исход дела неизвестен, сам поход не состоялся]).
В марте 1641 года на именинах царицы Евдокии Лукьяновны стольник кн. Иван Иванович Дашков бил челом на кравчего кн. Семена Андреевича Урусова - и был сурово наказан (бит кнутом и на неделю посажен в тюрьму).
Как отмечает автор, иски к Канбарову были видимо пробными шарами, для определения общего статуса ногайских выходцев. С Петром и Афанасием Шейдяковыми местничать не решались - их высокий статус был видимо очевиден. В XVII веке большинство ногайских выходцев уже не занимало позиций пригодных для местнических споров, а попытки проверять на «честность» возвысившуюся ветвь Урусовых были жестоко подавлены в зародыше.
* Сам автор здесь именует его Иваном Тевекелевичем Канбаровым. Одни и те же персонажи у него вообще в разных местах текста часто именуются по разному, что очень, очень раздражает.
Частная жизнь, религия и прочее
скрытый текст
Процедура выезда ногайского мурзы в XVI веке выстраивалась по примеру посольских церемоний - на подъезде его встречало специально делегированное лицо, затем с оответствующими церемониями, его доставляли в столицу, проводили прием у государя (причем последний видимо еще и корошевался с мурзой), затем обед и проч. Со временем процедуру максимально упростили (никакого корошевания, вместо обеда дача в стола место и т. д.).
О религиозной жизни мурз-мусульман в России мы почти ничего не знаем. Известно, что здесь жили мусульманские «попы», именовавшиеся в русских документах абызами (термин мулла употреблялся редко и почти исключительно в дипломатических документах). В Москве и, возможно, в других местах имелись вероятно и мечети / молельные дома.
Со временем ногайские мурзы стали все больше переходить в православие. На рубеже 1550 - 1560 годов крестились жившие в России Мансуры (неизвестно добровольно или нет), позднее занимавшие видное положение.
Вторая волна крещений случилась после бегства в 1570 году Ибрагима Юсупова со товарищи в Литву - крестилась часть Шейдяковых, Юсуповых и Кошумовых. Оставшиеся мусульманами Юсуповы и Кутумовы, впрочем, не понесли видимых статусных потерь, а среди новокрещенов этой волны лишь двое (Петр и Афанасий Шейдяковы) сделали заметную карьеру.
Следующая волна крещений случилась при Борисе - пресловутый Петр Урусов и проч.
После Смуты крещение стало обязательным условием выезда и мусульманами оставались лишь мурзы старого выезда и их потомки. Часть из них, впрочем, тоже крестилась - как под давлением властей, так и добровольно. В последнем случае крещению нередко способствовали конфликты с мусульманскими родственниками (Тихон Бараевич Кутумов, Федор Еналеевич Шейдяков).
На рубеже 1670 - 1680 годов оставшимся мурзам-мусульманам было предписано креститься под угрозой отписки поместий и большинство из них перешли в православие. Мусульманами осталась только часть Кутумовых, пошедшая ради этого на понижение своего статуса и ухудшение материального положения.
В целом, как видно, большинство ногайских выходцев крестилось вынужденно и ожидать от них христианского благочестия не приходилось. Бежавшие из России ногаи тут же забывали о крещении, судя по сохранившимся в архивах жалобам отнюдь не все оставшиеся вели христианский образ жизни, почти неизвестны монастырские вклады ногайских новокрещенов и т. д. Так, личными вкладами в монастыри отметились лишь Афанасий Шейдяков, Иван Корепович Юсупов, Иван Шейдяков и Дмитрий / Надыр Ханович Шейдяков. Леонтий / Бек Султанашевич Шейдяков в 1627 году возвел по обету церковь в своем нижегородском поместье.
Браки крещеных мурз из статусных семей (Шейдяковы, Юсуповы, Урусовы и проч.) устраивались видимо русскими властями и в жены им подбирали представительниц статусных же русских семей. Некрещенным мурзам из тех же родов, также видимо не без участия властей, устраивались браки со статусными мусульманками - представительницами Чингисидов и проч.
В XVII веке статус русских жен ногаев формально понизился - это были в основном дочери стольников и дворян московских из не самых громких фамилий. Однако, как отмечает автор, фактически это могло быть и не так, поскольку об их родственных связях по женской линии почти ничего не известно.
Менее «честные» ногайские выходцы, как мусульмане, так и крестившиеся, предпочитали в целом заключать браки с представительницами таких же семей других ногайских выходцев.
Как отмечает автор, никакой общей родовой солидарности Эдигеевичи в целом не демонстрировали, разделяясь на отдельные сообщества, друг к другу в общем равнодушные.
О частной жизни, быте и т. п. ногайских выходцев нам почти ничего не известно. Быт и домашняя обстановка крещеных выходцев видимо мало отличались от быта и обстановки русских служилых людей.
Крещеных Эдигеевичей хоронили видимо поблизости от места проживания / смерти или в некрополях родственников их русских жен. О захоронениях оставшихся мусульманами сведений почти нет - в Романове подобный некрополь неизвестен, неизвестны и захоронения Эдигеевичей в Касимове. В Москве их могли хоронить на татарском кладбище за Калужскими воротами. Тело умершего в 1561 году в Москве Юнуса б. Юсуфа отправили за казенный счет в Сарайчик, традиционное место погребения ордынских ханов и ногайских биев, однако других таких случаев не выявлено.
Ногайские вооруженные формирования
скрытый текст
Во второй половине XVI века ногайские отряды (в качестве наемников) регулярно участвовали в русских военных кампаниях. Численность их обычно была невелика. Так, в Полоцком походе 1563 года участвовали ногайский мурза? Бекчюра «с товарыщи 60 человек» (в ертауле) и мурза Тохтар (Тохтар б. Ураз-Али?) с 15 другими мурзами и 244 казаками (среди которых преобладали не ногаи, а некие «крымские выходцы» - возможно ногаи пришедшие из Крыма) в передовом полку. Наиболее значительный ногайский отряд явился на русскую службу в 1564 году - 20 мурз и голов и 1 653 казака.
Ногайские наемники получали корм для лошадей, относительно корма для них самих четких указаний в источниках не имеется. Основной наградой для ногаев был видимо захваченный в походе полон.
В XVII веке к военной службе регулярно привлекались ногаи жившие под Астраханью - юртовские татары (до 2 000 чел. максимум) и едисаны (максимум 900 чел.), с мурзами и табунными головами.
Среди ногаев живших непосредственно в России наиболее многочисленную группу составляли романовские. С. Немоевский в своих записках сообщает, со слов Эля Юсупова, что в 1560-х годах в Романовском уезде имелось до 700 ногайских казаков. Однако автор считает эту цифру завышенной - за самим Элем Юсуповым и Айдаром и Алеем Кутумовыми изначально числилось всего 225 казаков (соответственно 125, 50 и 50), еще 130 казаков бежало в Литву с Ибрагимом Юсуповым и другими четырьмя мурзами в 1570 году (т. е. всего 355) и вряд ли за прочими, менее значительными мурзами, могло иметься еще три с половиной сотни.
Ко времени Смуты в Романовском уезде, по сообщению все того же Немоевского, оставалось уже не более 300 ногаев, однако автор и эту цифру считает завышенной.
На 1577 год в поход выходило от 220 до 250 романовских татар. На 1616 год в списке романовских татар Посольского приказа числился 171 человек - 72 за Сююшем Юсуповым и 99 (делившихся на три статьи - 27,37 и 35 соответственно) за Бараем Кутумовым. Помимо этого, Юсупов и Кутумов выставляли со своих земель даточных (тоже видимо татар) - 15 и 25 человек соответственно (возможно учтены среди всех романовских татар). В уезде имелись также и некие «безмурзные» казаки.
В целом, насколько можно понять, после Смуты на службу должно было выходить примерно 200 романовских казаков - по сто юсуповских и кутумовских. Фактически, в силу разных причин, выходило меньше. Так, в 1620/21 году Барай Кутумов мог выставить лишь 59 человек своей половины (реально вышло на службу лишь 54 человека, из числа недостающих 15 казаков крестились и вышли из подчинения мурзы).
На 1626 и 1627 годы всего имелось 180 романовских казаков, при этом в Смоленскую войну на службу выходило 129 - 134 человека. На 1636 год имелось всего 159 юсуповских и кутумовских казаков, к 1679 году их число сократилось до 121 человека.
На службу в 1661 году выходило 86 романовских татар и новокрещенов (57 и 29 чел. соответственно) - возможно только половина. В 1663 году романовских мурз, новокрещенов и татар, вместе с ярославскими мурзами и новокрещенами на службе числилось 245 человек.
До испомещения романовские татары видимо получали корм в каком-то виде. После испомещения, помимо доходов с земли, они дополнительно получали денежное жалованье - 500 рублей в год на всех, из местных романовских же доходов. За сбор денег отвечали государев приказной человек (позднее воевода), 4 «лучших татарина» романовских мурз и целовальники (5-6 человек). Указанные «романовские доходы» включали, насколько можно понять*, сборы с посада самого Романова, уездных рыбных ловель, кабаков, таможен и перевозов. Помимо этого в зачет указанных 500 рублей шли положенные казне налоговые сборы с поместий самих мурз («данные и оброчные деньги»), т. е. фактически ногаям давали видимо не 500 рублей, а меньше.
Давший в 1606 году жалованную грамоте Элю Юсупову Самозванец этот зачет (доходивший, как выясняется, до 284 рублей) упразднил, однако и общую сумму выдачи из романовских доходов видимо понизил - до 300 рублей. Дополнительное жалованье давалось лишь выходящим на службу.
Михаил Федорович в жалованной грамоте 1613 года, данной уже Сююшу Юсупову, (приводится в приложениях) эти изменения, в целом, подтвердил.
[Согласно грамоте «данные» деньги с сел Сююша в зачет оклада не идут, а прочие (ямские, ямчужные, посоха и пр.) сборы не берутся. К романовским доходам идущим на жалованье самому Сююшу и его казакам отнесены ямские и кабацкие деньги, тамга, мыт, перевоз, наместничий белый корм и проч.].
Русских жителей уезда судил тот же государев приказной человек / воевода, на суде при этом присутствовали те же 4 «лучших татарина» (возможно для контроля за сбором судебных пошлин). Дела между ногаями и русскими разбирались в Посольском приказе. Самих ногаев вероятно судили их мурзы.
Испомещением казаков поначалу фактически руководили их мурзы, определявшие видимо и размер поместий (что открывало, естественно, широкие возможности для злоупотреблений). Кто занимался обработкой земель казаков неясно, возможно это были латыши - захваченные в литовских походах полонянники. В общей сложности на испомещение ногаев в уезде, согласно жалованной грамоте Федора Ивановича (1584 год) отводилось 10 356 четей земли - 4 912 (3589 пашни и 1323 перелога) четей самим мурзам и 5 444 (4161 + 1283) чети в раздачу их казакам.
В 1615/16 году романовских казаков вывели из подчинения мурзам, приказав испоместить и выдать им ввозные грамоты (аналогичные меры были приняты в отношении темниковских татар). В 1620/21 году татар половины Барая Кутумова вернули под начало мурзы (то же вероятно проделали и с татарами юсуповской половины).
На 1627 год за Сююшем Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Бараем Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара), за романовскими татарами (теоретически - 225) - чуть более 7439 четей.
После Смуты романовские казаки начали постепенно креститься. Крещеный казак выходил из подчинения мурзы - вместе со своим поместьем. Появляются также и «безместные» / кормовые казаки, получавшие от своих мурз не поместья, а корм - возможно как реакция на распространявшееся крещение.
На рубеже 1670 - 1680-х годов, как уже отмечалось, оставшимся помещикам-мусульманам Романовского уезда было предписано креститься - под угрозой отписки поместий. Отказывавшихся креститься переводили в кормовые иноземцы. Эта мера привела к окончательной ликвидации корпорации романовских татар.
Общая численность ногаев живших непосредственно в России и несших здесь военную службу, была, таким образом, невелика и заметной роли они не играли.
* Авторский текст, и так, в общем, своеобразный, в этом разделе особенно сложно понять.

* * *
А. Ю. Прокопьев
Империя и имперские должности в ранее Новое время
// Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время
Типичная ( в плохом смысле) глава коллективной монографии. Автор летит и обобщает, обобщает и летит, пыщь-пыщь.
скрытый текстКак отмечает автор, СРИГН, строго говоря, вообще не являлась государством в современном понимании, представляя собой пирамиду имперских сословий, венчаемую императором. Ее также невозможно оценивать в категориях территориальной государственности - имперское подданство определялось ленной зависимостью, безотносительно местоположения самого лена.
Внутренняя конструкция империи в описываемое время определялась решениями Вормсского рейхстага 1495 года, Аугсбургскими религиозным миром 1555 года и Вестфальским мирным договором 1648 года (собственно имперской его частью - Оснабрюкским договором, регулировавшим отношения сословий с короной).
Император
Император, несмотря на все религиозно-политические конфликты, оставался верховным сувереном, юридическое верховенство короны признавалось всеми имперскими чинами и не было поколеблено ни соглашениями с сословиями конца XV века, ни Аугсбургским, ни Вестфальским миром.
Император был выборным монархом, избираемым высшими чинами империи - курфюрстами / князьями выборщиками. Порядок выборов был установлен Золотой буллой 1356 года. Коллегия курфюрстов изначально включала семь человек - архиепископов Майнца, Трира и Кельна, пфальцграфа Рейнского, герцога Саксонского, маркграфа Бранденбургского и короля Богемии. В 1648 году число курфюрстов увеличилось до восьми, а в 1692 году - до девяти (см. ниже). Император избирался простым большинством голосов.
На избрание нового императора, после кончины прежнего, отводилось не более 2 месяцев, на коронацию - еще три недели. Выборы императора полагалось производить во Франкфурте-на-Майне, коронацию - в Аахене, однако в описываемый период эти требования строго не соблюдались - избирали и короновались во Франкфурте, Аугсбурге и Регенсбурге (в Аахене были проведены лишь две коронации - Карла V в 1520 году и Фердинанда I в 1531-м).
Отношения имперских чинов с короной в Новое время все более рассматривались как отношения корпоративного сообщества с его главой. Это, помимо прочего, привело к возникновению т. н. выборной капитуляции [Wahlkapitulation] - свода обязательств, соблюдать которые обязывался вновь избранный монарх. Впервые она упоминается в 1519 году (выборы Карла V), а под соответствующим названием - с 1558 года (выборы Фердинанда I).
Поначалу этот документ (состоявший из отдельных разделов - капитулов, отсюда и капитуляция) представлял собой довольно хаотичный набор обязательств (материально обеспечивать курфюрстов во время выборов, не нарушать их привилегий, поддерживать имперский мир, не использовать иноземную вооруженную силу и проч). Со временем тексты капитуляций становились все более объемными, всегда сохраняя привязку к текущей ситуации. Так, капитуляция Леопольда I (1659 год) обязывала императора, помимо традиционных соблюдения прав имперских чинов и положений Золотой буллы, соблюдать положения Вестфальского мира, бороться с французским влиянием в империи, воздерживаться от участия в идущей франко-испанской войне и проч. Выборная капитуляция, таким образом, была чем-то типа конституции, юридической базой текущей имперской политики. Формально считалось, что избранный монарх подписывает капитуляцию по собственной воле и она никак не ограничивает его достоинство и полномочия.
Полномочия императора разделялись на исключительные и ограниченные.
К исключительным (jura caesareae reservata) относились полномочия не обусловленные выборными капитуляциями - представления Империи во внешних делах, патронажа над католической церковью (позволявшее замещать вакантные должности), назначения / представления членов имперского придворного совета и камерального суда, представления препозиции рейхстагу, право аноблирования и интитуляции, право распоряжения выморочными имперскими ленами, права утверждения опекунства, досрочного совершеннолетия, узаконивания внебрачного потомства, организация почтовой службы и проч. [Прочие императорские регалии - монетная, таможенная, соляная, горная, надзор за евреями и др. Золотой буллой 1356 года была переданы имперским князьям].
Ограниченными полномочиями (jura caesareae limitata) император мог пользоваться лишь по согласованию с сословиями (коллегией курфюрствов и рейхстагом). К ним относились объявление войны иноземным державам и заключение с ними мира, принятие новых законов, взимание налогов с имперских чинов, утверждение приговоров имперского камерального суда. В 1648 году ограниченный характер этих полномочий был зафиксирован Оснабрюкским договором, оставаясь основополагающей нормой вплоть до роспуска империи в 1806 году.
Курфюрсты
Состав высшего имперского чина - курфюрстов был установлен Золотой буллой Карла IV в 1356 году. Курфюрсты являлись также обладателями высших имперских должностей, сохранявших, впрочем, лишь церемониальный характер.
Изначально курфюрстами являлись семь человек - архиепископ Майнца [эрцканцлер Германии], архиепископ Кельна [эрцканцлер Италии], архиепископ Трира [эрцканцлер Бургундии], король Богемии [эрцмундшенк / кравчий], пфальцграф Рейнский (эрцтрухзес / стольник), герцог Саксонский [эрцмаршал], маркграф Бранденбургский [эрцкамерарий]. В 1623 году права на Верхний Пфальц и соответствующее курфюшеское достоинство, отобранные у опального «зимнего короля» Фридриха Пфальцского, были переданы Баварии. В 1648 году Вестфальский мир восстановил права Пфальца, однако и Бавария не лишилась курфюшеских регалий. Вместо оставшейся за Баварией должности эрцтрухзеса Пфальц получил новую - [эрцшацмейстера / казначея]. В 1692 году курфюрстом стал еще и герцог Брауншвейга-Люнебурга (Ганновера), [получивший должность эрцбаннертрагера / знаменосца].
Ключевой фигурой среди курфюрстов являлся архиепископ Майнца, являвшийся формально вторым лицом империи после императора и фактически всегда игравший значительную роль в имперской политике, особенно на западе империи. Помимо него, важнейшими фигурами были курфюрсты Пфальца, Саксонии и, позднее, Баварии. Согласно Золотой булле в период междуцарствия исключительные права императора временно передавались имперским викариям - пфальцграфу Рейнскому (в землях франконского / швабского права) и герцогу Саксонскому (в землях саксонского права), однако все их решения должны были позднее утверждаться новым императором. После 1648 года пфальцграф делил викариатное право с Баварией.
Значение курфюрстов на протяжении описываемого периода все более возрастало, достигнув максимума в первой половине XVII века, когда курфюшеские съезды (Kurfürstentag) фактически подменили собой парализованный рейхстаг, решая, совместно с императором, все важные вопросы имперской политики. Возобновление деятельности рехстага (1640 год) не привело к существенному ослаблению их влияния.
Курфюрсты играли также значительную роль в сфере регионального управления - в имперских округах.
Рейхстаг
Рейхстаг являлся сословным собранием владельцев / представителей имперских ленов. На 1519 год обладателей имперских ленов имелось 383, на 1792 год - 292. В рейхстаге, в силу разных причин, были представлены не все имперские лены.
Рейхстаг собирался по инициативе императора, после 1519 года - с предварительного согласия курфюрстов (с которыми обсуждались также сроки и место его проведения). Император также формировал и повестку собрания - препозицию (она, впрочем могла меняться в зависимости от встречных пожеланий сословий).
Ассамблея включала три курии / скамьи - курфюрстов [Kurfürstenrat]; духовных и светских князей [Reichsfürstenrat] и имперских городов [Reichsstädtekollegium]. Во главе первой (и всего собрания) стоял архиепископ Майнцский, во главе второй - эрцгерцог Австрийский и архиепископ Зальцбургский, [третья обычно возглавлялась городом в котором проводилось заседание, после 1663-го - всегда Регенсбургом].
Вынесенные на обсуждение вопросы обсуждались сначала внутри курий, затем между куриями, при этом мнение городской в расчет часто не принималось - доминировали первые две. Согласованный проект вступал в силу только после утверждения императором.
В начале XVII века рост религиозного антагонизма парализовал деятельность рейхстага - в 1613 - 1640 годах он не собирался вовсе. В 1663 году в Регенсбурге был образован т. н. «Вечный рейхстаг» [Immerwährender Reichstag] - постоянно действующий комитет сословий, разбиравший текущие дела и принимавший по ним резолюции (вместо прежних постановлений). Общие собрания после этого уже не собирались.
Имперский камеральный суд
Имперский камеральный суд (Reichskammergericht) был учрежден в 1495 году. Первое время суд не имел постоянного пристанища, однако с 1527 года размещался в Шпейере. Разгром последнего французами в 1689 году вынудил его перебраться в небольшой гессенский городок Вецлар, где это учреждение и пребывало вплоть до 1806 года.
[На содержание суда должны были, помимо прочего, идти средства собранные посредством введенного в том же 1495 году общеимперского налога - общего пфеннига (Gemeine Pfennig), однако последний не прижился и после 1505 года суд содержался за счет специального сбора - камерцилера (Kammerzieler), бывшего единственным постоянным прямым налогом империи].
Во главе суда стоял назначаемый императором председатель [Kammerrichter / Gerichtspräsidenten], выполнявший, в основном, представительские функции. Основная судебная работа ложилась на заседателей-асессоров [Assessoren / Cameralen], назначаемых императором, курфюрстами и имперскими округами. Число асессоров постепенно возрастало - 16 на 1500 год, 24 на 1555-й, 50 на 1654-й.
Основной задачей суда было поддержание имперского мира (пресечение межсословных распрей, разрешение конфликтов между имперскими князьями и проч.). Помимо этого он выступал в качестве имперского апелляционного / кассационного суда, принимая апелляционные и кассационные жалобы на решения судов низших инстанций в территориальных княжествах. Последние обычно стремились в той или иной степени ограничить право своих подданных на подачу подобных исков в имперский суд, однако эти запреты далеко не всегда были действенными.
В конце XVI века рост религиозного антагонизма парализовал деятельность и этого учреждения - с 1589 года суд фактически не действовал. Работа суда была возобновлена только в 1654 году.
Влияние императора на деятельность суда было относительно невелико, а влияние сословий, напротив, все более возрастало - после 1654 года половина асессоров суда назначалась имперскими округами.
Имперский надворный совет
Создан в 1559 году на основе ранее существовавшего Надворного совета Габсбургов (см. ниже). Имперский надворный совет (Reichshofrat) являлся одновременно и совещательным органом при императоре и судебным органом империи. Совещательные его функции со временем большей частью перешли к Тайному совету (см. ниже) и Имперский надворный совет превратился фактически в еще одно высшее судебное учреждение империи, дополняющее Имперский камеральный суд.
В сферу его ответственности изначально входили как империя, так и наследственные земли Габсбургов, однако в 1620 году, по требованию сословий, она была ограничена имперской территорией.
Совет являлся высшей инстанцией по вопросам связанным с имперскими ленами (статус, наследование, легитимизация внебрачных детей-наследников), раздачей имперских привилегий, дворянских дипломов и гербов и проч., а также рассматривал и иные вопросы (в т. ч., при соблюдении некоторых условий и апелляции на решения судов территориальных княжеств).
Состав совета (президент и заседатели - от 12-14 до 24) назначался императором, [постоянного пристанища он не имел, обычно собираясь в местопребывании императора]. В отличии от камерального суда совет полностью оставался в руках императора.
Имперская надворная канцелярия
[Имперская канцелярия существовала с давних времен, формальным ее главой считался арихиепископ Майнцский, занимавший должность эрцканцлера Германии / рейхсканцлера. Фактическое его влияние на дела канцелярии со временем менялось, то сокращаясь, то усиливаясь. С 1497 года все более сильную конкуренцию имперской составляла надворная канцелярия Габсбургов (см. ниже). В 1559 году они были объединены в Имперскую надворную канцелярию (Reichshofkanzlei), занимавшуюся и делами империи и делами наследственных земель]. В 1620 году дела наследственных земель были переданы Австрийской надворной канцелярии.
Имперские округа
Решение о создании имперских округов [Reichskreis] было принято в 1495 году. В 1500 году было образовано 6 округов, в 1512-м - еще 4, всего, таким образом, округов имелось десять (Нижнесаксонский, Верхнесаксонский, Франконский, Бургундский, Швабский, Баварский, Австрийский, Нижнерейнско-Вестфальский, Верхнерейнский и Рейнско-курфюшеский, чешские земли в состав округов не входили).
Важнейшим органом имперского округа был окружной съезд (Kreistage), на котором (в отличии от рейхстага) были представлены все владельцы имперских ленов округа. Число этих представителей в разных округах существенно различалось, так, во Франконском, Баварском и Нижнесаксонском их имелось ок. 20, а в Швабском - свыше 100.
Съезд, [собиравшийся не реже раза в год,] принимал решения по всем текущим вопросам и избирал окружного начальника (Kreisobrist), из числа старших по статусу имперских князей. В некоторых округах избиралось два окружных начальника - князь церкви и светский князь. Со временем округа обзавелись также и внушительным аппаратом, включавшим разнообразных советников, канцелярию, архив и проч.
Основными задачами округов являлись поддержание земского мира, исполнение решений Имперского камерального суда, сбор постоянных и чрезвычайных имперских налогов и сбор и содержание имперской армии. Военное значение округов особенно возросло после 1681 года, когда они окончательно сделались основой имперской военной организации.
Габсбурги
Имперская корона с 1438 года принадлежала династии Габсбургов, основной опорой которой служили наследственные земли (австрийские, позднее также чешские и венгерские). [С конца XV века Габсбурги предпринимали попытки упорядочить управление наследственными землями, чему однако препятствовали не только сложившиеся традиции управления и сопротивление сословий, но и внутрисемейные разделы и конфликты]. Так, до 1564 года практиковались внутрисемейные разделы наследственных земель - Фердинанд I завещал большую часть австрийских земель старшему сыну и наследнику Максимилиану; Штирию, Каринтию и Крайну - сыну Карлу, а Тироль - еще одному сыну, Фердинанду. «Распря братьев» в правление Рудольфа II привела к переходу сначала большей части австрийских земель, а затем и Богемии и Венгрии под управление его младшего брата Маттиаса. Воссоединение комплекса наследственных земель произошло лишь после воцарения Фердинанда II (1619 - 1637).
Двор в империи существовал в двух ипостасях - императорский двор и двор самих Габсбургов в наследственных землях. Императорский двор представлял собой совокупность собственно имперских должностных лиц и обычно был распылен, соединяясь лишь в рамках рейхстагов, когда обладатели почетных имперских должностей собирались вместе.
Реальной величиной был собственный, постоянно функционирующий двор Габсбургов. До начала XVI века он мало чем отличался от дворов прочих территориальных князей. Позднее Габсбурги стремились сделать его все более «имперским», сблизив со сферой управления империей.
Глубокие преобразования двора были произведены при Максимилиане I, широко заимствовавшем элементы бургундской придворной организации - введены придворные штаты, заведена придворная бухгалтерия и проч. Эти изменения были зафиксированы т. н. «Инсбрукским уложением» 1518 года.
Позднее структура габсбургского двора регламентировалась периодически издаваемыми Надворными уложениями (Hofordnungen). Со смертью монарха двор формально распускался и формировался заново. Помимо «старшего» двора обычно имелись и «младшие» - супруги монарха, наследника и проч., имевшие собственные штаты и регламенты. Назначения в младших дворах требовали санкции монарха.
Численность двора на 1518 год составляла 450 чел. (видимо с учетом неблагородного персонала). На 1554 год двор императора состоял из 550 человек, наследника - из 325. На 1560 год двор включал всего ок. 530 человек и лишь при Леопольде I (1658 - 1705) достиг примерно 1000 служащих.
Организация дворового хозяйства была, в целом, обычной для южнонемецких дворов, с некоторыми заимствованиями из бургундской, а позднее (начиная с Фердинанда I) испанской практики. Придворный штат возглавлял главный гофмейстер / Obrist-Hofmeister, вне сферы компетенции которого оставались Придворный и Тайный советы (в состав которых он, впрочем, входил по должности). К XVII веку должность главного гофмейстера превратилась в почетную синекуру и важнейшей фигурой фактически сделался главный камерарий / Obrist-Kämmerer, изначально отвечавший лишь за личные покои государя. Последнему подчинялось пять других ведомств - главного гофмаршала / Obrist-Hofmarschall (материальное обеспечение двора, дворцовая охрана, поддержание порядка, квартирмейстерская служба); главного кухмейстера / Obrist-Küchenmeister (кухня); главного шенка / Obrist-Schenk (государев стол и винные погреба); главного шталмейстера / Obrist-Stallmeister (конюшни); главного егермейстера / Obrist-Jägermeister (охота).
Начальникам ведомств подчинялись разнообразные придворные юнкеры (гофюнкеры, камерюнкеры, ягдюнкеры и пр.) и пажи (гофпажи, камерпажи и проч.) набиравшиеся из дворян, а также неблагородный персонал.
Административный аппарат двора (Надворный совет, канцелярия и проч.) также формировался во многом под влиянием бургундской практики.
На рубеже 1497 - 1498 годов в наследственных землях был создан Надворный совет / Hofrat - аналог королевского совета других стран. Помимо совещательных он выполнял и судебные функции (см. выше) и фактически занимался делами не только наследственных земель, но и всей империи. В 1559 году этот орган, под давлением сословий, был преобразован в Имперский надворный совет (см. выше), однако фактически остался под полным контролем Габсбургов.
Тайный совет / Geheime Rat впервые упоминается в указе Фердинанда I в феврале 1527 года. При Фердинанде в его состав входили канцлер, главный гофмейстер, главный гофмаршал, верховный канцлер Богемской короны и сыновья императора - эрцгерцоги Максимиллиан и Карл. На 1628 год совет включал 15 человек, на 1636-й - 20. Леопольд I в 1669 году преобразовал совет в Тайную конференцию / Geheime Konferenz. [Так у автора, фактически Леопольд выделил из разросшегося совета менее многочисленный орган, передав ему соответствующие функции. Сам Тайный совет продолжал существовать до 1749 года (пережив Тайную конференцию, ликвидированную в 1709 году), занимаясь в основном вопросами налогообложения, а позднее вопросами финансирования армии].
Основной функцией совета / конференции было обсуждение важнейших вопросов внешней и внутренней политики. Состав органа формировался императором. Распри Габсбургов сказались и на этой сфере - эрцгерцог Маттиас некоторое время держал свой собственный тайный совет.
Текущими делами Габсбургов занималась Надворная канцелярия / Hofkanzlei, [созданная Максимилианом I в 1497 году и, с переменным успехом, претендовавшая на роль имперской канцелярии. В 1559 году она была преобразована в Имперскую надворную канцелярию (см. выше)]. В 1620 году из имперской была выделена Австрийская надворная канцелярия / Österreichische Hofkanzlei занимавшаяся делами австрийских наследственных земель [делами Богемии, Венгрии, позднее Трансильвании и проч. занимались отдельные канцелярии]. Ей же были переданы судебные полномочия Имперского надворного совета в наследственных землях.
Надворный военный совет / Hofkriegsrat впервые упоминается в 1556 году. Он также был создан Фердинандом I - для координации военных усилий в рамках борьбы с османами. В этой сфере также имелись проблемы с централизацией - после раздела 1564 года существовали отдельный военный совет в Штирии (отвечал за Хорватию и Славонию) и отдельное военное присутствие (Kriegstelle) в Тироле, подчинявшиеся надворному совету во многом формально. В Венгрии военные вопросы находились в ведении тамошних надора и сословий. Позднее, в XVII веке, Габсбургам удалось в значительной мере консолидировать управление военными делами.
Совет руководил военными кампаниями и ведал вопросами обеспечения армии в мирное время. Во главе органа стоял председатель / президент, ему подчинялись начальник арсеналов (Obristzeugmeister); главный провиантмейстер (Obristproviantmeister); главный мустермейстер (Oberstmustermeister), отвечавший за комплектование войск; кригсцальмейстер (Kriegszahlmeister), отвечавший за оплату службы; начальник крепостей и фортификационных работ (Bausuperintendant), позднее подчиненный главному комиссару военного строительства (Obristbaukommisar). В 1650 году была создана должность генерального военного комиссара (Generalkriegskommissar), контролировавшего вопросы интендантской службы и составлявшего годовую смету расходов. Делопроизводством совета занималась Надворная военная канцелярия (Hofkriegskanzlei).
Финансовыми делами занималось казначейство - Надворная камера / Hofkammer. В 1494 году Максимиллиан I создал ее для Тироля, в 1495-м - для Нижней и Верхней Австрии. Превратить казначейство в общеимперское ведомство не удалось из-за сопротивления сословий и в его ведении оставались лишь наследственные земли. Впрочем и здесь централизованного финансового ведомства не существовало - вышеуказанные семейные разделы и распри Габсбургов привели к дроблению финансовой организации. Раздел 1564 года привел к созданию отдельных казначейств в Граце и Инсбруке, подчинявшихся венскому лишь формально. В ходе «распри братьев» эрцгерцог Маттиас создал собственное казначейство, ведавшее контролируемой им территорией. Финансовую самостоятельность сохраняли также Богемия и Венгрия.
Воссоединение наследственных земель в XVII веке не привело к централизации финансовой системы - венское казначейство по-прежнему осуществляло лишь общее руководство региональными, сохранявшими широкую самостоятельность.
Штат Надворной камеры был установлен Фердинандом I в 1527 году. Возглавлял ее генеральный шатцмейстер / General Schatzmeister (с 1568 года - президент камеры / Kammerpräsident), ему помогали камеральный советник, хофпфеннигмейстер и камер-секретарь. [Надворной камере подчинялись отдельные нижнеавстрийская и верхнеавстрийская камеры (соответственно, в Вене и Инсбруке) и аналогичные учреждения Богемии (Прага) и Венгрии (Прессбург). Во второй четверти XVII века нижнеавстрийская камера была слита с центральной].
Т. Н. Таценко
Центральные органы управления в немецких территориальных государствах XVI века
// Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время
скрытый текстДворы территориальных князей в целом сложились уже в эпоху Средневековья. В XVI веке княжеские дворы, ранее кочевавшие от замка к замку, оседают на одном месте, появляются постоянные резиденции местных государей - Мюнхен в Баварии, Дрезден в Саксонии, Кельн-на-Шпрее (позднее часть Берлина) в Бранденбурге и т. д. Оседание дворов способствует усложнению их организации и росту численности. Так, двор Виттельсбахов в Мюнхене увеличивается со 162 чел. (1508 год) до 700 (1591).
Структура дворов регулировалась разнообразными уставами, поначалу общими, а позднее специализированными, отдельными для каждой сферы (судебно-административной, духовной и пр.). Во главе территоральных дворов к середине XV века повсеместно стояли гофмейстеры. В XVI веке в некоторых дворах (герцогство Саксонское, ландграфство Гессен, курфюршество Бранденбург) на первый план выдвигается маршал, сочетавший руководство двором с выполнением государственных функций. Полномочия гофмейстера в тех княжествах где он оставался главой двора (Бавария, Вюртемберг, Пфальц и пр.) были примерно такими же.
В описываемый период формируются и административные органы территориальных дворов, создаваемые под сильным влиянием габсбургской практики.
Начиная с конца XV века повсюду создаются Советы при государе, носившие разные названия - Совет (Rat), Надворный совет (Hofrat), Главный совет (Oberrat) и т. д. Образцом для них служил Надворный совет Габсбургов. Так, Надворный совет при курфюрсте Саксонии Фридрихе Мудром был образован уже в 1499 году. Аналогичное учреждение в Гессене было создано (по саксонскому образцу) в 1522 году, в 1551 году был официально создан совет в Баварии (фактически существовал и раньше) и т. д. Как и габсбургский, все эти территориальные советы сочетали совещательные функции с судебными. Члены их назначались государем, председателем совета являлся либо глава двора (гофмейстер / маршал) либо канцлер.
Тайные советы в немецких княжествах начинают оформляться в последней трети XVII века - в курфюршестве Саксония в 1574 году, в Баварии - в 1582-м, в Бранденбурге в 1604-м и т. д. Повсеместно они появляются уже в XVII - XVIII вв. Функции этих советов были аналогичны габсбургскому.
Текущими делами занималась канцелярия возглавляемая канцлером, бывшим одной из ключевых фигур в управлении княжеством. В некоторых из них (Альбертинская Саксония, Бранденбург, Вюртемберг) канцлерами назначались исключительно лица бюргерского происхождения с университетским дипломом.
Финансовыми делами князей до XVI века занималось должностное лицо именуемое казначеем (Landrentmeister) или писцом (Landschreiber), позднее - каммермейстер (Kammermeister), с несколькими помощниками. Все они отвечали в основном за ведение счетов, решения о расходовании средств принимал сам князь или высший чин двора (гофмейстер / маршал). В шестнадцатом столетии в княжествах начинают создаваться казначейства (Rentkammer), опять же, по образцу габсбургского. В герцогстве Саксония казначейство учреждается в 1524 году, в Баварии в 1550-м, в Гессене - в 1568-м и т. д. Редким исключением являлся Бранденбург, где подобного ведомства в описываемый период так и не появилось.
Число служащих в казначействах было невелико - от 4 до 8 человек (не считая секретарей и писцов). Так в Вюртемберге на 1545 - 1546 годы в казначействе служило 8 человек - каммермейстер, шесть камеральных советников и бухгалтер, помимо этого имелись секретарь и четыре писца.
В сферу ответственности казначейств, в отличии от прежних казначеев, входили финансовые дела всего княжества, а не только княжеского домена.
В описываемый период происходит переход от финансирования территориального государства и его двора за счет средств получаемых от княжеского домена и регалий к финансированию за счет налогов. Последние требовали утверждения земскими сословными собраниями (Landtag). Во многих княжествах сословия создавали собственные, независимые от князя, органы по сбору и управлению налогами - Сословная касса (Landschaftskasse) в Вюртемберге, Кредитный фонд (Kreditwerk) в Бранденбурге и т. д. [Князья, с переменным успехом, стремились ограничить влияние сословий на финансовую политику].
Реформация привела к образованию в территориальных государствах еще и органов контроля за церковью. В протестантских княжествах после Аугсбургского мира 1555 года церковь напрямую управлялась государством. Во главе местной церкви стоял сам князь, центральным органом церковного управления был коллегиальный орган, обычно именовавшийся Консисторией (Konsistorium). Последняя состояла наполовину из протестантских священнослужителей, наполовину - из светских служащих князя и занималась как собственно церковными вопросами, так и управлением церковным имуществом и финансами. На местах, в территориальных округах (амтах), Консисторию представляли суперинтенданты из числа духовных лиц. В Вюртемберге (где центральный орган именовался Церковным советом / Kirchenrat), имелась еще и промежуточная инстанция в лице четырех генеральных суперинтендантов.
В католических княжествах также возникли органы контроля за церковью (формально им не подчинявшейся). Так, в Баварии с 1557 года существовал Духовный совет (Religion Rath / Geistlicher Rath), также состоявший как из духовных лиц, так и из светских служащих. Совет фактически надзирал за местным клиром, хозяйственной деятельностью монастырей и проч.
Местные органы управления складывались на основе прежней княжеской домениальной администрации и в шестнадцатом столетии значительная часть территории княжеств еще находилась вне их компетенции (иммунитетные церковные, дворянские и городские земли). Местный территориальный округ обычно именовался Amt (служба), Pflege (надзор) или Gericht (суд), а его глава - Amtmann, Pfleger, Richter, иногда Vogt или Hauptmann (встречались и более экзотические названия). В центральных органах княжеств в XVI веке появляются специальные служащие курирующие местные органы управления. Так, в Бранденбурге с 1577 года имелся Amtsrat (советник по амтам) - в XVII веке смененный уже отдельным органом - Amtskammer.
Служащим двора и центральных административных органов полагались денежное содержание, питание за счет государя (с середины века иногда заменяемое денежными выплатами) и придворное платье (один или два раза в год). Помимо этого, они имели судебные и налоговые привилегии (были подсудны лично государю, освобождались от некоторых земских налогов), могли расчитывать на разнообразные подарки и пожалования, а представители бюргерства, особенно широко представленные в органах управления XVI века - и на аноблирование.
Империя и имперские должности в ранее Новое время
// Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время
Типичная ( в плохом смысле) глава коллективной монографии. Автор летит и обобщает, обобщает и летит, пыщь-пыщь.
скрытый текстКак отмечает автор, СРИГН, строго говоря, вообще не являлась государством в современном понимании, представляя собой пирамиду имперских сословий, венчаемую императором. Ее также невозможно оценивать в категориях территориальной государственности - имперское подданство определялось ленной зависимостью, безотносительно местоположения самого лена.
Внутренняя конструкция империи в описываемое время определялась решениями Вормсского рейхстага 1495 года, Аугсбургскими религиозным миром 1555 года и Вестфальским мирным договором 1648 года (собственно имперской его частью - Оснабрюкским договором, регулировавшим отношения сословий с короной).
Император
Император, несмотря на все религиозно-политические конфликты, оставался верховным сувереном, юридическое верховенство короны признавалось всеми имперскими чинами и не было поколеблено ни соглашениями с сословиями конца XV века, ни Аугсбургским, ни Вестфальским миром.
Император был выборным монархом, избираемым высшими чинами империи - курфюрстами / князьями выборщиками. Порядок выборов был установлен Золотой буллой 1356 года. Коллегия курфюрстов изначально включала семь человек - архиепископов Майнца, Трира и Кельна, пфальцграфа Рейнского, герцога Саксонского, маркграфа Бранденбургского и короля Богемии. В 1648 году число курфюрстов увеличилось до восьми, а в 1692 году - до девяти (см. ниже). Император избирался простым большинством голосов.
На избрание нового императора, после кончины прежнего, отводилось не более 2 месяцев, на коронацию - еще три недели. Выборы императора полагалось производить во Франкфурте-на-Майне, коронацию - в Аахене, однако в описываемый период эти требования строго не соблюдались - избирали и короновались во Франкфурте, Аугсбурге и Регенсбурге (в Аахене были проведены лишь две коронации - Карла V в 1520 году и Фердинанда I в 1531-м).
Отношения имперских чинов с короной в Новое время все более рассматривались как отношения корпоративного сообщества с его главой. Это, помимо прочего, привело к возникновению т. н. выборной капитуляции [Wahlkapitulation] - свода обязательств, соблюдать которые обязывался вновь избранный монарх. Впервые она упоминается в 1519 году (выборы Карла V), а под соответствующим названием - с 1558 года (выборы Фердинанда I).
Поначалу этот документ (состоявший из отдельных разделов - капитулов, отсюда и капитуляция) представлял собой довольно хаотичный набор обязательств (материально обеспечивать курфюрстов во время выборов, не нарушать их привилегий, поддерживать имперский мир, не использовать иноземную вооруженную силу и проч). Со временем тексты капитуляций становились все более объемными, всегда сохраняя привязку к текущей ситуации. Так, капитуляция Леопольда I (1659 год) обязывала императора, помимо традиционных соблюдения прав имперских чинов и положений Золотой буллы, соблюдать положения Вестфальского мира, бороться с французским влиянием в империи, воздерживаться от участия в идущей франко-испанской войне и проч. Выборная капитуляция, таким образом, была чем-то типа конституции, юридической базой текущей имперской политики. Формально считалось, что избранный монарх подписывает капитуляцию по собственной воле и она никак не ограничивает его достоинство и полномочия.
Полномочия императора разделялись на исключительные и ограниченные.
К исключительным (jura caesareae reservata) относились полномочия не обусловленные выборными капитуляциями - представления Империи во внешних делах, патронажа над католической церковью (позволявшее замещать вакантные должности), назначения / представления членов имперского придворного совета и камерального суда, представления препозиции рейхстагу, право аноблирования и интитуляции, право распоряжения выморочными имперскими ленами, права утверждения опекунства, досрочного совершеннолетия, узаконивания внебрачного потомства, организация почтовой службы и проч. [Прочие императорские регалии - монетная, таможенная, соляная, горная, надзор за евреями и др. Золотой буллой 1356 года была переданы имперским князьям].
Ограниченными полномочиями (jura caesareae limitata) император мог пользоваться лишь по согласованию с сословиями (коллегией курфюрствов и рейхстагом). К ним относились объявление войны иноземным державам и заключение с ними мира, принятие новых законов, взимание налогов с имперских чинов, утверждение приговоров имперского камерального суда. В 1648 году ограниченный характер этих полномочий был зафиксирован Оснабрюкским договором, оставаясь основополагающей нормой вплоть до роспуска империи в 1806 году.
Курфюрсты
Состав высшего имперского чина - курфюрстов был установлен Золотой буллой Карла IV в 1356 году. Курфюрсты являлись также обладателями высших имперских должностей, сохранявших, впрочем, лишь церемониальный характер.
Изначально курфюрстами являлись семь человек - архиепископ Майнца [эрцканцлер Германии], архиепископ Кельна [эрцканцлер Италии], архиепископ Трира [эрцканцлер Бургундии], король Богемии [эрцмундшенк / кравчий], пфальцграф Рейнский (эрцтрухзес / стольник), герцог Саксонский [эрцмаршал], маркграф Бранденбургский [эрцкамерарий]. В 1623 году права на Верхний Пфальц и соответствующее курфюшеское достоинство, отобранные у опального «зимнего короля» Фридриха Пфальцского, были переданы Баварии. В 1648 году Вестфальский мир восстановил права Пфальца, однако и Бавария не лишилась курфюшеских регалий. Вместо оставшейся за Баварией должности эрцтрухзеса Пфальц получил новую - [эрцшацмейстера / казначея]. В 1692 году курфюрстом стал еще и герцог Брауншвейга-Люнебурга (Ганновера), [получивший должность эрцбаннертрагера / знаменосца].
Ключевой фигурой среди курфюрстов являлся архиепископ Майнца, являвшийся формально вторым лицом империи после императора и фактически всегда игравший значительную роль в имперской политике, особенно на западе империи. Помимо него, важнейшими фигурами были курфюрсты Пфальца, Саксонии и, позднее, Баварии. Согласно Золотой булле в период междуцарствия исключительные права императора временно передавались имперским викариям - пфальцграфу Рейнскому (в землях франконского / швабского права) и герцогу Саксонскому (в землях саксонского права), однако все их решения должны были позднее утверждаться новым императором. После 1648 года пфальцграф делил викариатное право с Баварией.
Значение курфюрстов на протяжении описываемого периода все более возрастало, достигнув максимума в первой половине XVII века, когда курфюшеские съезды (Kurfürstentag) фактически подменили собой парализованный рейхстаг, решая, совместно с императором, все важные вопросы имперской политики. Возобновление деятельности рехстага (1640 год) не привело к существенному ослаблению их влияния.
Курфюрсты играли также значительную роль в сфере регионального управления - в имперских округах.
Рейхстаг
Рейхстаг являлся сословным собранием владельцев / представителей имперских ленов. На 1519 год обладателей имперских ленов имелось 383, на 1792 год - 292. В рейхстаге, в силу разных причин, были представлены не все имперские лены.
Рейхстаг собирался по инициативе императора, после 1519 года - с предварительного согласия курфюрстов (с которыми обсуждались также сроки и место его проведения). Император также формировал и повестку собрания - препозицию (она, впрочем могла меняться в зависимости от встречных пожеланий сословий).
Ассамблея включала три курии / скамьи - курфюрстов [Kurfürstenrat]; духовных и светских князей [Reichsfürstenrat] и имперских городов [Reichsstädtekollegium]. Во главе первой (и всего собрания) стоял архиепископ Майнцский, во главе второй - эрцгерцог Австрийский и архиепископ Зальцбургский, [третья обычно возглавлялась городом в котором проводилось заседание, после 1663-го - всегда Регенсбургом].
Вынесенные на обсуждение вопросы обсуждались сначала внутри курий, затем между куриями, при этом мнение городской в расчет часто не принималось - доминировали первые две. Согласованный проект вступал в силу только после утверждения императором.
В начале XVII века рост религиозного антагонизма парализовал деятельность рейхстага - в 1613 - 1640 годах он не собирался вовсе. В 1663 году в Регенсбурге был образован т. н. «Вечный рейхстаг» [Immerwährender Reichstag] - постоянно действующий комитет сословий, разбиравший текущие дела и принимавший по ним резолюции (вместо прежних постановлений). Общие собрания после этого уже не собирались.
Имперский камеральный суд
Имперский камеральный суд (Reichskammergericht) был учрежден в 1495 году. Первое время суд не имел постоянного пристанища, однако с 1527 года размещался в Шпейере. Разгром последнего французами в 1689 году вынудил его перебраться в небольшой гессенский городок Вецлар, где это учреждение и пребывало вплоть до 1806 года.
[На содержание суда должны были, помимо прочего, идти средства собранные посредством введенного в том же 1495 году общеимперского налога - общего пфеннига (Gemeine Pfennig), однако последний не прижился и после 1505 года суд содержался за счет специального сбора - камерцилера (Kammerzieler), бывшего единственным постоянным прямым налогом империи].
Во главе суда стоял назначаемый императором председатель [Kammerrichter / Gerichtspräsidenten], выполнявший, в основном, представительские функции. Основная судебная работа ложилась на заседателей-асессоров [Assessoren / Cameralen], назначаемых императором, курфюрстами и имперскими округами. Число асессоров постепенно возрастало - 16 на 1500 год, 24 на 1555-й, 50 на 1654-й.
Основной задачей суда было поддержание имперского мира (пресечение межсословных распрей, разрешение конфликтов между имперскими князьями и проч.). Помимо этого он выступал в качестве имперского апелляционного / кассационного суда, принимая апелляционные и кассационные жалобы на решения судов низших инстанций в территориальных княжествах. Последние обычно стремились в той или иной степени ограничить право своих подданных на подачу подобных исков в имперский суд, однако эти запреты далеко не всегда были действенными.
В конце XVI века рост религиозного антагонизма парализовал деятельность и этого учреждения - с 1589 года суд фактически не действовал. Работа суда была возобновлена только в 1654 году.
Влияние императора на деятельность суда было относительно невелико, а влияние сословий, напротив, все более возрастало - после 1654 года половина асессоров суда назначалась имперскими округами.
Имперский надворный совет
Создан в 1559 году на основе ранее существовавшего Надворного совета Габсбургов (см. ниже). Имперский надворный совет (Reichshofrat) являлся одновременно и совещательным органом при императоре и судебным органом империи. Совещательные его функции со временем большей частью перешли к Тайному совету (см. ниже) и Имперский надворный совет превратился фактически в еще одно высшее судебное учреждение империи, дополняющее Имперский камеральный суд.
В сферу его ответственности изначально входили как империя, так и наследственные земли Габсбургов, однако в 1620 году, по требованию сословий, она была ограничена имперской территорией.
Совет являлся высшей инстанцией по вопросам связанным с имперскими ленами (статус, наследование, легитимизация внебрачных детей-наследников), раздачей имперских привилегий, дворянских дипломов и гербов и проч., а также рассматривал и иные вопросы (в т. ч., при соблюдении некоторых условий и апелляции на решения судов территориальных княжеств).
Состав совета (президент и заседатели - от 12-14 до 24) назначался императором, [постоянного пристанища он не имел, обычно собираясь в местопребывании императора]. В отличии от камерального суда совет полностью оставался в руках императора.
Имперская надворная канцелярия
[Имперская канцелярия существовала с давних времен, формальным ее главой считался арихиепископ Майнцский, занимавший должность эрцканцлера Германии / рейхсканцлера. Фактическое его влияние на дела канцелярии со временем менялось, то сокращаясь, то усиливаясь. С 1497 года все более сильную конкуренцию имперской составляла надворная канцелярия Габсбургов (см. ниже). В 1559 году они были объединены в Имперскую надворную канцелярию (Reichshofkanzlei), занимавшуюся и делами империи и делами наследственных земель]. В 1620 году дела наследственных земель были переданы Австрийской надворной канцелярии.
Имперские округа
Решение о создании имперских округов [Reichskreis] было принято в 1495 году. В 1500 году было образовано 6 округов, в 1512-м - еще 4, всего, таким образом, округов имелось десять (Нижнесаксонский, Верхнесаксонский, Франконский, Бургундский, Швабский, Баварский, Австрийский, Нижнерейнско-Вестфальский, Верхнерейнский и Рейнско-курфюшеский, чешские земли в состав округов не входили).
Важнейшим органом имперского округа был окружной съезд (Kreistage), на котором (в отличии от рейхстага) были представлены все владельцы имперских ленов округа. Число этих представителей в разных округах существенно различалось, так, во Франконском, Баварском и Нижнесаксонском их имелось ок. 20, а в Швабском - свыше 100.
Съезд, [собиравшийся не реже раза в год,] принимал решения по всем текущим вопросам и избирал окружного начальника (Kreisobrist), из числа старших по статусу имперских князей. В некоторых округах избиралось два окружных начальника - князь церкви и светский князь. Со временем округа обзавелись также и внушительным аппаратом, включавшим разнообразных советников, канцелярию, архив и проч.
Основными задачами округов являлись поддержание земского мира, исполнение решений Имперского камерального суда, сбор постоянных и чрезвычайных имперских налогов и сбор и содержание имперской армии. Военное значение округов особенно возросло после 1681 года, когда они окончательно сделались основой имперской военной организации.
Габсбурги
Имперская корона с 1438 года принадлежала династии Габсбургов, основной опорой которой служили наследственные земли (австрийские, позднее также чешские и венгерские). [С конца XV века Габсбурги предпринимали попытки упорядочить управление наследственными землями, чему однако препятствовали не только сложившиеся традиции управления и сопротивление сословий, но и внутрисемейные разделы и конфликты]. Так, до 1564 года практиковались внутрисемейные разделы наследственных земель - Фердинанд I завещал большую часть австрийских земель старшему сыну и наследнику Максимилиану; Штирию, Каринтию и Крайну - сыну Карлу, а Тироль - еще одному сыну, Фердинанду. «Распря братьев» в правление Рудольфа II привела к переходу сначала большей части австрийских земель, а затем и Богемии и Венгрии под управление его младшего брата Маттиаса. Воссоединение комплекса наследственных земель произошло лишь после воцарения Фердинанда II (1619 - 1637).
Двор в империи существовал в двух ипостасях - императорский двор и двор самих Габсбургов в наследственных землях. Императорский двор представлял собой совокупность собственно имперских должностных лиц и обычно был распылен, соединяясь лишь в рамках рейхстагов, когда обладатели почетных имперских должностей собирались вместе.
Реальной величиной был собственный, постоянно функционирующий двор Габсбургов. До начала XVI века он мало чем отличался от дворов прочих территориальных князей. Позднее Габсбурги стремились сделать его все более «имперским», сблизив со сферой управления империей.
Глубокие преобразования двора были произведены при Максимилиане I, широко заимствовавшем элементы бургундской придворной организации - введены придворные штаты, заведена придворная бухгалтерия и проч. Эти изменения были зафиксированы т. н. «Инсбрукским уложением» 1518 года.
Позднее структура габсбургского двора регламентировалась периодически издаваемыми Надворными уложениями (Hofordnungen). Со смертью монарха двор формально распускался и формировался заново. Помимо «старшего» двора обычно имелись и «младшие» - супруги монарха, наследника и проч., имевшие собственные штаты и регламенты. Назначения в младших дворах требовали санкции монарха.
Численность двора на 1518 год составляла 450 чел. (видимо с учетом неблагородного персонала). На 1554 год двор императора состоял из 550 человек, наследника - из 325. На 1560 год двор включал всего ок. 530 человек и лишь при Леопольде I (1658 - 1705) достиг примерно 1000 служащих.
Организация дворового хозяйства была, в целом, обычной для южнонемецких дворов, с некоторыми заимствованиями из бургундской, а позднее (начиная с Фердинанда I) испанской практики. Придворный штат возглавлял главный гофмейстер / Obrist-Hofmeister, вне сферы компетенции которого оставались Придворный и Тайный советы (в состав которых он, впрочем, входил по должности). К XVII веку должность главного гофмейстера превратилась в почетную синекуру и важнейшей фигурой фактически сделался главный камерарий / Obrist-Kämmerer, изначально отвечавший лишь за личные покои государя. Последнему подчинялось пять других ведомств - главного гофмаршала / Obrist-Hofmarschall (материальное обеспечение двора, дворцовая охрана, поддержание порядка, квартирмейстерская служба); главного кухмейстера / Obrist-Küchenmeister (кухня); главного шенка / Obrist-Schenk (государев стол и винные погреба); главного шталмейстера / Obrist-Stallmeister (конюшни); главного егермейстера / Obrist-Jägermeister (охота).
Начальникам ведомств подчинялись разнообразные придворные юнкеры (гофюнкеры, камерюнкеры, ягдюнкеры и пр.) и пажи (гофпажи, камерпажи и проч.) набиравшиеся из дворян, а также неблагородный персонал.
Административный аппарат двора (Надворный совет, канцелярия и проч.) также формировался во многом под влиянием бургундской практики.
На рубеже 1497 - 1498 годов в наследственных землях был создан Надворный совет / Hofrat - аналог королевского совета других стран. Помимо совещательных он выполнял и судебные функции (см. выше) и фактически занимался делами не только наследственных земель, но и всей империи. В 1559 году этот орган, под давлением сословий, был преобразован в Имперский надворный совет (см. выше), однако фактически остался под полным контролем Габсбургов.
Тайный совет / Geheime Rat впервые упоминается в указе Фердинанда I в феврале 1527 года. При Фердинанде в его состав входили канцлер, главный гофмейстер, главный гофмаршал, верховный канцлер Богемской короны и сыновья императора - эрцгерцоги Максимиллиан и Карл. На 1628 год совет включал 15 человек, на 1636-й - 20. Леопольд I в 1669 году преобразовал совет в Тайную конференцию / Geheime Konferenz. [Так у автора, фактически Леопольд выделил из разросшегося совета менее многочисленный орган, передав ему соответствующие функции. Сам Тайный совет продолжал существовать до 1749 года (пережив Тайную конференцию, ликвидированную в 1709 году), занимаясь в основном вопросами налогообложения, а позднее вопросами финансирования армии].
Основной функцией совета / конференции было обсуждение важнейших вопросов внешней и внутренней политики. Состав органа формировался императором. Распри Габсбургов сказались и на этой сфере - эрцгерцог Маттиас некоторое время держал свой собственный тайный совет.
Текущими делами Габсбургов занималась Надворная канцелярия / Hofkanzlei, [созданная Максимилианом I в 1497 году и, с переменным успехом, претендовавшая на роль имперской канцелярии. В 1559 году она была преобразована в Имперскую надворную канцелярию (см. выше)]. В 1620 году из имперской была выделена Австрийская надворная канцелярия / Österreichische Hofkanzlei занимавшаяся делами австрийских наследственных земель [делами Богемии, Венгрии, позднее Трансильвании и проч. занимались отдельные канцелярии]. Ей же были переданы судебные полномочия Имперского надворного совета в наследственных землях.
Надворный военный совет / Hofkriegsrat впервые упоминается в 1556 году. Он также был создан Фердинандом I - для координации военных усилий в рамках борьбы с османами. В этой сфере также имелись проблемы с централизацией - после раздела 1564 года существовали отдельный военный совет в Штирии (отвечал за Хорватию и Славонию) и отдельное военное присутствие (Kriegstelle) в Тироле, подчинявшиеся надворному совету во многом формально. В Венгрии военные вопросы находились в ведении тамошних надора и сословий. Позднее, в XVII веке, Габсбургам удалось в значительной мере консолидировать управление военными делами.
Совет руководил военными кампаниями и ведал вопросами обеспечения армии в мирное время. Во главе органа стоял председатель / президент, ему подчинялись начальник арсеналов (Obristzeugmeister); главный провиантмейстер (Obristproviantmeister); главный мустермейстер (Oberstmustermeister), отвечавший за комплектование войск; кригсцальмейстер (Kriegszahlmeister), отвечавший за оплату службы; начальник крепостей и фортификационных работ (Bausuperintendant), позднее подчиненный главному комиссару военного строительства (Obristbaukommisar). В 1650 году была создана должность генерального военного комиссара (Generalkriegskommissar), контролировавшего вопросы интендантской службы и составлявшего годовую смету расходов. Делопроизводством совета занималась Надворная военная канцелярия (Hofkriegskanzlei).
Финансовыми делами занималось казначейство - Надворная камера / Hofkammer. В 1494 году Максимиллиан I создал ее для Тироля, в 1495-м - для Нижней и Верхней Австрии. Превратить казначейство в общеимперское ведомство не удалось из-за сопротивления сословий и в его ведении оставались лишь наследственные земли. Впрочем и здесь централизованного финансового ведомства не существовало - вышеуказанные семейные разделы и распри Габсбургов привели к дроблению финансовой организации. Раздел 1564 года привел к созданию отдельных казначейств в Граце и Инсбруке, подчинявшихся венскому лишь формально. В ходе «распри братьев» эрцгерцог Маттиас создал собственное казначейство, ведавшее контролируемой им территорией. Финансовую самостоятельность сохраняли также Богемия и Венгрия.
Воссоединение наследственных земель в XVII веке не привело к централизации финансовой системы - венское казначейство по-прежнему осуществляло лишь общее руководство региональными, сохранявшими широкую самостоятельность.
Штат Надворной камеры был установлен Фердинандом I в 1527 году. Возглавлял ее генеральный шатцмейстер / General Schatzmeister (с 1568 года - президент камеры / Kammerpräsident), ему помогали камеральный советник, хофпфеннигмейстер и камер-секретарь. [Надворной камере подчинялись отдельные нижнеавстрийская и верхнеавстрийская камеры (соответственно, в Вене и Инсбруке) и аналогичные учреждения Богемии (Прага) и Венгрии (Прессбург). Во второй четверти XVII века нижнеавстрийская камера была слита с центральной].
Т. Н. Таценко
Центральные органы управления в немецких территориальных государствах XVI века
// Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время
скрытый текстДворы территориальных князей в целом сложились уже в эпоху Средневековья. В XVI веке княжеские дворы, ранее кочевавшие от замка к замку, оседают на одном месте, появляются постоянные резиденции местных государей - Мюнхен в Баварии, Дрезден в Саксонии, Кельн-на-Шпрее (позднее часть Берлина) в Бранденбурге и т. д. Оседание дворов способствует усложнению их организации и росту численности. Так, двор Виттельсбахов в Мюнхене увеличивается со 162 чел. (1508 год) до 700 (1591).
Структура дворов регулировалась разнообразными уставами, поначалу общими, а позднее специализированными, отдельными для каждой сферы (судебно-административной, духовной и пр.). Во главе территоральных дворов к середине XV века повсеместно стояли гофмейстеры. В XVI веке в некоторых дворах (герцогство Саксонское, ландграфство Гессен, курфюршество Бранденбург) на первый план выдвигается маршал, сочетавший руководство двором с выполнением государственных функций. Полномочия гофмейстера в тех княжествах где он оставался главой двора (Бавария, Вюртемберг, Пфальц и пр.) были примерно такими же.
В описываемый период формируются и административные органы территориальных дворов, создаваемые под сильным влиянием габсбургской практики.
Начиная с конца XV века повсюду создаются Советы при государе, носившие разные названия - Совет (Rat), Надворный совет (Hofrat), Главный совет (Oberrat) и т. д. Образцом для них служил Надворный совет Габсбургов. Так, Надворный совет при курфюрсте Саксонии Фридрихе Мудром был образован уже в 1499 году. Аналогичное учреждение в Гессене было создано (по саксонскому образцу) в 1522 году, в 1551 году был официально создан совет в Баварии (фактически существовал и раньше) и т. д. Как и габсбургский, все эти территориальные советы сочетали совещательные функции с судебными. Члены их назначались государем, председателем совета являлся либо глава двора (гофмейстер / маршал) либо канцлер.
Тайные советы в немецких княжествах начинают оформляться в последней трети XVII века - в курфюршестве Саксония в 1574 году, в Баварии - в 1582-м, в Бранденбурге в 1604-м и т. д. Повсеместно они появляются уже в XVII - XVIII вв. Функции этих советов были аналогичны габсбургскому.
Текущими делами занималась канцелярия возглавляемая канцлером, бывшим одной из ключевых фигур в управлении княжеством. В некоторых из них (Альбертинская Саксония, Бранденбург, Вюртемберг) канцлерами назначались исключительно лица бюргерского происхождения с университетским дипломом.
Финансовыми делами князей до XVI века занималось должностное лицо именуемое казначеем (Landrentmeister) или писцом (Landschreiber), позднее - каммермейстер (Kammermeister), с несколькими помощниками. Все они отвечали в основном за ведение счетов, решения о расходовании средств принимал сам князь или высший чин двора (гофмейстер / маршал). В шестнадцатом столетии в княжествах начинают создаваться казначейства (Rentkammer), опять же, по образцу габсбургского. В герцогстве Саксония казначейство учреждается в 1524 году, в Баварии в 1550-м, в Гессене - в 1568-м и т. д. Редким исключением являлся Бранденбург, где подобного ведомства в описываемый период так и не появилось.
Число служащих в казначействах было невелико - от 4 до 8 человек (не считая секретарей и писцов). Так в Вюртемберге на 1545 - 1546 годы в казначействе служило 8 человек - каммермейстер, шесть камеральных советников и бухгалтер, помимо этого имелись секретарь и четыре писца.
В сферу ответственности казначейств, в отличии от прежних казначеев, входили финансовые дела всего княжества, а не только княжеского домена.
В описываемый период происходит переход от финансирования территориального государства и его двора за счет средств получаемых от княжеского домена и регалий к финансированию за счет налогов. Последние требовали утверждения земскими сословными собраниями (Landtag). Во многих княжествах сословия создавали собственные, независимые от князя, органы по сбору и управлению налогами - Сословная касса (Landschaftskasse) в Вюртемберге, Кредитный фонд (Kreditwerk) в Бранденбурге и т. д. [Князья, с переменным успехом, стремились ограничить влияние сословий на финансовую политику].
Реформация привела к образованию в территориальных государствах еще и органов контроля за церковью. В протестантских княжествах после Аугсбургского мира 1555 года церковь напрямую управлялась государством. Во главе местной церкви стоял сам князь, центральным органом церковного управления был коллегиальный орган, обычно именовавшийся Консисторией (Konsistorium). Последняя состояла наполовину из протестантских священнослужителей, наполовину - из светских служащих князя и занималась как собственно церковными вопросами, так и управлением церковным имуществом и финансами. На местах, в территориальных округах (амтах), Консисторию представляли суперинтенданты из числа духовных лиц. В Вюртемберге (где центральный орган именовался Церковным советом / Kirchenrat), имелась еще и промежуточная инстанция в лице четырех генеральных суперинтендантов.
В католических княжествах также возникли органы контроля за церковью (формально им не подчинявшейся). Так, в Баварии с 1557 года существовал Духовный совет (Religion Rath / Geistlicher Rath), также состоявший как из духовных лиц, так и из светских служащих. Совет фактически надзирал за местным клиром, хозяйственной деятельностью монастырей и проч.
Местные органы управления складывались на основе прежней княжеской домениальной администрации и в шестнадцатом столетии значительная часть территории княжеств еще находилась вне их компетенции (иммунитетные церковные, дворянские и городские земли). Местный территориальный округ обычно именовался Amt (служба), Pflege (надзор) или Gericht (суд), а его глава - Amtmann, Pfleger, Richter, иногда Vogt или Hauptmann (встречались и более экзотические названия). В центральных органах княжеств в XVI веке появляются специальные служащие курирующие местные органы управления. Так, в Бранденбурге с 1577 года имелся Amtsrat (советник по амтам) - в XVII веке смененный уже отдельным органом - Amtskammer.
Служащим двора и центральных административных органов полагались денежное содержание, питание за счет государя (с середины века иногда заменяемое денежными выплатами) и придворное платье (один или два раза в год). Помимо этого, они имели судебные и налоговые привилегии (были подсудны лично государю, освобождались от некоторых земских налогов), могли расчитывать на разнообразные подарки и пожалования, а представители бюргерства, особенно широко представленные в органах управления XVI века - и на аноблирование.

* * *

* * *

* * *
В. В. Шишкин
Французский королевский двор в XVI веке
Совсем мне не понравилось. Тема интересная, но пишет автор очень плохо, текст не вычитан - множество ошибок, структура текста также крайне хаотичная и т. д.
скрытый текстДвор до Генриха III
скрытый текст
Структура французского королевского двора в целом сложилась при поздних Капетингах. При последних Капетингах - первых Валуа публичные и собственно дворовые функции королевского дома-отеля постепенно разделяются - публичные его службы, выполняющие государственные судебно-административные функции (Королевский совет, Парижский парламент, Палата счетов), отделяются от дворовых служб (даже территориально, оседая в Париже), продолжая, впрочем, считать себя частью «большого двора».
Жизнедеятельность короля, королевской семьи и двора в целом обеспечивалась основными дворовыми службами (métiers-offices), число которых со временем менялось. С XIV века их было шесть - семь (хлебная, винная, кухонная, фруктуария, конюшенная, фурьеров, с 1323 года - еще и серебрянная). Во главе служб стояли носители главный коронных чинов, обычно с приставкой Grand к названию должности. Отдельно функционировали королевская палата, военный и церковный дворы короля и охотничьи ведомства.
Общее руководство деятельностью двора («королевского отеля» - Hôtel le roi) осуществлял Главный распорядитель, с 1351 года именовавшийся Grand-Maître de France.
Статус и полномочия должностных лиц, как руководивших службами двора, так и прочих, могли ощутимо меняться, в зависимости от политических обстоятельств, личных взаимоотношений соответствующего лица с монархом и проч. Так, глава хлебной службы до 1323 года именовался Pannetier du roy (Хлебодар короля), позднее, в связи с повышением статуса должности до коронной, уже Pannetier de France (Хлебодар Франции), а с 1419 года - Grand Pannetier de France (Главный Хлебодар Франции). Позднее он вновь превратился в Pannetier de France, а при Франциске I был разжалован в Premier pannetier du Roy (Первого Хлебодара короля), лишившись высшего должностного статуса.
Важнейшую роль в структуре двора, впрочем, играли не службы, а Королевская палата / Сhambre и возглавлявший ее Grand Chambellan de France / Главный камергер*, отвечавшие за королевские покои и организацию бытовой жизни монарха. Благодаря постоянному доступу к телу короля служащих Королевской палаты только росло.
Чрезвычайно выросло со временем и влияние Premier Maître d'Hôtel / Первого гофмейстера, отвечавшего за хозяйственную часть двора. Формально он не принадлежал к числу высших коронных чинов, подчиняясь Главному распорядителю двора, однако к началу XVI столетия фактически руководил большей частью дворовых служб, выполняя еще и роль главного церемонимейстера.
В пятнадцатом столетии, в связи с обстоятельствами второго этапа Столетней войны, а затем и правления Людовика XI, французский королевский двор пришел в упадок и выглядел весьма бледно, не идя ни в какое сравнение с блестящим бургундским. Помимо королевского и бургундского дворов во Франции в это время функционировало значительное число прочих - дворы королей Наварры, герцогов Орлеанских, Бурбонских, Бретонских, Алансонских и проч.
Людовик XI, пытавшийся бороться со складывающейся практикой должностной несменяемости и даже наследования королевских должностей, потерпев в 1465 году поражение от Лиги общественного блага, вынужден был пойти на серьезные уступки оппонентам. Изданный им в 1467 году эдикт о пожизненном характере публичных должностей (прежде всего главных коронных и придворных) фактически узаконил подобную практику. Отныне король не мог сместить носителя коронной должности и мог производить назначения лишь на вакантные места, освободившиеся в результате смерти соответствующего лица или совершения им преступления (должность могла быть занята иным лицом и путем добровольной передачи прежним носителем). Монарх, впрочем, имел право упразднить саму должность (после смерти занимающего ее лица), а также сокращать полномочия должностных лиц и перераспределять их в пользу других (чем французские монархи позднее активно и пользовались).
Непосредственным ответом Людовика XI на поражение стал фактический отказ от поддержания большого двора. Король окружил себя «малым двором» из числа лично преданных лиц самого разного происхождения, кочуя вместе с ним по разным замкам и лишь в конце жизни осев в луарском замке Плесси-ле-Тур. Судя по сохранившимся расходным документам здесь ему в 1478 - 1481 годах служило всего ок. 60 человек. Супруга короля, Шарлотта Савойская, жила с детьми и еще более скромным двором в другом луарском замке - Амбуазском.
Возрождение королевского двора произошло уже при последующих монархах. Ему способствовал и распад прочих французских дворов - бургундского (1477), анжуйского (1482), орлеанского (1491), арманьякского (1497), бретонского (1499) и проч., приведший к стремительному наполнению королевского двора выходцами изо всех регионом страны и превращению его в главное место и средство управления страной**.
Двор Карла VIII на 1495 год состоял уже из 366 человек (+ 325 чел. двора королевы Анны Бретонской). Двор Франциска I на 1533 год включал 540 человек (+ 290 чел. двора королевы Клотильды Бретонской). Двор второй жены Франциска, Элеоноры Австрийской в 1547 году состоял из 391 чел.
К дворам короля и королевы (двор которой также считался младшим) добавились разнообразные младшие дворы. Так, на 1535 год имелись дворы дофина Франциска - 292 чел., его четырех сестер и братьев (всего более 300 чел.), матери короля Луизы Савойской (295 чел.) и сестры короля Маргариты Наваррской (в 1540-х годах - 368 чел.).
Общая численность двора, таким образом, составляла ок. 2 000 чел.
Жалованье обладателей ключевых придворных чинов колебалось от нескольких сотен до нескольких тысяч ливров в год, меняясь от царствования к царствованию. Нижестоящие придворные получали обычно от 200 до 1500 ливров, что не всегда покрывало их расходы на пребывание при дворе. Обладателем наивысшего жалованья (18 000 ливров) в первой половине XVI века был герцог Клод де Гиз, занимавший одновременно должности Главного камергера, Главного распорядителя волчей охоты короля (Grand veneur)** и губернатора Бургундии. За ним шел Главный распорядитель двора барон Анн де Монморанси, получавший 12 000 ливров. Общие расходы на содержание двора в 1537 году достигали 1 500 000 ливров (при общем годовом доходе в 5 550 000 ливров).
Ордонансы Франциска I и Генриха II в 1520 - 1540-х годах уравняли в правах благородных и неблагородных служащих старшего и младших дворов. В целом же организация двора, начиная с первой половины XVI века, регулировалась не столько ордонансами (требовавшими обязательной регистрации в парламенте), сколько разнообразными внутренними положениями и регламентами.
Дворец Капетингов на острове Сите королевский двор покинул в 1358 году, после восстания Этьена Марселя, сопровождавшегося захватом дворца. Первое время двор квартировал в разных местах в самом Париже - в укрепленных замках Лувр и Венсенн, позднее в особняке Сен-Поль. После бегства дофина Карла из Парижа в 1418 году французский двор долгое время вообще не имел постоянного пристанища, перемещаясь из одного французского замка в другой. Париж короли навещали лишь по особым случаям (чрезвычайные сессии парламента и проч.).
Короли первой половины XVI века продолжали вести кочевой образ жизни. Так, Франциск I на протяжении года останавливался в среднем в 25 местах, а его сын Генрих II - в 27, посетив за 12 лет правления 354 различных населенных пункта.
В марте 1528 года Франциск I известил парижский муниципалитет о своем намерении поселиться в Луврском замке, однако из-за отсутствия средств работы по его обустройству начались лишь в 1540-х годах и въехать в Лувр смог лишь Генрих II (1551?). Тем не менее, начавшийся процесс возвращения двора в Париж имел большое политическое и культурно-идеологическое значение, вернув городу столичный статус, а королевскому двору постоянный дом.
Относительно сущности восстановленного французского двора первой половины XVI века существуют различные точки зрения. По мнению одних авторов он был основан на традиционных началах, по мнению других - Франциск I создал новую систему двора, которую затем лишь совершенствовали последующие Валуа и первые Бурбоны. Так, по мнению П.-Л. Редере (которое видимо близко и автору) при Франциске главные коронные должности фактически лишились большей части полномочий, оставшись почетными, но малофункциональными постами. Их полномочия де-факто перешли к заместителям. Помимо этого, король создал значительное число новых должностей, реорганизовал военный и церковный двор, сделал часть должностей, ранее закрепленных за представителями третьего сословия, аноблирующими. Все придворные должности были распределены по четырем уровням, с четкой субординацией сверху донизу:
- почетные службы аристократов высшего ранга без реальных полномочий;
- почетные службы дворян с реальными полномочиями;
- аноблирующие службы;
- службы для неблагородного персонала.
В составе высшей французской элиты в конце XV - первой половине XVI века также произошли значительные изменения. С исчезновением суверенных домов на первый план выдвинулась знать средней руки, долгое время служившая опорой династии при «собирании земель». Желая организовать качественно иной, служилый, элитарный слой монархи начали практиковать создание новых герцогств - сеньорий высшего достоинства. Возводимые в этот ранг фьефы намеренно рассредотачивались территориально, находясь внутри королевского домена - это минимизировало сепаратистские поползновения**. Новоявленные герцоги, как правило, получали также титул пэра Франции, что давало им соответствующие привилегии (участия в заседаниях парламента, суда равными по положению лицами, исполнения почетных обязанностей на королевских церемониях и проч.). Одними из первых герцогские титулы получили представители боковых ветвей Лотарингского и Бурбонского домов - Гизы (1527), Монпансье (1538), а также самый старый баронский род страны - Монморанси (1551).
Двор Франциска I / Генриха II в итоге выглядел следующим образом.
Во главе двора стоял Главный распорядитель / Grand-Maître de France. Двор включал Королевскую палату, хозяйственные службы, охотничьи службы, военный и церковный дворы короля и пр.
Во главе Королевской палаты стоял Главный камергер / Grand Chambellan de France. Ему подчинялись камер-юнкеры / gentilhommes de la chambre (должность учреждена в 1515? году, жалованье 1200 ливров, на 1545 год - 68 человек). В 1545 году была учреждена также должность первого камер-юнкера / premier gentilhomme de la chambre, замещавшего при необходимости главного камергера и руководившего дежурной сменой камер-юнкеров.
Камер-юнкерам подчинялись камергеры / chambellans, а камергерам - камердинеры при Королевской палате / valets de la chambre и камердинеры при гардеробе / valets de garderobe. Должности камердинеров занимались неблагородными лицами, но были аноблирующими.
Камердинеры руководили привратниками / huissiers de sale и разного рода портье / portiers de l’Hôtel du roi.
Третьим по статусу придворным лицом, после Главного распорядителя и Главного камергера являлся Главный шталмейстер / Grand ecuyer de France, руководивший королевскими конюшнями. Ему подчинялись первые и прочие шталмейстеры / premier et autres ecuyers, курьеры, пажи и прочий обслуживающий персонал.
Большей частью хозяйственных служб двора руководил Первый гофмейстер / Premier Maître d'Hôtel. Ему подчинялись кухонная служба, состоявшая из подразделений обслуживающих короля (bouche) и остальной двор (gobelet); фруктуарий (доставка фруктов); служба фурьеров / квартирмейстеров (перевозки и размещение двора); серебряная служба (меблировка, посуда и проч.)
Хлебная и винная службы, возглавляемые соответственно Первым хлебодаром / Premier pannetier du Roy и Первым (с 1519 года - Главным) виночерпием / Premier (Grand) echanson, а позднее и служба стольников / форшнейдеров руководимая Premier écuyer tranchant подчинялись непосредственно Главному распорядителю двора.
Королевские охотничьи службы появились еще при Людовике Святом. Со времени Карла VI королевской охотой руководили Главный егермейстер / Grand veneur de France и Главный сокольничий / Grand fauconnier de France. При Франциске I к ним добавился Главный ловчий волков / Grand louvetier de France, с соответствующей службой.
Военный двор / дом короля в это время еще не представлял собой единого целого, включая несколько отдельных, не связанных между собой формирований. Он включал несколько рот лейб-гвардии, роту «вороньего клюва», швейцарскую роту и отряд привратной стражи, общей численностью примерно в 750 человек.
Конная лейб-гвардия до 1545 года состояла из двух рот - шотландской (Gardes Ecossais, учреждена в 1445 году) и французской (учреждена в 1473 году). Французская рота (состоявшая из 200 человек) в 1545 году была разделена на две, в том же году была сформирована еще одна французская рота и с этого времени лейб-гвардия (gardes du corps) состояла из 4 рот (по 100 человек в каждой), дежуривших при короле поквартально, сменяя друг друга. Первой по статусу считалась шотландская рота (в XVI веке комплектовавшаяся уже в основном французами), ее капитан именовался первым капитаном лейб-гвардии (Premier Capitaine des Gardes du Corps des Rois de France). Лейб-гвардия всюду сопровождала короля и охраняла внутренние помещения его резиденции.
Уже со времен Карла VII 25 дворян шотландской роты составляли особый отряд «охраны рукава» / Garde de la manche - королевских телохранителей неотступно следующих за королем (по 6 человек в смене).
Единственным пешим подразделением военного двора была т. н. «Швейцарская сотня» / Сompagnie de Cent suisses - рота швейцарских гвардейцев, учрежденная в 1496 году. В королевских резиденциях швейцарцы охраняли задний двор, технические и хозяйственные помещения.
Рота «вороньего клюва» или «ординарных дворян охраны» (Gentilshommes ordinaries de la garde, au bec de corbin) численностью в 100 человек была создана Людовиком XI в 1464 году. В 1487 году численность ее была удвоена, со времен Франциска I подразделение именовалось также «Двумя сотнями ординарных дворян дома короля» / Deux cents gentilshommes ordinaires de la maison du Roy. Позднее, уже при Генрихе III (1586 год) рота была разделена на две (обе роты упразднены Людовиком XIV).
Название «вороний клюв» подразделение получило из-за формы своих церемониальных боевых топориков. Дворяне роты охраняли королевский кортеж при переездах и сопровождали короля во время разнообразных торжественных церемониий.
История отряда привратной стражи / garde de la porte восходила ко временам глубокой древности. Он состоял из 50 человек и отвечал за охрану внешних ворот королевской резиденции и проверку жетонов-пропусков выдававшихся служащим дежурной смены двора.
В состав королевского двора входила также дворцовая полиция - служба Главного прево королевского отеля / Grand Prévôt de l’Hôtel du Roi. Она была образована около 1450 года и на 1519 год включала, помимо самого прево, трех его заместителей-лейтенантов и 30 стрелков.
Юрисдикция Главного прево распространялась на саму королевскую резиденцию и местность радиусом в 5-6 лье (20 - 25 км) вокруг местопребывания короля. Он мог производить арест любого служащего двора (кроме носителей главных коронных чинов и руководителей служб) или иного лица в соответствующем районе - за нарушение порядка или совершение преступления.
Церковный двор короля в полной мере оформился при Франциске I. Во главе двора стоял Главный раздатчик милостыни Франции / Grand aumonier de France, игравший роль епископа двора. В его юрисдикции находился весь церковный штат двора, за исключением королевского духовника и глав королевских церкви и капеллы. Главный раздатчик координировал также деятельность церковного штата младших дворов, прежде всего двора королевы.
Сама должность раздатчика милостыни появилась еще в 1220 году, в 1486 году он был повышен до Главного раздатчика милостыни короля / Grand aumonier du Roi, а в 1523 году - уже до Главного раздатчика милостыни Франции.
Заместителем главного раздатчика был Первый раздатчик / Premier aumonier, отвечавший помимо прочего, за ежедневные службы связанные с приемом монархом пищи и отходом ко сну.
Далее шли Глава придворной часовни / Maître d’Oratoire и Глава королевской капеллы / Maître de la Chapelle отвечавшие за организацию обычных королевских месс / вечерен и торжественных богослужений. Обе должности были учреждены в 1523 году и считались равноценными. Они могли (как и должность Главного раздатчика) заниматься кардиналами церкви, но во внутренней иерархии двора стояли ниже должности последнего. Придворная часовня и капелла вместе именовались Большой капеллой / Grande Chapelle и позднее могли возглавляться одним лицом.
Четвертым по статусу лицом церковного двора считался королевский духовник / confesseur, со времен Франциска I руководивший также работой ординарных дворовых исповедников / predicateurs.
При дворе обреталось также некоторое число малолетних дворян-пажей, в штате не числившихся и жалованья не получавших. Он делились на пажей при Королевской палате, пажей при охотничьих ведомствах и почетных пажей детей короля и были постоянным источником всяческих безобразий. Общее их число неизвестно.
* С натяжкой, аналоги нашей Комнаты и постельничего.
** Легко заметить, что все это очень похоже на аналогичные процессы происходившие в то де время на другом конце Европы - в России.
*** Так у автора, ниже Grand veneur обозначен как Главный егермейстер.
Двор Екатерины Медичи
скрытый текст
Двор французской королевы как отдельное структурное образование, со своим штатом, церемониалом и бюджетом, окончательно оформился только при Анне Бретонской, на рубеже XV - XVI веков. Штат его поначалу был чисто женским, однако уже при Франциске I, из-за нехватки мест при дворе короля, двор королевы начал все больше пополняться мужчинами и вскоре уже на две трети состоял из последних.
Расцвета и вершины могущества двор достиг при королеве-матери Екатерине Медичи, в 1560 - 1580 годах.
Двор в это время состоял уже из двух частей - женской и мужской.
Во главе женской части двора стояла Гофмейстерина / Dame d’honneur, исполнявшая роль главной распорядительницы женской части двора. Эта должность появилась еще в 1387 году, при Изабелле Баварской и до 1523 года именовалась Première dame d'honneur (прочие дамы свиты королевы именовались соответственно - dame d'honneur). В 1523 году по приказу Франциска I Dame d’honneur осталась одна, лишившись приставки первая, должности прочих дам также были переименованы. Dame d’honneur избиралась из числа наиболее знатных лиц, жалованье ее составляло 1200 ливров в год.
За Dame d’honneur шли свитские дамы (dames de palais), подразделявшиеся на две категории, в зависимости от знатности. Первую составляли дамы / Dames, представительницы высшей аристократии (как правило принцессы или герцогини), обычно супруги лиц занимавших высшие посты при дворе, в армии и администрации. Их служба сводилась в основном к участию в торжественных церемониях на которых присутствовала королева, а жалованье составляло 800 ливров. Всего в 1547 - 1585 годах при дворе Екатерины Медичи служило 23 таких дамы (от 2 до 10 в год).
Вторую категорию составляли другие дамы / Аutres dames, набиравшиеся из менее знатного дворянства и обычно являвшиеся супругами различных чинов двора. Они получали по 400 ливров, кормились с королевского стола и получали разнообразные подарки. Дамы служили при королеве посменно, смены эти (3-4 месяца) обычно совпадали со сменами их мужей. Отслужившие свою смену дамы могли оставаться при дворе (не получая жалованья) и фактически жили при нем большую часть года. Эта категория придворных составляла основу женского окружения королевы и численность ее постоянно росла - 18 на 1560 год, 34 - на 1568-й, 53 - на 1578-й, 81 - на 1583-й.
К этой же категории относилась Dame d'atour - дама отвечавшая за гардероб и драгоценности королевы (должность учреждена в 1534 году). Позднее, в XVII веке, она занимала вторую позицию в иерархии женских должностей, однако в описываемый период видимо еще мало выделялась среди прочих дам. Dame d'atour руководила процессом одевания королевы.
Дамы большей частью жили за пределами дворца или замка - вместе с мужьями.
Следующий уровень составляли фрейлины / filles и их наставницы / Gouvernante des filles. Наставница (с жалованьем в 600 ливров) имелась на одна смену, ей помогала sous-gouvernante, с жалованьем в 300 ливров.
Фрейлины делилились на две категории - более привилегированных фрейлин при спальне / filles de chambre, с окладом в 400 ливров, набиравшихся из дочерей титулованной знати и прочих / filles demoiselles, с окладом в 200 ливров, представлявших среднее дворянство. Фрейлин при спальне имелось всего 6 в 1568 году и 3 - в 1578-м. Прочих было гораздо больше - 14 в 1564-м, 15 в 1576-м и 25 в 1585-м.
Фрейлины, в отличие от дам, жили в специальных помещениях возле апартаментов королевы. Они попадали ко двору в возрасте 11-15 лет и после замужества переходили в разряд autres dames, или, в случае отсутствия мест - на службу в другие женские дворы.
Неблагородную часть женского двора составляли в основном камеристки / femmes de chambre и служанки фрейлин / femmes des filles.
Камеристки набирались в основном из хороших городских фамилий и постоянно жили при королеве, прислуживая при пробуждении и отходе ко сну, заправляя кровать и проч. К этой категории относились и кормилицы королевских детей и королевская повитуха. Жалованье камеристок, в зависимости от статуса и обязанностей, составляло от 20 до 200 ливров. На 1564 год их имелось 12, на 1577 - уже 28, на 1585 - 44.
Служанки фрейлин (3-4 на смене?) следили за порядком в спальнях дежурных фрейлин, помогая им одеваться и раздеваться.
Помимо этого, к неблагородной части двора относились кастелянша, отвечавшая засмену белья и дежурные прачки (по 4 на смену).
Прочие женские дворы Франции были организованы таким же образом, отличаясь лишь численностью штата. Большая часть свитских дам служила сразу в нескольких дворах, так, почти все свитские дамы Екатерины Медичи числились в списках двора ее невестки Марии Стюарт. Заканчивая смену при одном дворе дамы, приступали к соответствующим обязанностям в другом. Фрейлины и их наставницы должности совмещать не могли.
Первым лицом мужской части двора королевы являлся капитан почетной свиты / Сhevalier d’honneur королевы. Он фактически руководил мужской частью двора и по статусу был равен Dame d’honneur, имея тот же оклад в 1200 ливров. Сhevalier d’honneur должен был повсюду сопровождать королеву. В его непосредственном подчинении находились дворяне почетной свиты (gentilshommes d’honneur) - 15 на 1585 год.
Вторым по статусу лицом мужской части двора с 1523 года являлся Первый гофмейстер / Premier maître d’Hôtel. Он занял место Главного гофмейстера / Souverain maître d’Hôtel, в XIV - XV веках возглавлявшего двор королевы, однако в 1523 году ликвидированного по политическим соображениям и замененного капитаном свиты. Первый гофмейстер (оклад 800 ливров) осуществлял общее руководство хозяйственной частью двора королевы. Ему помогали обычные гофмейстеры (оклад 600 ливров): 6 в 1560-м, 9 - в 1577-м, 12 - в 1585 году.
Хлебная и винная службы двора королевы, а также служба стольников-форшнейдеров / écuyers tranchants имели собственных руководителей (Первый хлебодар королевы и т. д.) подчинявшихся непосредственно капитану почетной свиты и по статусу стоявших ниже гофмейстеров (жалованье 400 - 500 ливров). Отдельной кухонной службы двор королевы не имел - соответствующее подразделение королевской кухни готовило для всех членов королевской семьи.
Отдельная трапеза королевы обслуживалась сменой из числа дежурных дворян-хлебодаров (всего их имелось 5 на 1560-й и 13 на 1584 год), виночерпиев (4 на 1560-й и 19 на 1583-й) и стольников (4 на 1560-й и 8 на 1585-й).
У двора королевы имелась также своя служба квартирмейстеров / maréchaux des logis, отвечавшая за его размещение (4 дворянина на 1560 год и 3 на 1585-й).
Третьим по статусу лицом мужской части двора был Первый шталмейстер / Premier ecuyer королевы, отвечавший за конюшни, выезды и прочие перемещения. При Анне Бретонской эта должность именовалась Главным шталмейстером и была второй в мужской части двора королевы, однако Франциск I понизил ее статус. Жалованье Первого шталмейстера составляло 800 ливров. Ему помогали прочие шталмейстеры (3 на 1560-й и 6 на 1583-й), с жалованьем в 400 ливров. Фактически королевские конюшни были единым ведомством и почти все чины двора королевы совмещали должности с аналогичными королевскими.
Рядовые шталмейстеры, гофмейстеры, хлебодары и проч. набирались в основном из мелкого дворянства и также обычно совмещали должности в разных дворах.
Неблагородный состав мужской части двора подчинялся напрямую капитану свиты и / или гофмейстерины, однако как это руководство осуществлялось на деле неясно.
Первое место среди этой категории служащих занимали королевские медики (ординарные врачи). Всего их на 1547 год имелось 11, однако постоянное жалованье (600 ливров) получали только трое, а остальные были приходящими. Медицинский персонал включал также аптекарей (3 чел. на 1585 год) и хирургов (6 человек на 1585 год).
Далее шел гардеробмейстер / maître de garde-robe, отвечавший видимо (вместе с двумя помощниками) за хранение служебной одежды персонала.
Камердинеры королевы / valets de la chambre (жалованье 180 ливров, 7 на 1560 год, 23 на 1583-й) были вхожи в королевские апартаменты, выполняя различные поручения королевы. Прочие камердинеры / autres valets de la chambre (17 человек на 1585 год), обслуживали остальную часть женского двора. Обе группы подчинялись первому камердинеру, отчитывавшемуся перед капитаном свиты.
Далее шли две группы привратников - привратники при Палате / huissiers de chambre и привратники в (присутственной) зале / huissiers de salle (7 и 6 человек соответственно на 1585 год, жалованье и статус аналогичны камердинерским).
Деятельность привратников курировали дежурные гофмейстеры, которым подчинялись также художники / tapissiers (отвечали за состояние ковров и шпалеров, 6 чел. на 1585 год) и т. н. работники механических профессий / gens de métier (10 на 1585 год) - золотых дел мастер, каретный мастер, столяр и проч.
Церковный двор королевы возглавлял ее Главный раздатчик милостыни (в ранге кардинала). Ему помогал Первый раздатчик милостыни, при необходимости замещавший Главного. Им подчинялись ординарные альмонарии / раздатчики - 6 на 1560-й и 32 на 1585 год.
Третьим по статусу лицом этого двора был духовник королевы (в ранге епископа). При дворе также числились исповедник, священники (4 на 1576 год), органист, певчие часовни (7 человек) и церковные служки (4 мальчика на 1576 год).
Главный и Первый раздатчики жалованья не получали (должны были жить на доходы со своих церковных бенефициев), ординарные альмонарии получали чисто символическое (5 ливров, по той же причине), духовник и прочие служащие получали от 120 до 500 ливров в год.
Собственного военного двора королева не имела и охранялась видимо подразделениями дома короля. При Генрихе III при дворах Екатерины Медичи и его супруги Луизы Лотарингской были видимо созданы небольшие военные подразделения - по роте швейцарцев и аркебузиров при каждом.
У королевы имелся также собственный совет / gens de conseil, включавший, в частности, особого генерального контролера / contrôleur général курировавшего финансовые вопросы ее двора и отчитывавшийся перед королевой и капитаном свиты.
У Екатерины Медичи, ведшей обширнейшую переписку, имелось также множество секретарей - 9 на 1560 год, 33 - на 1579 и 108 на 1585.
Общая численность двора Екатерины Медичи в 1560 году достигала, как минимум, 400 человек, в 1585 год - 600 чел. Примерно треть из них составляли женщины. Дежурная смена двора включала 100 - 150 человек, однако фактически при королеве находилось значительно больше людей, поскольку многие оставались при дворе и после завершения смены.
Двор Генриха III
скрытый текст
Определенные усилия по реформированию сложившегося при Франциске I двора предпринимались уже при Карле IX. Это было вызвано, в первую очередь, финансовыми причинами. Королевский долг к 1560 году достигал 43 млн ливров (при годовом доходе в 16 млн), затраты на королевский двор, содержащийся в основном за счет косвенных налогов, далеко выходили за грань разумного (так, на 1576 год косвенных налогов было собрано на 2 млн ливров, на двор потрачено 3,8 млн ливров).
В 1561 году содержание служащих королевского двора было уменьшено на треть, запрещено было совмещать должности более чем в двух дворах и проч. Помимо этого в 1560-х годах обычными стали задержки в выплате жалованья (иногда на несколько месяцев). Задержанные суммы обычно пускались в рост.
Позднее вводились и новые ограничения на совмещение должностей которые на практике соблюдались, в лучшем случае, выборочно (когда требовалось прижать некую конкретную персону). Издавались и другие распоряжения, призванные упорядочить и улучшить функционирование двора.
Генрих III реформированием собственного двора занимался чрезвычайно активно (регламенты 1574, 1578, 1585 годов и проч.), пытаясь одновременно повысить его функциональность - установив плотный контроль за всеми внутренними процессами (политическими, кадровыми, организационными, церемониальными), укрепить сакральный статус монарха и вытеснить с ключевых позиций сторонников Гизов и ставленников собственной матери, Екатерины Медичи. Усилия короля в целом не увенчались успехом и, как отмечает автор, только способоствовали росту отчуждения между ним и французским дворянством и последующему распаду двора.
Из конкретным мероприятий Генриха III можно отметить следующие.
Главный распорядитель двора / Grand-Maître de France (эту должность занимал Генрих де Гиз) был в значительной мере лишен реальных полномочий - за счет перераспределения функций существующих и создания новых служб, а также за счет продвижения на ключевые посты в подчиненных ему службах лояльных королю лиц. Так, из под контроля Главного распорядителя были выведены Королевская палата, Главный прево с его людьми, а также (фактически) новоучрежденные должности Главного церемонимейстера и Главного квартирьера, понижен статус Главного хлебодара (должность занимал сторонник Гизов) и пр.
Регламентом 1585 года была учреждена новая служба - упомянутого Главного церемонимейстера Франции / Grand Maître des cérémonies. Формально он подчинялся Главному распорядителю двора, но фактически - лично королю (должность была замещена одним из преданнейших сторонников короля). В обязанности Главного церемонимейстера входила организация всех дворовых и государственных церемоний.
Тем же регламентом было подтверждено существование еще одной новой должности, фактически введенной еще при Карле IX - Главного квартирмейстера / Grand maréchal des logis, возглавлявшего службу фурьеров / квартирмейстеров. Он также формально подчинялся Главному распорядителю двора, но фактически лично королю (должность опять-таки была замещена преданным сторонником Генриха III).
Существенным изменениям подверглась Королевская палата. Возглавлявший ее Главный камергер / Grand Chambellan de France (еще один член семьи Гизов - Карл Лотарингский, герцог де Майенн) также фактически лишился реальных полномочий. Фактически деятельностью Палаты теперь руководил первый камер-юнкер / premier gentilhomme de la chambre - их, впрочем, в это время имелось уже двое (служили посменно). Первому камер-юнкеру подчинялись 45 дежурных камер-юнкеров, гардеробмейстер, камердинеры и проч. Один из генриховских первых камер-юнкеров изначально был его верным сторонником, другой - ставленником Екатерины Медичи, позднее, усилиями монарха, его место также занял королевский миньон.
Камер-юнкеры / gentilhommes de la chambre теперь подразделялись на учрежденных регламентом 1585 года ординарных камер-юнкеров / камергеров) / gentilhommes ordinaries de la chambre / chambellans и дежурных камер-юнкеров / gentilhommes de la chamber en quartier.
Ординарные камер-юнкеры (5 человек в дежурной смене) теперь числились также и камергерами. Должность камергера теперь не играла самостоятельной роли, совмещаясь с должностями первых и ординарных камер-юнкеров, а также даваясь другим служащим в знак особого благоволения (на 1585 год камергеров имелось восемь)*. Дежурных камер-юнкеров имелось 45 (служили сменами по три месяца). Должности камер-юнкеров также замещались верными сторонниками короля.
Схожие изменения были произведены и в ведомстве Главного шталмейстера / Grand ecuyer de France. Рассорившись с владельцем этой должности, перешедшим на сторону Гизов, Генрих III фактически лишил его реальных полномочий. Королевские конюшни были разделены на Малые / Petite Ecurie, обслуживавшие лично короля и Большие / Grande Ecurie, обслуживавшие остальной двор. Малыми руководил верный королю Первый шталмейстер / Premier ecuyer. Главному шталмейстеру были формально оставлены Большие, однако и ими фактически позднее руководил один из королевских ординарных камер-юнкеров.
Большая часть охотничьих ведомств осталась под контролем Гизов - должности Главного егермейстера / Grand veneur и Главного сокольничего / Grand fauconnier занимали их верные сторонники. Лишь на должность Главного ловчего волков / Grand louvetier Генриху III удалось поставить преданного ему человека. Видимо в силу этого король избегал участия в охотах и они почти прекратились.
В организации службы Военного двора также произошли изменения. Лейб-гвардия теперь служила по 4 месяца вместо трех, поротный порядок службы был заменен службой по третям - в каждую дежурную смену заступала треть каждой из 4 рот лейб-гвардии (примерно 130 человек). Дежурная смена «отряда рукава» была увеличена до 12 человек. Главный прево, с его людьми, как уже отмечалось, был выведен из подчинения Главному распорядителю и подчинен непосредственно королю.
В 1585 году, в связи резким обострением обстановки в стране, был образован еще один отряд охраны короля - гвардия Сорока пяти / garde de Quarante-cinq, состоявший из 45 специально отобранных гасконских дворян, защищавших монарха денно и нощно.
Королевский двор фактически начал распадаться уже в последние годы жизни Генриха III и после гибели короля в августе 1589 года распался окончательно. После распада единого королевского какое-то время в стране одновременно функционировало целых четыре двора.
Первым из них был двор Генриха де Бурбона к которому примкнула большая часть бывших служащих двора Генриха III.
Вторым - двор Гизов в Париже, возглавлявшийся братом покойного Генриха де Гиза, герцогом Карлом Майенским, объявившим себя Главным наместником государства и короны Франции. К нему в разное время также примкнуло значительное число служащих двора Генриха III. Внутренние конфликты привели к распаду этого двора накануне вступления Генриха IV в Париж.
Третьим был двор Луизы Лотарингской - вдовы Генриха III, действовававший в 1589 - 1601 годах. После смерти мужа Луиза Лотарингская жила вместе с оставшимся при ней сравнительно небольшим двором в замке Шенонсо. После смерти вдовствующей королевы в 1601 году ее двор окончательно распался.
Четвертым был двор Маргариты де Валуа, королевы Наваррской и сестры Генриха III (см. ниже).
* После 1589 года Генрих IV вообще раздавал должность камергера, ставшую пустой синекурой, направо и налево, чем совершенно ее обесценил.
Двор Маргариты де Валуа
скрытый текст
Дворы королевский детей («детей Франции») как самостоятельные структурные подразделения королевского двора возникли еще в середине XIII века, при Людовике Святом. В соответствии со сложившейся практикой, в XVI веке дети короля жили и росли отдельно от королевского двора - в каком-либо из замков (Сен-Жермен, Фонтенбло, Амбуаз, Венсенн). По достижении 7-летнего возраста для королевского отпрыска формировался собственный двор, в 13-летнем возрасте он объявлялся совершеннолетним и присоединялся, вместе со своим двором, к большому королевскому двору.
Маргарита де Валуа (1553 - 1615), младшая сестра королей Карла IX и Генриха III, собственным двором обзавелась в 1560 году. Двор Маргариты включал около 100 человек, в т. ч. примерно 17 дворян (3 свитских дамы и 4 фрейлины, по 2 хлебодара, виночерпия, шталмейстера и стольника, казначей и контролер). Прочий персонал двора был неблагородным. Совокупное годовое жалованье этого двора составляло 19 000 ливров.
В 1578 году, в связи с отправкой Маргариты к мужу, Генриху Наваррскому, для нее был фактически сформирован новый двор. И сама Маргарита и ее двор должны были сыграть важную роль в примирении короля с лидером гугенотов и формированием двора королевы Наваррской занималась сама Екатерина Медичи. В штат двора было включено значительное число гугенотов и уроженцев Юга Франции - по политическим соображениям.
Двор 1578 года включал примерно 300 лиц, с совокупным жалованьев в 52 000 ливров. Структурно он был схож с двором Екатерины Медичи. Его женская часть включала 33 дворянок, служивших посменно (по 4 месяца) на тех же позициях, что и в доме королевы-матери - дам, прочих дам, фрейлин и проч. Жалованье их было меньше чем у служащих двора Екатерины. Неблагородная часть женского двора включала 16 человек (10 камеристок, кастелянша, две служанки фрейлин, три прачки).
Мужская часть двора включала ее фактического главу - Первого гофмейстера (жалованье - 400 ливров), с соответствующими службами (6 ординарных гофмейстеров, 8 хлебодаров, 4 виночерпия, 3 стольника, с жалованьем в 300 ливров у всех) и Первого шталмейстера (4 ординарных шталмейстера + пажи). Помимо перечисленных дворянами занимались должности канцлера и финансового контролера.
Неблагородная часть мужского двора включала семерых медиков (5 врачей, хирург и аптекарь, жалованье 300 - 470 ливров), 26 «секретарей финансов» (по 300 ливров), 28 камердинеров (по 160 ливров), а также 9 привратников (по три при королевских апартаментах, в приемной зале и при совете королевы), трех слуг фрейлин, 21 секретаря, 5 квартирмейстеров, 5 фурьеров, трех поваров, четырех хранителей посуды, 8 лакеев и проч. (жалованье от 7 до 120 ливров).
Помимо этого, у Маргариты имелся также небольшой церковный двор, включавший четырех раздатчиков милостыни, духовника, двух священников (видимо в каждой смене) и трех служителей часовни. Генрих Наваррский разрешил присутствовать в Нераке лишь нескольким священникам и руководство церковного двора - Главный раздатчик милостыни и его заместитель фактически оставалось в Париже. Фактическим руководителем церковного двора Маргариты в Нераке был католический епископ соседнего Ажена.
Военного двора у Маргариты не было, однако к ней было приставлено 10 или 20 швейцарцев гвардии короля.
Вышеописанный двор в 1578 - 1585 годах размещался в небольшом аквитанском городке Нерак, пытаясь влиять на Генриха де Бурбона и его гугенотов в указанном выше духе.
На 1585 год двор Маргариты по штату включал уже 46 женщин благородного происхождения. Мужская часть состояла из Первого гофмейстера (с подчиненными ему пятью гофмейстерами, одиннадцатью хлебодарами, десятью виночерпиями, семью стольниками), Первого шталмейстера? (4 шталмейстера), двух сюринтендантов [видимо те же канцлер и контролер], церковного двора (5 человек), 5 медиков, 5 квартирмейстеров и проч.
У Маргариты имелся также собственный совет, фактически состоявший из юристов разбросанных по местам где у нее имелись интересы (10 в Париже, по четыре в Бордо и Тулузе и проч.). Штат двора вероятно был больше штата 1578 года, однако фактически служило меньше людей - порядка 200 человек (60-70 в смене).
В 1585 году Маргарита перешла на сторону Лиги и Гизов и вынуждена была бежать из Нерака - сначала в соседний Ажен (которым владела как апанажем), а оттуда в Овернь, где, после разнообразных приключений, поселилась в замке Юссон (ноябрь 1586-го). Здесь она жила до возвращения в Париж (1605 год). Двор Маргариты последовал за ней, был вскоре формально распущен Генрихом III, однако фактически продолжал существовать и позднее.
Основу небольшого юссонского двора составляли уже представители мелких и средних дворянских семей соседних районов Оверни, хотя с Маргаритой остались и некоторые члены ее неракского и парижского дворов.
Двор в Юссоне был организован как типичный двор Валуа, порядки которого Маргарита по мере сил старалась поддерживать.
Генрих IV восстановил отношения с супругой уже в 1593 году, возобновив и финансирование ее двора. В 1599 году он официально развелся с Маргаритой, сохранившей впрочем, королевский титул и собственный двор. В 1605 году Маргарита и ее двор вернулись в Париж, где играли весьма значительную роль, способствуя восстановлению королевского двора и поддерживая историческую связь дворов Бурбонов и Валуа.
Возрождение двора при Генрихе IV
скрытый текст
Как уже отмечалось, после гибели Генриха III в августе 1589 года значительная часть служащих его двора примкнула к Генриху де Бурбону. Однако в 1589 - 1594 годах двор последнего фактически оставался чисто военным.
Воссоздание двора началось лишь после вступления Генриха IV в Париж (март 1594 года). Образцом для двора первого Бурбона служил двор Генриха III и новый двор организационно мало отличался от старого. На службу к новому королю перешла и большая часть служащих прежнего двора. Так, даже формально второй в иерархии двора пост, Главного камергера, остался за семейством Гизов - в 1595 году король вернул его Карлу де Майенну, а позднее передал сыну последнего, Генриху Лотарингскому, герцогу д'Эгийону*.
Двор Генриха IV в скором времени превзошел размерами двор Валуа, однако современникам казался хуже организованным и куда более простым - новый король, сам тяготившийся придворным церемониалом, не требовал его строгого соблюдения и от придворных. Большую часть церемониальных хлопот Генрих переложил на вторую супругу, Марию Медичи (в браке с 1600 года), главной советчицей которой, после возвращения в Париж, сделалась Маргарита де Валуа. Новый брак короля привел и к восстановлению женской части двора, до этого времени формально отсутствовавшей.
Из структурных изменений можно отметить расширение военного двора - отряд Сорока пяти был распущен после смерти Генриха III, однако Генрих IV включил в состав двора две новых роты - легкоконную / шеволежеров, в 1592 году и карабинеров - в 1600-м**.
* Должность Главного распорядителя Гизам, впрочем, пришлось отдать. В 1594 году Генрих IV заставил Карла Лотарингского (сына убитого главы Лиги Генриха де Гиза) отказаться от должности в пользу двоюродного брата короля Карла де Бурбона, графа Суассонского.
[**В 1609 была сформирована еще и рота жандармов.]
Французский королевский двор в XVI веке
Совсем мне не понравилось. Тема интересная, но пишет автор очень плохо, текст не вычитан - множество ошибок, структура текста также крайне хаотичная и т. д.
скрытый текстДвор до Генриха III
скрытый текст
Структура французского королевского двора в целом сложилась при поздних Капетингах. При последних Капетингах - первых Валуа публичные и собственно дворовые функции королевского дома-отеля постепенно разделяются - публичные его службы, выполняющие государственные судебно-административные функции (Королевский совет, Парижский парламент, Палата счетов), отделяются от дворовых служб (даже территориально, оседая в Париже), продолжая, впрочем, считать себя частью «большого двора».
Жизнедеятельность короля, королевской семьи и двора в целом обеспечивалась основными дворовыми службами (métiers-offices), число которых со временем менялось. С XIV века их было шесть - семь (хлебная, винная, кухонная, фруктуария, конюшенная, фурьеров, с 1323 года - еще и серебрянная). Во главе служб стояли носители главный коронных чинов, обычно с приставкой Grand к названию должности. Отдельно функционировали королевская палата, военный и церковный дворы короля и охотничьи ведомства.
Общее руководство деятельностью двора («королевского отеля» - Hôtel le roi) осуществлял Главный распорядитель, с 1351 года именовавшийся Grand-Maître de France.
Статус и полномочия должностных лиц, как руководивших службами двора, так и прочих, могли ощутимо меняться, в зависимости от политических обстоятельств, личных взаимоотношений соответствующего лица с монархом и проч. Так, глава хлебной службы до 1323 года именовался Pannetier du roy (Хлебодар короля), позднее, в связи с повышением статуса должности до коронной, уже Pannetier de France (Хлебодар Франции), а с 1419 года - Grand Pannetier de France (Главный Хлебодар Франции). Позднее он вновь превратился в Pannetier de France, а при Франциске I был разжалован в Premier pannetier du Roy (Первого Хлебодара короля), лишившись высшего должностного статуса.
Важнейшую роль в структуре двора, впрочем, играли не службы, а Королевская палата / Сhambre и возглавлявший ее Grand Chambellan de France / Главный камергер*, отвечавшие за королевские покои и организацию бытовой жизни монарха. Благодаря постоянному доступу к телу короля служащих Королевской палаты только росло.
Чрезвычайно выросло со временем и влияние Premier Maître d'Hôtel / Первого гофмейстера, отвечавшего за хозяйственную часть двора. Формально он не принадлежал к числу высших коронных чинов, подчиняясь Главному распорядителю двора, однако к началу XVI столетия фактически руководил большей частью дворовых служб, выполняя еще и роль главного церемонимейстера.
В пятнадцатом столетии, в связи с обстоятельствами второго этапа Столетней войны, а затем и правления Людовика XI, французский королевский двор пришел в упадок и выглядел весьма бледно, не идя ни в какое сравнение с блестящим бургундским. Помимо королевского и бургундского дворов во Франции в это время функционировало значительное число прочих - дворы королей Наварры, герцогов Орлеанских, Бурбонских, Бретонских, Алансонских и проч.
Людовик XI, пытавшийся бороться со складывающейся практикой должностной несменяемости и даже наследования королевских должностей, потерпев в 1465 году поражение от Лиги общественного блага, вынужден был пойти на серьезные уступки оппонентам. Изданный им в 1467 году эдикт о пожизненном характере публичных должностей (прежде всего главных коронных и придворных) фактически узаконил подобную практику. Отныне король не мог сместить носителя коронной должности и мог производить назначения лишь на вакантные места, освободившиеся в результате смерти соответствующего лица или совершения им преступления (должность могла быть занята иным лицом и путем добровольной передачи прежним носителем). Монарх, впрочем, имел право упразднить саму должность (после смерти занимающего ее лица), а также сокращать полномочия должностных лиц и перераспределять их в пользу других (чем французские монархи позднее активно и пользовались).
Непосредственным ответом Людовика XI на поражение стал фактический отказ от поддержания большого двора. Король окружил себя «малым двором» из числа лично преданных лиц самого разного происхождения, кочуя вместе с ним по разным замкам и лишь в конце жизни осев в луарском замке Плесси-ле-Тур. Судя по сохранившимся расходным документам здесь ему в 1478 - 1481 годах служило всего ок. 60 человек. Супруга короля, Шарлотта Савойская, жила с детьми и еще более скромным двором в другом луарском замке - Амбуазском.
Возрождение королевского двора произошло уже при последующих монархах. Ему способствовал и распад прочих французских дворов - бургундского (1477), анжуйского (1482), орлеанского (1491), арманьякского (1497), бретонского (1499) и проч., приведший к стремительному наполнению королевского двора выходцами изо всех регионом страны и превращению его в главное место и средство управления страной**.
Двор Карла VIII на 1495 год состоял уже из 366 человек (+ 325 чел. двора королевы Анны Бретонской). Двор Франциска I на 1533 год включал 540 человек (+ 290 чел. двора королевы Клотильды Бретонской). Двор второй жены Франциска, Элеоноры Австрийской в 1547 году состоял из 391 чел.
К дворам короля и королевы (двор которой также считался младшим) добавились разнообразные младшие дворы. Так, на 1535 год имелись дворы дофина Франциска - 292 чел., его четырех сестер и братьев (всего более 300 чел.), матери короля Луизы Савойской (295 чел.) и сестры короля Маргариты Наваррской (в 1540-х годах - 368 чел.).
Общая численность двора, таким образом, составляла ок. 2 000 чел.
Жалованье обладателей ключевых придворных чинов колебалось от нескольких сотен до нескольких тысяч ливров в год, меняясь от царствования к царствованию. Нижестоящие придворные получали обычно от 200 до 1500 ливров, что не всегда покрывало их расходы на пребывание при дворе. Обладателем наивысшего жалованья (18 000 ливров) в первой половине XVI века был герцог Клод де Гиз, занимавший одновременно должности Главного камергера, Главного распорядителя волчей охоты короля (Grand veneur)** и губернатора Бургундии. За ним шел Главный распорядитель двора барон Анн де Монморанси, получавший 12 000 ливров. Общие расходы на содержание двора в 1537 году достигали 1 500 000 ливров (при общем годовом доходе в 5 550 000 ливров).
Ордонансы Франциска I и Генриха II в 1520 - 1540-х годах уравняли в правах благородных и неблагородных служащих старшего и младших дворов. В целом же организация двора, начиная с первой половины XVI века, регулировалась не столько ордонансами (требовавшими обязательной регистрации в парламенте), сколько разнообразными внутренними положениями и регламентами.
Дворец Капетингов на острове Сите королевский двор покинул в 1358 году, после восстания Этьена Марселя, сопровождавшегося захватом дворца. Первое время двор квартировал в разных местах в самом Париже - в укрепленных замках Лувр и Венсенн, позднее в особняке Сен-Поль. После бегства дофина Карла из Парижа в 1418 году французский двор долгое время вообще не имел постоянного пристанища, перемещаясь из одного французского замка в другой. Париж короли навещали лишь по особым случаям (чрезвычайные сессии парламента и проч.).
Короли первой половины XVI века продолжали вести кочевой образ жизни. Так, Франциск I на протяжении года останавливался в среднем в 25 местах, а его сын Генрих II - в 27, посетив за 12 лет правления 354 различных населенных пункта.
В марте 1528 года Франциск I известил парижский муниципалитет о своем намерении поселиться в Луврском замке, однако из-за отсутствия средств работы по его обустройству начались лишь в 1540-х годах и въехать в Лувр смог лишь Генрих II (1551?). Тем не менее, начавшийся процесс возвращения двора в Париж имел большое политическое и культурно-идеологическое значение, вернув городу столичный статус, а королевскому двору постоянный дом.
Относительно сущности восстановленного французского двора первой половины XVI века существуют различные точки зрения. По мнению одних авторов он был основан на традиционных началах, по мнению других - Франциск I создал новую систему двора, которую затем лишь совершенствовали последующие Валуа и первые Бурбоны. Так, по мнению П.-Л. Редере (которое видимо близко и автору) при Франциске главные коронные должности фактически лишились большей части полномочий, оставшись почетными, но малофункциональными постами. Их полномочия де-факто перешли к заместителям. Помимо этого, король создал значительное число новых должностей, реорганизовал военный и церковный двор, сделал часть должностей, ранее закрепленных за представителями третьего сословия, аноблирующими. Все придворные должности были распределены по четырем уровням, с четкой субординацией сверху донизу:
- почетные службы аристократов высшего ранга без реальных полномочий;
- почетные службы дворян с реальными полномочиями;
- аноблирующие службы;
- службы для неблагородного персонала.
В составе высшей французской элиты в конце XV - первой половине XVI века также произошли значительные изменения. С исчезновением суверенных домов на первый план выдвинулась знать средней руки, долгое время служившая опорой династии при «собирании земель». Желая организовать качественно иной, служилый, элитарный слой монархи начали практиковать создание новых герцогств - сеньорий высшего достоинства. Возводимые в этот ранг фьефы намеренно рассредотачивались территориально, находясь внутри королевского домена - это минимизировало сепаратистские поползновения**. Новоявленные герцоги, как правило, получали также титул пэра Франции, что давало им соответствующие привилегии (участия в заседаниях парламента, суда равными по положению лицами, исполнения почетных обязанностей на королевских церемониях и проч.). Одними из первых герцогские титулы получили представители боковых ветвей Лотарингского и Бурбонского домов - Гизы (1527), Монпансье (1538), а также самый старый баронский род страны - Монморанси (1551).
Двор Франциска I / Генриха II в итоге выглядел следующим образом.
Во главе двора стоял Главный распорядитель / Grand-Maître de France. Двор включал Королевскую палату, хозяйственные службы, охотничьи службы, военный и церковный дворы короля и пр.
Во главе Королевской палаты стоял Главный камергер / Grand Chambellan de France. Ему подчинялись камер-юнкеры / gentilhommes de la chambre (должность учреждена в 1515? году, жалованье 1200 ливров, на 1545 год - 68 человек). В 1545 году была учреждена также должность первого камер-юнкера / premier gentilhomme de la chambre, замещавшего при необходимости главного камергера и руководившего дежурной сменой камер-юнкеров.
Камер-юнкерам подчинялись камергеры / chambellans, а камергерам - камердинеры при Королевской палате / valets de la chambre и камердинеры при гардеробе / valets de garderobe. Должности камердинеров занимались неблагородными лицами, но были аноблирующими.
Камердинеры руководили привратниками / huissiers de sale и разного рода портье / portiers de l’Hôtel du roi.
Третьим по статусу придворным лицом, после Главного распорядителя и Главного камергера являлся Главный шталмейстер / Grand ecuyer de France, руководивший королевскими конюшнями. Ему подчинялись первые и прочие шталмейстеры / premier et autres ecuyers, курьеры, пажи и прочий обслуживающий персонал.
Большей частью хозяйственных служб двора руководил Первый гофмейстер / Premier Maître d'Hôtel. Ему подчинялись кухонная служба, состоявшая из подразделений обслуживающих короля (bouche) и остальной двор (gobelet); фруктуарий (доставка фруктов); служба фурьеров / квартирмейстеров (перевозки и размещение двора); серебряная служба (меблировка, посуда и проч.)
Хлебная и винная службы, возглавляемые соответственно Первым хлебодаром / Premier pannetier du Roy и Первым (с 1519 года - Главным) виночерпием / Premier (Grand) echanson, а позднее и служба стольников / форшнейдеров руководимая Premier écuyer tranchant подчинялись непосредственно Главному распорядителю двора.
Королевские охотничьи службы появились еще при Людовике Святом. Со времени Карла VI королевской охотой руководили Главный егермейстер / Grand veneur de France и Главный сокольничий / Grand fauconnier de France. При Франциске I к ним добавился Главный ловчий волков / Grand louvetier de France, с соответствующей службой.
Военный двор / дом короля в это время еще не представлял собой единого целого, включая несколько отдельных, не связанных между собой формирований. Он включал несколько рот лейб-гвардии, роту «вороньего клюва», швейцарскую роту и отряд привратной стражи, общей численностью примерно в 750 человек.
Конная лейб-гвардия до 1545 года состояла из двух рот - шотландской (Gardes Ecossais, учреждена в 1445 году) и французской (учреждена в 1473 году). Французская рота (состоявшая из 200 человек) в 1545 году была разделена на две, в том же году была сформирована еще одна французская рота и с этого времени лейб-гвардия (gardes du corps) состояла из 4 рот (по 100 человек в каждой), дежуривших при короле поквартально, сменяя друг друга. Первой по статусу считалась шотландская рота (в XVI веке комплектовавшаяся уже в основном французами), ее капитан именовался первым капитаном лейб-гвардии (Premier Capitaine des Gardes du Corps des Rois de France). Лейб-гвардия всюду сопровождала короля и охраняла внутренние помещения его резиденции.
Уже со времен Карла VII 25 дворян шотландской роты составляли особый отряд «охраны рукава» / Garde de la manche - королевских телохранителей неотступно следующих за королем (по 6 человек в смене).
Единственным пешим подразделением военного двора была т. н. «Швейцарская сотня» / Сompagnie de Cent suisses - рота швейцарских гвардейцев, учрежденная в 1496 году. В королевских резиденциях швейцарцы охраняли задний двор, технические и хозяйственные помещения.
Рота «вороньего клюва» или «ординарных дворян охраны» (Gentilshommes ordinaries de la garde, au bec de corbin) численностью в 100 человек была создана Людовиком XI в 1464 году. В 1487 году численность ее была удвоена, со времен Франциска I подразделение именовалось также «Двумя сотнями ординарных дворян дома короля» / Deux cents gentilshommes ordinaires de la maison du Roy. Позднее, уже при Генрихе III (1586 год) рота была разделена на две (обе роты упразднены Людовиком XIV).
Название «вороний клюв» подразделение получило из-за формы своих церемониальных боевых топориков. Дворяне роты охраняли королевский кортеж при переездах и сопровождали короля во время разнообразных торжественных церемониий.
История отряда привратной стражи / garde de la porte восходила ко временам глубокой древности. Он состоял из 50 человек и отвечал за охрану внешних ворот королевской резиденции и проверку жетонов-пропусков выдававшихся служащим дежурной смены двора.
В состав королевского двора входила также дворцовая полиция - служба Главного прево королевского отеля / Grand Prévôt de l’Hôtel du Roi. Она была образована около 1450 года и на 1519 год включала, помимо самого прево, трех его заместителей-лейтенантов и 30 стрелков.
Юрисдикция Главного прево распространялась на саму королевскую резиденцию и местность радиусом в 5-6 лье (20 - 25 км) вокруг местопребывания короля. Он мог производить арест любого служащего двора (кроме носителей главных коронных чинов и руководителей служб) или иного лица в соответствующем районе - за нарушение порядка или совершение преступления.
Церковный двор короля в полной мере оформился при Франциске I. Во главе двора стоял Главный раздатчик милостыни Франции / Grand aumonier de France, игравший роль епископа двора. В его юрисдикции находился весь церковный штат двора, за исключением королевского духовника и глав королевских церкви и капеллы. Главный раздатчик координировал также деятельность церковного штата младших дворов, прежде всего двора королевы.
Сама должность раздатчика милостыни появилась еще в 1220 году, в 1486 году он был повышен до Главного раздатчика милостыни короля / Grand aumonier du Roi, а в 1523 году - уже до Главного раздатчика милостыни Франции.
Заместителем главного раздатчика был Первый раздатчик / Premier aumonier, отвечавший помимо прочего, за ежедневные службы связанные с приемом монархом пищи и отходом ко сну.
Далее шли Глава придворной часовни / Maître d’Oratoire и Глава королевской капеллы / Maître de la Chapelle отвечавшие за организацию обычных королевских месс / вечерен и торжественных богослужений. Обе должности были учреждены в 1523 году и считались равноценными. Они могли (как и должность Главного раздатчика) заниматься кардиналами церкви, но во внутренней иерархии двора стояли ниже должности последнего. Придворная часовня и капелла вместе именовались Большой капеллой / Grande Chapelle и позднее могли возглавляться одним лицом.
Четвертым по статусу лицом церковного двора считался королевский духовник / confesseur, со времен Франциска I руководивший также работой ординарных дворовых исповедников / predicateurs.
При дворе обреталось также некоторое число малолетних дворян-пажей, в штате не числившихся и жалованья не получавших. Он делились на пажей при Королевской палате, пажей при охотничьих ведомствах и почетных пажей детей короля и были постоянным источником всяческих безобразий. Общее их число неизвестно.
* С натяжкой, аналоги нашей Комнаты и постельничего.
** Легко заметить, что все это очень похоже на аналогичные процессы происходившие в то де время на другом конце Европы - в России.
*** Так у автора, ниже Grand veneur обозначен как Главный егермейстер.
Двор Екатерины Медичи
скрытый текст
Двор французской королевы как отдельное структурное образование, со своим штатом, церемониалом и бюджетом, окончательно оформился только при Анне Бретонской, на рубеже XV - XVI веков. Штат его поначалу был чисто женским, однако уже при Франциске I, из-за нехватки мест при дворе короля, двор королевы начал все больше пополняться мужчинами и вскоре уже на две трети состоял из последних.
Расцвета и вершины могущества двор достиг при королеве-матери Екатерине Медичи, в 1560 - 1580 годах.
Двор в это время состоял уже из двух частей - женской и мужской.
Во главе женской части двора стояла Гофмейстерина / Dame d’honneur, исполнявшая роль главной распорядительницы женской части двора. Эта должность появилась еще в 1387 году, при Изабелле Баварской и до 1523 года именовалась Première dame d'honneur (прочие дамы свиты королевы именовались соответственно - dame d'honneur). В 1523 году по приказу Франциска I Dame d’honneur осталась одна, лишившись приставки первая, должности прочих дам также были переименованы. Dame d’honneur избиралась из числа наиболее знатных лиц, жалованье ее составляло 1200 ливров в год.
За Dame d’honneur шли свитские дамы (dames de palais), подразделявшиеся на две категории, в зависимости от знатности. Первую составляли дамы / Dames, представительницы высшей аристократии (как правило принцессы или герцогини), обычно супруги лиц занимавших высшие посты при дворе, в армии и администрации. Их служба сводилась в основном к участию в торжественных церемониях на которых присутствовала королева, а жалованье составляло 800 ливров. Всего в 1547 - 1585 годах при дворе Екатерины Медичи служило 23 таких дамы (от 2 до 10 в год).
Вторую категорию составляли другие дамы / Аutres dames, набиравшиеся из менее знатного дворянства и обычно являвшиеся супругами различных чинов двора. Они получали по 400 ливров, кормились с королевского стола и получали разнообразные подарки. Дамы служили при королеве посменно, смены эти (3-4 месяца) обычно совпадали со сменами их мужей. Отслужившие свою смену дамы могли оставаться при дворе (не получая жалованья) и фактически жили при нем большую часть года. Эта категория придворных составляла основу женского окружения королевы и численность ее постоянно росла - 18 на 1560 год, 34 - на 1568-й, 53 - на 1578-й, 81 - на 1583-й.
К этой же категории относилась Dame d'atour - дама отвечавшая за гардероб и драгоценности королевы (должность учреждена в 1534 году). Позднее, в XVII веке, она занимала вторую позицию в иерархии женских должностей, однако в описываемый период видимо еще мало выделялась среди прочих дам. Dame d'atour руководила процессом одевания королевы.
Дамы большей частью жили за пределами дворца или замка - вместе с мужьями.
Следующий уровень составляли фрейлины / filles и их наставницы / Gouvernante des filles. Наставница (с жалованьем в 600 ливров) имелась на одна смену, ей помогала sous-gouvernante, с жалованьем в 300 ливров.
Фрейлины делилились на две категории - более привилегированных фрейлин при спальне / filles de chambre, с окладом в 400 ливров, набиравшихся из дочерей титулованной знати и прочих / filles demoiselles, с окладом в 200 ливров, представлявших среднее дворянство. Фрейлин при спальне имелось всего 6 в 1568 году и 3 - в 1578-м. Прочих было гораздо больше - 14 в 1564-м, 15 в 1576-м и 25 в 1585-м.
Фрейлины, в отличие от дам, жили в специальных помещениях возле апартаментов королевы. Они попадали ко двору в возрасте 11-15 лет и после замужества переходили в разряд autres dames, или, в случае отсутствия мест - на службу в другие женские дворы.
Неблагородную часть женского двора составляли в основном камеристки / femmes de chambre и служанки фрейлин / femmes des filles.
Камеристки набирались в основном из хороших городских фамилий и постоянно жили при королеве, прислуживая при пробуждении и отходе ко сну, заправляя кровать и проч. К этой категории относились и кормилицы королевских детей и королевская повитуха. Жалованье камеристок, в зависимости от статуса и обязанностей, составляло от 20 до 200 ливров. На 1564 год их имелось 12, на 1577 - уже 28, на 1585 - 44.
Служанки фрейлин (3-4 на смене?) следили за порядком в спальнях дежурных фрейлин, помогая им одеваться и раздеваться.
Помимо этого, к неблагородной части двора относились кастелянша, отвечавшая засмену белья и дежурные прачки (по 4 на смену).
Прочие женские дворы Франции были организованы таким же образом, отличаясь лишь численностью штата. Большая часть свитских дам служила сразу в нескольких дворах, так, почти все свитские дамы Екатерины Медичи числились в списках двора ее невестки Марии Стюарт. Заканчивая смену при одном дворе дамы, приступали к соответствующим обязанностям в другом. Фрейлины и их наставницы должности совмещать не могли.
Первым лицом мужской части двора королевы являлся капитан почетной свиты / Сhevalier d’honneur королевы. Он фактически руководил мужской частью двора и по статусу был равен Dame d’honneur, имея тот же оклад в 1200 ливров. Сhevalier d’honneur должен был повсюду сопровождать королеву. В его непосредственном подчинении находились дворяне почетной свиты (gentilshommes d’honneur) - 15 на 1585 год.
Вторым по статусу лицом мужской части двора с 1523 года являлся Первый гофмейстер / Premier maître d’Hôtel. Он занял место Главного гофмейстера / Souverain maître d’Hôtel, в XIV - XV веках возглавлявшего двор королевы, однако в 1523 году ликвидированного по политическим соображениям и замененного капитаном свиты. Первый гофмейстер (оклад 800 ливров) осуществлял общее руководство хозяйственной частью двора королевы. Ему помогали обычные гофмейстеры (оклад 600 ливров): 6 в 1560-м, 9 - в 1577-м, 12 - в 1585 году.
Хлебная и винная службы двора королевы, а также служба стольников-форшнейдеров / écuyers tranchants имели собственных руководителей (Первый хлебодар королевы и т. д.) подчинявшихся непосредственно капитану почетной свиты и по статусу стоявших ниже гофмейстеров (жалованье 400 - 500 ливров). Отдельной кухонной службы двор королевы не имел - соответствующее подразделение королевской кухни готовило для всех членов королевской семьи.
Отдельная трапеза королевы обслуживалась сменой из числа дежурных дворян-хлебодаров (всего их имелось 5 на 1560-й и 13 на 1584 год), виночерпиев (4 на 1560-й и 19 на 1583-й) и стольников (4 на 1560-й и 8 на 1585-й).
У двора королевы имелась также своя служба квартирмейстеров / maréchaux des logis, отвечавшая за его размещение (4 дворянина на 1560 год и 3 на 1585-й).
Третьим по статусу лицом мужской части двора был Первый шталмейстер / Premier ecuyer королевы, отвечавший за конюшни, выезды и прочие перемещения. При Анне Бретонской эта должность именовалась Главным шталмейстером и была второй в мужской части двора королевы, однако Франциск I понизил ее статус. Жалованье Первого шталмейстера составляло 800 ливров. Ему помогали прочие шталмейстеры (3 на 1560-й и 6 на 1583-й), с жалованьем в 400 ливров. Фактически королевские конюшни были единым ведомством и почти все чины двора королевы совмещали должности с аналогичными королевскими.
Рядовые шталмейстеры, гофмейстеры, хлебодары и проч. набирались в основном из мелкого дворянства и также обычно совмещали должности в разных дворах.
Неблагородный состав мужской части двора подчинялся напрямую капитану свиты и / или гофмейстерины, однако как это руководство осуществлялось на деле неясно.
Первое место среди этой категории служащих занимали королевские медики (ординарные врачи). Всего их на 1547 год имелось 11, однако постоянное жалованье (600 ливров) получали только трое, а остальные были приходящими. Медицинский персонал включал также аптекарей (3 чел. на 1585 год) и хирургов (6 человек на 1585 год).
Далее шел гардеробмейстер / maître de garde-robe, отвечавший видимо (вместе с двумя помощниками) за хранение служебной одежды персонала.
Камердинеры королевы / valets de la chambre (жалованье 180 ливров, 7 на 1560 год, 23 на 1583-й) были вхожи в королевские апартаменты, выполняя различные поручения королевы. Прочие камердинеры / autres valets de la chambre (17 человек на 1585 год), обслуживали остальную часть женского двора. Обе группы подчинялись первому камердинеру, отчитывавшемуся перед капитаном свиты.
Далее шли две группы привратников - привратники при Палате / huissiers de chambre и привратники в (присутственной) зале / huissiers de salle (7 и 6 человек соответственно на 1585 год, жалованье и статус аналогичны камердинерским).
Деятельность привратников курировали дежурные гофмейстеры, которым подчинялись также художники / tapissiers (отвечали за состояние ковров и шпалеров, 6 чел. на 1585 год) и т. н. работники механических профессий / gens de métier (10 на 1585 год) - золотых дел мастер, каретный мастер, столяр и проч.
Церковный двор королевы возглавлял ее Главный раздатчик милостыни (в ранге кардинала). Ему помогал Первый раздатчик милостыни, при необходимости замещавший Главного. Им подчинялись ординарные альмонарии / раздатчики - 6 на 1560-й и 32 на 1585 год.
Третьим по статусу лицом этого двора был духовник королевы (в ранге епископа). При дворе также числились исповедник, священники (4 на 1576 год), органист, певчие часовни (7 человек) и церковные служки (4 мальчика на 1576 год).
Главный и Первый раздатчики жалованья не получали (должны были жить на доходы со своих церковных бенефициев), ординарные альмонарии получали чисто символическое (5 ливров, по той же причине), духовник и прочие служащие получали от 120 до 500 ливров в год.
Собственного военного двора королева не имела и охранялась видимо подразделениями дома короля. При Генрихе III при дворах Екатерины Медичи и его супруги Луизы Лотарингской были видимо созданы небольшие военные подразделения - по роте швейцарцев и аркебузиров при каждом.
У королевы имелся также собственный совет / gens de conseil, включавший, в частности, особого генерального контролера / contrôleur général курировавшего финансовые вопросы ее двора и отчитывавшийся перед королевой и капитаном свиты.
У Екатерины Медичи, ведшей обширнейшую переписку, имелось также множество секретарей - 9 на 1560 год, 33 - на 1579 и 108 на 1585.
Общая численность двора Екатерины Медичи в 1560 году достигала, как минимум, 400 человек, в 1585 год - 600 чел. Примерно треть из них составляли женщины. Дежурная смена двора включала 100 - 150 человек, однако фактически при королеве находилось значительно больше людей, поскольку многие оставались при дворе и после завершения смены.
Двор Генриха III
скрытый текст
Определенные усилия по реформированию сложившегося при Франциске I двора предпринимались уже при Карле IX. Это было вызвано, в первую очередь, финансовыми причинами. Королевский долг к 1560 году достигал 43 млн ливров (при годовом доходе в 16 млн), затраты на королевский двор, содержащийся в основном за счет косвенных налогов, далеко выходили за грань разумного (так, на 1576 год косвенных налогов было собрано на 2 млн ливров, на двор потрачено 3,8 млн ливров).
В 1561 году содержание служащих королевского двора было уменьшено на треть, запрещено было совмещать должности более чем в двух дворах и проч. Помимо этого в 1560-х годах обычными стали задержки в выплате жалованья (иногда на несколько месяцев). Задержанные суммы обычно пускались в рост.
Позднее вводились и новые ограничения на совмещение должностей которые на практике соблюдались, в лучшем случае, выборочно (когда требовалось прижать некую конкретную персону). Издавались и другие распоряжения, призванные упорядочить и улучшить функционирование двора.
Генрих III реформированием собственного двора занимался чрезвычайно активно (регламенты 1574, 1578, 1585 годов и проч.), пытаясь одновременно повысить его функциональность - установив плотный контроль за всеми внутренними процессами (политическими, кадровыми, организационными, церемониальными), укрепить сакральный статус монарха и вытеснить с ключевых позиций сторонников Гизов и ставленников собственной матери, Екатерины Медичи. Усилия короля в целом не увенчались успехом и, как отмечает автор, только способоствовали росту отчуждения между ним и французским дворянством и последующему распаду двора.
Из конкретным мероприятий Генриха III можно отметить следующие.
Главный распорядитель двора / Grand-Maître de France (эту должность занимал Генрих де Гиз) был в значительной мере лишен реальных полномочий - за счет перераспределения функций существующих и создания новых служб, а также за счет продвижения на ключевые посты в подчиненных ему службах лояльных королю лиц. Так, из под контроля Главного распорядителя были выведены Королевская палата, Главный прево с его людьми, а также (фактически) новоучрежденные должности Главного церемонимейстера и Главного квартирьера, понижен статус Главного хлебодара (должность занимал сторонник Гизов) и пр.
Регламентом 1585 года была учреждена новая служба - упомянутого Главного церемонимейстера Франции / Grand Maître des cérémonies. Формально он подчинялся Главному распорядителю двора, но фактически - лично королю (должность была замещена одним из преданнейших сторонников короля). В обязанности Главного церемонимейстера входила организация всех дворовых и государственных церемоний.
Тем же регламентом было подтверждено существование еще одной новой должности, фактически введенной еще при Карле IX - Главного квартирмейстера / Grand maréchal des logis, возглавлявшего службу фурьеров / квартирмейстеров. Он также формально подчинялся Главному распорядителю двора, но фактически лично королю (должность опять-таки была замещена преданным сторонником Генриха III).
Существенным изменениям подверглась Королевская палата. Возглавлявший ее Главный камергер / Grand Chambellan de France (еще один член семьи Гизов - Карл Лотарингский, герцог де Майенн) также фактически лишился реальных полномочий. Фактически деятельностью Палаты теперь руководил первый камер-юнкер / premier gentilhomme de la chambre - их, впрочем, в это время имелось уже двое (служили посменно). Первому камер-юнкеру подчинялись 45 дежурных камер-юнкеров, гардеробмейстер, камердинеры и проч. Один из генриховских первых камер-юнкеров изначально был его верным сторонником, другой - ставленником Екатерины Медичи, позднее, усилиями монарха, его место также занял королевский миньон.
Камер-юнкеры / gentilhommes de la chambre теперь подразделялись на учрежденных регламентом 1585 года ординарных камер-юнкеров / камергеров) / gentilhommes ordinaries de la chambre / chambellans и дежурных камер-юнкеров / gentilhommes de la chamber en quartier.
Ординарные камер-юнкеры (5 человек в дежурной смене) теперь числились также и камергерами. Должность камергера теперь не играла самостоятельной роли, совмещаясь с должностями первых и ординарных камер-юнкеров, а также даваясь другим служащим в знак особого благоволения (на 1585 год камергеров имелось восемь)*. Дежурных камер-юнкеров имелось 45 (служили сменами по три месяца). Должности камер-юнкеров также замещались верными сторонниками короля.
Схожие изменения были произведены и в ведомстве Главного шталмейстера / Grand ecuyer de France. Рассорившись с владельцем этой должности, перешедшим на сторону Гизов, Генрих III фактически лишил его реальных полномочий. Королевские конюшни были разделены на Малые / Petite Ecurie, обслуживавшие лично короля и Большие / Grande Ecurie, обслуживавшие остальной двор. Малыми руководил верный королю Первый шталмейстер / Premier ecuyer. Главному шталмейстеру были формально оставлены Большие, однако и ими фактически позднее руководил один из королевских ординарных камер-юнкеров.
Большая часть охотничьих ведомств осталась под контролем Гизов - должности Главного егермейстера / Grand veneur и Главного сокольничего / Grand fauconnier занимали их верные сторонники. Лишь на должность Главного ловчего волков / Grand louvetier Генриху III удалось поставить преданного ему человека. Видимо в силу этого король избегал участия в охотах и они почти прекратились.
В организации службы Военного двора также произошли изменения. Лейб-гвардия теперь служила по 4 месяца вместо трех, поротный порядок службы был заменен службой по третям - в каждую дежурную смену заступала треть каждой из 4 рот лейб-гвардии (примерно 130 человек). Дежурная смена «отряда рукава» была увеличена до 12 человек. Главный прево, с его людьми, как уже отмечалось, был выведен из подчинения Главному распорядителю и подчинен непосредственно королю.
В 1585 году, в связи резким обострением обстановки в стране, был образован еще один отряд охраны короля - гвардия Сорока пяти / garde de Quarante-cinq, состоявший из 45 специально отобранных гасконских дворян, защищавших монарха денно и нощно.
Королевский двор фактически начал распадаться уже в последние годы жизни Генриха III и после гибели короля в августе 1589 года распался окончательно. После распада единого королевского какое-то время в стране одновременно функционировало целых четыре двора.
Первым из них был двор Генриха де Бурбона к которому примкнула большая часть бывших служащих двора Генриха III.
Вторым - двор Гизов в Париже, возглавлявшийся братом покойного Генриха де Гиза, герцогом Карлом Майенским, объявившим себя Главным наместником государства и короны Франции. К нему в разное время также примкнуло значительное число служащих двора Генриха III. Внутренние конфликты привели к распаду этого двора накануне вступления Генриха IV в Париж.
Третьим был двор Луизы Лотарингской - вдовы Генриха III, действовававший в 1589 - 1601 годах. После смерти мужа Луиза Лотарингская жила вместе с оставшимся при ней сравнительно небольшим двором в замке Шенонсо. После смерти вдовствующей королевы в 1601 году ее двор окончательно распался.
Четвертым был двор Маргариты де Валуа, королевы Наваррской и сестры Генриха III (см. ниже).
* После 1589 года Генрих IV вообще раздавал должность камергера, ставшую пустой синекурой, направо и налево, чем совершенно ее обесценил.
Двор Маргариты де Валуа
скрытый текст
Дворы королевский детей («детей Франции») как самостоятельные структурные подразделения королевского двора возникли еще в середине XIII века, при Людовике Святом. В соответствии со сложившейся практикой, в XVI веке дети короля жили и росли отдельно от королевского двора - в каком-либо из замков (Сен-Жермен, Фонтенбло, Амбуаз, Венсенн). По достижении 7-летнего возраста для королевского отпрыска формировался собственный двор, в 13-летнем возрасте он объявлялся совершеннолетним и присоединялся, вместе со своим двором, к большому королевскому двору.
Маргарита де Валуа (1553 - 1615), младшая сестра королей Карла IX и Генриха III, собственным двором обзавелась в 1560 году. Двор Маргариты включал около 100 человек, в т. ч. примерно 17 дворян (3 свитских дамы и 4 фрейлины, по 2 хлебодара, виночерпия, шталмейстера и стольника, казначей и контролер). Прочий персонал двора был неблагородным. Совокупное годовое жалованье этого двора составляло 19 000 ливров.
В 1578 году, в связи с отправкой Маргариты к мужу, Генриху Наваррскому, для нее был фактически сформирован новый двор. И сама Маргарита и ее двор должны были сыграть важную роль в примирении короля с лидером гугенотов и формированием двора королевы Наваррской занималась сама Екатерина Медичи. В штат двора было включено значительное число гугенотов и уроженцев Юга Франции - по политическим соображениям.
Двор 1578 года включал примерно 300 лиц, с совокупным жалованьев в 52 000 ливров. Структурно он был схож с двором Екатерины Медичи. Его женская часть включала 33 дворянок, служивших посменно (по 4 месяца) на тех же позициях, что и в доме королевы-матери - дам, прочих дам, фрейлин и проч. Жалованье их было меньше чем у служащих двора Екатерины. Неблагородная часть женского двора включала 16 человек (10 камеристок, кастелянша, две служанки фрейлин, три прачки).
Мужская часть двора включала ее фактического главу - Первого гофмейстера (жалованье - 400 ливров), с соответствующими службами (6 ординарных гофмейстеров, 8 хлебодаров, 4 виночерпия, 3 стольника, с жалованьем в 300 ливров у всех) и Первого шталмейстера (4 ординарных шталмейстера + пажи). Помимо перечисленных дворянами занимались должности канцлера и финансового контролера.
Неблагородная часть мужского двора включала семерых медиков (5 врачей, хирург и аптекарь, жалованье 300 - 470 ливров), 26 «секретарей финансов» (по 300 ливров), 28 камердинеров (по 160 ливров), а также 9 привратников (по три при королевских апартаментах, в приемной зале и при совете королевы), трех слуг фрейлин, 21 секретаря, 5 квартирмейстеров, 5 фурьеров, трех поваров, четырех хранителей посуды, 8 лакеев и проч. (жалованье от 7 до 120 ливров).
Помимо этого, у Маргариты имелся также небольшой церковный двор, включавший четырех раздатчиков милостыни, духовника, двух священников (видимо в каждой смене) и трех служителей часовни. Генрих Наваррский разрешил присутствовать в Нераке лишь нескольким священникам и руководство церковного двора - Главный раздатчик милостыни и его заместитель фактически оставалось в Париже. Фактическим руководителем церковного двора Маргариты в Нераке был католический епископ соседнего Ажена.
Военного двора у Маргариты не было, однако к ней было приставлено 10 или 20 швейцарцев гвардии короля.
Вышеописанный двор в 1578 - 1585 годах размещался в небольшом аквитанском городке Нерак, пытаясь влиять на Генриха де Бурбона и его гугенотов в указанном выше духе.
На 1585 год двор Маргариты по штату включал уже 46 женщин благородного происхождения. Мужская часть состояла из Первого гофмейстера (с подчиненными ему пятью гофмейстерами, одиннадцатью хлебодарами, десятью виночерпиями, семью стольниками), Первого шталмейстера? (4 шталмейстера), двух сюринтендантов [видимо те же канцлер и контролер], церковного двора (5 человек), 5 медиков, 5 квартирмейстеров и проч.
У Маргариты имелся также собственный совет, фактически состоявший из юристов разбросанных по местам где у нее имелись интересы (10 в Париже, по четыре в Бордо и Тулузе и проч.). Штат двора вероятно был больше штата 1578 года, однако фактически служило меньше людей - порядка 200 человек (60-70 в смене).
В 1585 году Маргарита перешла на сторону Лиги и Гизов и вынуждена была бежать из Нерака - сначала в соседний Ажен (которым владела как апанажем), а оттуда в Овернь, где, после разнообразных приключений, поселилась в замке Юссон (ноябрь 1586-го). Здесь она жила до возвращения в Париж (1605 год). Двор Маргариты последовал за ней, был вскоре формально распущен Генрихом III, однако фактически продолжал существовать и позднее.
Основу небольшого юссонского двора составляли уже представители мелких и средних дворянских семей соседних районов Оверни, хотя с Маргаритой остались и некоторые члены ее неракского и парижского дворов.
Двор в Юссоне был организован как типичный двор Валуа, порядки которого Маргарита по мере сил старалась поддерживать.
Генрих IV восстановил отношения с супругой уже в 1593 году, возобновив и финансирование ее двора. В 1599 году он официально развелся с Маргаритой, сохранившей впрочем, королевский титул и собственный двор. В 1605 году Маргарита и ее двор вернулись в Париж, где играли весьма значительную роль, способствуя восстановлению королевского двора и поддерживая историческую связь дворов Бурбонов и Валуа.
Возрождение двора при Генрихе IV
скрытый текст
Как уже отмечалось, после гибели Генриха III в августе 1589 года значительная часть служащих его двора примкнула к Генриху де Бурбону. Однако в 1589 - 1594 годах двор последнего фактически оставался чисто военным.
Воссоздание двора началось лишь после вступления Генриха IV в Париж (март 1594 года). Образцом для двора первого Бурбона служил двор Генриха III и новый двор организационно мало отличался от старого. На службу к новому королю перешла и большая часть служащих прежнего двора. Так, даже формально второй в иерархии двора пост, Главного камергера, остался за семейством Гизов - в 1595 году король вернул его Карлу де Майенну, а позднее передал сыну последнего, Генриху Лотарингскому, герцогу д'Эгийону*.
Двор Генриха IV в скором времени превзошел размерами двор Валуа, однако современникам казался хуже организованным и куда более простым - новый король, сам тяготившийся придворным церемониалом, не требовал его строгого соблюдения и от придворных. Большую часть церемониальных хлопот Генрих переложил на вторую супругу, Марию Медичи (в браке с 1600 года), главной советчицей которой, после возвращения в Париж, сделалась Маргарита де Валуа. Новый брак короля привел и к восстановлению женской части двора, до этого времени формально отсутствовавшей.
Из структурных изменений можно отметить расширение военного двора - отряд Сорока пяти был распущен после смерти Генриха III, однако Генрих IV включил в состав двора две новых роты - легкоконную / шеволежеров, в 1592 году и карабинеров - в 1600-м**.
* Должность Главного распорядителя Гизам, впрочем, пришлось отдать. В 1594 году Генрих IV заставил Карла Лотарингского (сына убитого главы Лиги Генриха де Гиза) отказаться от должности в пользу двоюродного брата короля Карла де Бурбона, графа Суассонского.
[**В 1609 была сформирована еще и рота жандармов.]

* * *
Помимо фотографий Москвы Мак сделал еще пару снимков Петербурга и несколько фотографий жителей империи.
Фотография подписана публикаторами просто - Russian soldiers of different ethnicities, хотя по характерной форме легко понять, что перед нами чины Собственного Е. И. В. конвоя.

скрытый текстЗдесь уже Russian peasants hay making in Peterhof Park, хотя есть большие сомнения и в том, что это пейзане, и в том, что они косят сено.

Ну это видимо действительно мужикс
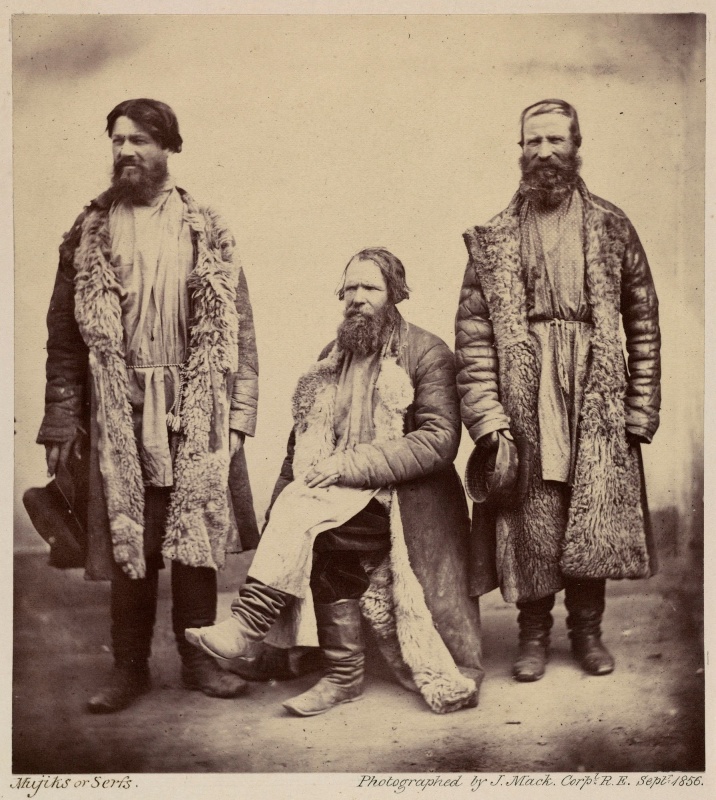
Зимний дворец

Исаакиевский собор

Фотография подписана публикаторами просто - Russian soldiers of different ethnicities, хотя по характерной форме легко понять, что перед нами чины Собственного Е. И. В. конвоя.

скрытый текстЗдесь уже Russian peasants hay making in Peterhof Park, хотя есть большие сомнения и в том, что это пейзане, и в том, что они косят сено.

Ну это видимо действительно мужикс
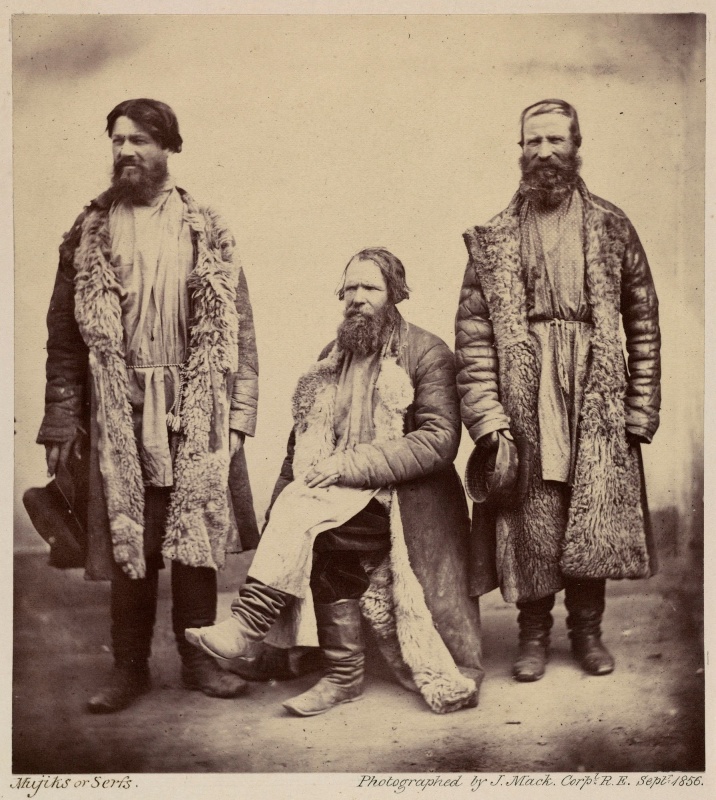
Зимний дворец

Исаакиевский собор


* * *
Фотографии Москвы 1856 года
Сделаны Джеймсом Маком, членом британской делегации прибывшей на коронацию Александра II в августе (сентябре по новому стилю) 1856 года. В ноябре 1856-го фотографии были поднесены королеве Виктории и хранятся в королевских архивах. Одни из самых ранних снимков первопрестольной.
Вид на Кремль из Замоскворечья.
Снималось видимо с колокольни Кадашевской церкви или церкви св. Николая в Толмачах. Надстройки на кремлевских башнях и Иване Великом - для коронационной иллюминации.

скрытый текстЕще один вид на Кремль из-за Москвы-реки.
Слева достраивающийся храм Христа Спасителя в лесах.

Вид на Хамовники, с церковью Николая Чудотворца.

Покровский собор. Тоже подготовлен к проведению иллюминации.

Памятник Минину и Пожарскому на его законном месте. Сзади старое здание Верхних торговых рядов, тоже с иллюминацией.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке

Новодевичий монастырь

Усадьба Баташевых на Яузской улице.
Здесь жил герцог Девонширский, глава британской делегации на предыдущей коронации - Николая I.

Резиденция Джорджа Левесон-Гоуэра, графа Гренвилля - главы британской делегации.

Все фото отсюда - https://www.rct.uk
Сделаны Джеймсом Маком, членом британской делегации прибывшей на коронацию Александра II в августе (сентябре по новому стилю) 1856 года. В ноябре 1856-го фотографии были поднесены королеве Виктории и хранятся в королевских архивах. Одни из самых ранних снимков первопрестольной.
Вид на Кремль из Замоскворечья.
Снималось видимо с колокольни Кадашевской церкви или церкви св. Николая в Толмачах. Надстройки на кремлевских башнях и Иване Великом - для коронационной иллюминации.

скрытый текстЕще один вид на Кремль из-за Москвы-реки.
Слева достраивающийся храм Христа Спасителя в лесах.

Вид на Хамовники, с церковью Николая Чудотворца.

Покровский собор. Тоже подготовлен к проведению иллюминации.

Памятник Минину и Пожарскому на его законном месте. Сзади старое здание Верхних торговых рядов, тоже с иллюминацией.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке

Новодевичий монастырь

Усадьба Баташевых на Яузской улице.
Здесь жил герцог Девонширский, глава британской делегации на предыдущей коронации - Николая I.

Резиденция Джорджа Левесон-Гоуэра, графа Гренвилля - главы британской делегации.

Все фото отсюда - https://www.rct.uk

* * *
Сергей Антонов
Банкроты и ростовщики Российской империи: долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского
Как известно, в дореформенную эпоху большинство русских подданных не имело доступа к банковскому кредиту. Это компенсировалось широчайшим распространением системы кредита частного, особенностям существования которой в последние дореформенные годы и посвящена эта книга. В целом, весьма ценная работа, много интересных наблюдений.
скрытый текстЧастный кредит
скрытый текст
Профессиональные ростовщики составляли лишь небольшую часть заимодавцев. Государство теоретически осуждало ростовщичество, однако практически, не желая ограничивать частный кредит, существенных запретов в этой сфере не вводило. Главным ограничением была максимальная процентная ставка - запрещалось брать с должников более 6% годовых (запрет отменен в 1879 году и вновь введен в 1893 году, но уже на уровне 12%), однако этот запрет легко обходился легальными способами. Ростовщики обычно тщательно соблюдали все юридические формальности и привлечь ростовщика к уголовной ответственности можно было лишь в двух случаях - если он сам признавался в ростовщической деятельности или имелись минимум два свидетеля готовые дать соответствующие показания против ростовщика. И то и другое случалось очень редко. В итоге, основным способом борьбы с ростовщичеством оставалась внесудебная административная ссылка. К ней прибегали в случаях когда на ростовщика подавались жалобы - обычно несколькими людьми, но иногда и единственным, но влиятельным.
Собственно уголовные санкции против ростовщиков были весьма скромными - после 1786 года они ограничивались лишь штрафом в размере процентов взятых сверх нормы. Уложение о наказаниях 1845 года утроило сумму штрафа, для нарушителей-рецидивистов введя краткосрочное тюремное заключение (при этом без утраты сословных и гражданских прав). Должники ростовщика при этом не освобождались от уплаты долга - с процентами не выше законных.
Состав ростовщиков был весьма разношерстным. Так, в списке петербургских ростовщиков составленном жандармами в 1867 году (всего 81 человек) 38% (23 человека) составляли женщины; 82% ростовщиков были старше 28 и моложе 51 года (средний возраст 39 лет) и лишь троим было больше 60-ти; из 64 человек, чье вероисповедание было указано, 39 были православными, 12 протестантами, 8 евреями, четверо - католиками и один - старообрядцем; социальный статус также был крайне разнообразен - дворяне, купцы, отставные чиновники, офицеры и унтер-офицеры и проч. С должников петербургские ростовщики брали от 5 до 12 (чаще всего - 10) процентов в месяц. Нередко заемщикам предлагался «льготный период» (в ходе которого видимо не начислялись проценты на проценты), длительность его сильно колебалась - он мог составлять и всего месяц и быть бессрочным.
Как отмечает автор, масштабы частного кредитования в России серьезно недооцениваются - обычно опираются на цифру полученную еще авторами «Военно-статистического обозрения Российской империи» для Воронежской губернии 1859 года (объем частной задолженности местного дворянства равнялся будто бы лишь 17% от суммы его задолженности государству, т. е. видимо казенным банкам). По мнению автора объемы частного кредитования были примерно равны или даже превосходили государственное. При этом обе кредитные системы были тесно связаны - получаемые в казенных банках под относительно низкие проценты займы нередко также раздавались в долг заимодавцами, под уже более высокий процент.
Наиболее распространенными разновидностями долговых обязательств являлись заемные письма, закладные и векселя.
Существовало две разновидности заемных писем - крепостные и домовые. Крепостные заемные письма заверялись свидетелями и регистрировались в губернских и уездных судах, что давало заимодавцу дополнительные юридические гарантии. Домовые письма свидетелей и регистрации не требовали, однако подлежали заверению у нотариуса (в течении недели после выдачи).
Закладные крепости использовались при оформлении займов под залог недвижимости - сельской или городской, они также регистрировались в судах.
Вексельное обращение в дореформенное время ограничивалось государством. Первый русский Вексельный устав 1729 года разрешал использование векселей лицам любых сословий, однако позднее правительство ограничило их использование только торговыми кругами - желая оградить крестьян и дворян от чрезмерной задолженности. В 1761 годам было запрещено выписывать векселя крестьянам, павловский Устав о банкротах (1800 год) распространил этот запрет и на дворян. В итоге, до 1862 года право пользования векселями сохраняли гильдейские купцы, дворяне состоявшие в купеческих гильдиях, иностранные купцы, крестьяне имеющие торговые свидетельства и некоторые категории мещан. В декабре 1862 года векселями было разрешено пользоваться любым лицам - кроме духовенства, нижних чинов армии и крестьян не имевших торговых свидетельств или частной земельной собственности. В 1875 году векселями разрешили пользоваться нижним чинам, а в 1906 году - и всем крестьянам.
О соотношении разных типов займов можно отчасти судить по собранным автором (как сам он указывает - неполным) данным. Так, крепостных заемных писем за 1850 год в Московской губернской судебной палате было зарегистрировано на 930 тыс. рублей, за 1852 год - на 1 118 тыс., за 1854 - на 636 тыс. и за 1864 - почти на 607 тыс. рублей. Домовых заемных писем (видимо в Москве) за 1850 год было оформлено почти на 219 тыс. рублей.
Закладных на сельскую недвижимость в Московской губернской судебной палате за 1862 год зарегистрировано на 1 899 тыс. руб., на городскую недвижимость - почти на 1 159 тыс. руб. в 1850 году и почти на 519 тыс. руб. в 1855 году.
Векселей только казенный Коммерческий банк в 1853 году дисконтировал на 25,8 млн серебряных рублей, в 1859 году - на 47,7 млн рублей.
Помимо указанных заемных писем, закладных и векселей долговые обязательства могли существовать и в других формах - сохранных расписок, неформальных расписок разного рода и устных договоренностей.
Сохранная расписка формально фиксировала передачу заимодавцем денег «на хранение» заемщику - в форме договора об аренде движимого имущества. Эту форму займа широко использовали профессиональные ростовщики, а также владельцы ломбардов. Ежегодный объем займов выдаваемых таким образом только петербургскими лицензированными («гласными») ломбардами на начало 1870-х оценивается примерно в 3 млн рублей.
Объемы неформального кредитования оценить невозможно, однако известно, что оно было чрезвычайно распространено - в дореформенные времена едва ли не большая часть долговых сделок в купеческой среде заключалась в устной форме.
Главным центром частного кредитования была Москва, за ней в предреформенные годы шли Петербург, Одесса, Варшава и Бердичев*.
Как отмечает автор, сфера частного кредитования отличалось большой социальной неоднородностью - взаймы брали и у лиц своего круга и у выше- и у нижестоящих. Так, многие дворяне брали в долг даже у собственных крепостных. Аналогичной была картина и в части выдачи кредитов. Диверсификация кредитных связей была характерна для всех слоев общества - от аристократов до мещан и крестьян.
Получение займа внутри родственного или социального круга позволяло надеяться на более щадящие условия и более снисходительное отношение в случае неплатежеспособности, однако могло сопрягаться с ограничением личной независимости.
Русское законодательство ограничивало доступ к кредиту ряда категорий лиц, прежде всего, несовершеннолетних. Лица моложе 17 лет не могли брать в долг, лицам в возрасте 17 - 21 года разрешалось брать в долг лишь с согласия опекуна. На практике молодые люди нередко пытались обмануть кредиторов, выдав себя за совершеннолетних. Суд при рассмотрении таких дел всегда аннулировал долговую сделку - даже в случае сознательного обмана кредитора заемщиком. Только в 1860-х годах Сенат несколько модифицировал соответствующие нормы законодательства - несовершеннолетний выписавший долговое обязательство, подтвердив свой возраст незаконным путем, обязан был теперь выплачивать компенсацию кредитору. Сенат разрешил также суду требовать от совершеннолетних лиц уплаты долгов сделанных до наступления совершеннолетия - если они их признавали.
В целом же, наилучшим выходом для кредитора в подобной ситуации была подача жалобы в полицию, в надежде, что угроза уголовного преследования за обман заимодавца заставит должника расплатиться.
Имущество совершеннолетних расточителей могло защищаться от кредиторов с помощью наложения опеки - на само имущество или на личность расточителя. Это обычно устраивало кредиторов, поскольку их шансы вернуть долг существенно возрастали.
Процедура банкротства была официально введена в империи Уставом о банкротах (1800 год), модифицированым в 1832 году и, с небольшими изменениями, действовавшим до 1917-го. Банкротом признавалось лицо неспособное «сполна» заплатить свои долги. Банкротство могло быть «нечаянным» (в силу обстоятельств не зависящих от воли должника), «неосторожным» (в силу его собственных ошибок) и «злонамеренным». Нечаянный банкрот после реализации имеющегося имущества освобождался от уплаты оставшегося долга. Неосторожный банкрот был обязан погасить всю задолженность. Злонамеренный банкрот, помимо полного погашения задолженности, привлекался еще и к уголовной ответственности.
На практике и определение формы банкротства и судьба долгов банкрота в значительной степени зависели от взаимоотношений последнего с кредиторами и часто были предметом переговоров и торга. Кредиторы в целом стремились прежде всего к возврату хотя бы части долга и преимущество теоретически имели банкроты демонстрировавшие готовность к сотрудничеству с заимодавцами. Однако нередко кредиторы готовы были договариваться и со злонамеренными банкротами - если видели возможность вернуть свои деньги.
Родственные связи играли важнейшую роль в системе частного кредита, являясь, в то же время, питательной средой для разнообразных конфликтов. К родственникам зачастую в первую очередь обращались за ссудой. Так, судя по судебным реестрам заемных писем и закладных в середине XIX века от 8 до 14% соответствующих сделок заключалось между близкими родственниками. Фактически доля таких сделок была вероятно еще выше, поскольку значительная их часть оформлялась без регистрации в судах (домовые заемные письма и проч.).
Внутрисемейные займы использовались также при распределении наследства - лица, согласно закону (или обычаю) не имевшие прав на получение наследства, могли использовать полученные долговые обязательства чтобы затребовать свою долю. Подобный способ использовался, например, для перевода собственности на дальних родственников или других лиц, включение которых в число официальных наследников было по каким-то причинам неудобно.
Родители иногда использовали задолженность детей для контроля за ними после достижения совершеннолетия или выхода замуж (выходящая замуж дочь, например, давала долговое обязательство отцу).
Помимо простой помощи при уплате задолженности родственные связи позволяли использовать также различные стратегии сохранения имущества. Так, родственники могли укрывать собственность неплатежеспособного лица от кредиторов. Этому особенно способствовала существовавшая в империи система раздельного владения имуществом в браке - супруги отвечали по своим долгам только собственным имуществом. Так, Устав о банкротах 1800 года разрешал кредиторам накладывать арест на имущество жены лишь в том случае, если она вела деловые операции вместе с мужем.
[Согласно мнению Государственного совета от 5 августа 1846 года «О мерах против злонамеренной передачи имений между супругами»] имущество супруги несостоятельного должника оставалось неприкосновенным. К соответствующему имуществу относились приданое, собственность полученная от родителей или иных лиц по наследству, дарственным и проч., нажитая самой супругой, а также и подаренная мужем (не менее чем за 10 лет до его несостоятельности). От супруги при этом требовались доказательства принадлежности соответствующего имущества (документы, показания свидетелей). Помимо этого, за супругой сохранялись женская одежда, половина мебели, столовых приборов, лошадей и экипажей. Супруга также допускалась к участию в процедуре банкротства - если средства ссуженные ею мужу были приобретены одним из вышеуказанных способов.
Для борьбы за сохранение семейной собственности использовались внутрисемейные займы (зачастую фиктивные, однако официально зарегистрированные в судах) - это позволяло родственникам должника входить в состав конкурсных управлений решавших судьбу банкротов.
В некоторых случаях родители ограждали часть своего имущества от кредиторов путем передачи его детям и внукам - в качестве приданого или выделения наследника. Семейная собственность могла защищаться и с помощью разнообразных превентивных мер (опека, завещание и проч.) воспрещавших переход имущества в собственность членов семьи, уязвимых для кредиторов.
Помимо семейных и личных связей в частном кредитовании широко использовались услуги разнообразных посредников (в просторечии - сводчиков), сводивших незнакомых друг с другом заемщиков и заимодавцев. Сводчик обычно нанимался заемщиком и присутствовал на предварительных переговорах и при оформлении долгового документа, возможно выступая и в качестве поручителя. Состав сводчиков был крайне разнообразен и включал представителей всех слоев населения. Сводчики использовались не только для получения частного кредита, но и при кредитовании в казенных банках (по крайней мере в Московской сохранной казне). Богатые заемщики могли наделять соответствующими полномочиями собственных управляющих, давая им карт-бланш на получение займов от своего имени (с указанием максимальной величины кредитов).
* Автор отмечает также неформальное территориальное размежевание сфер деятельности крупнейших казенных банков. Петербургская сохранная казна обслуживала Петербургскую, Новгородскую и Псковскую губернии, Белоруссию и Литву и Правобережную Малороссию; Московская сохранная казна - оставшиеся губернии Центра, Севера, Юга и Поволжья, Новороссию и Левобережную Малороссию.
Полиция, адвокатура, суды
скрытый текст
Участие полиции во взыскании долгов сводилось к трем основным действиям - полиция описывала имущество несостоятельного должника, изымавшееся в порядке уплаты долга; полиция арестовывала должника не имевшего имущества или скрывавшего таковое - он отправлялся в долговую тюрьму, где содержался под стражей за счет кредитора; полиция передавала дело в соответствующий суд - если должник заявлял что его долг уже погашен или долговое обязательство подделано.
Вмешательство администрации, прежде всего губернаторов, в рассмотрение долговых вопросов было достаточно скромным и ограничивалось в основном неформальными каналами - напрямую в судебный процесс она почти никогда не вмешивалась. Как отмечает автор, это объяснялось не особенным законопослушанием русских администраторов, а самой организацией бюрократической системы, с разделением сфер ответственности и проч.
Влияние коррупции на ход соответствующих дел автор также считает преувеличенным.
В целом, по его мнению, связи, политическое влияние и коррупция хотя и оказывали заметное влияние на рассмотрение долговых дел, однако влияние это отнюдь не являлось определяющим и вовсе не гарантировало успешного исхода подобных дел даже для самых значительных лиц.
Организованной адвокатуры на большей части территории империи в дореформенное время не существовало. Организованная адвокатура немецкого образца имелась только в западных губерниях (Царство Польское, Прибалтика). Помимо этого небольшая официальная корпорация адвокатов (присяжных стряпчих) существовала при коммерческих (арбитражных) судах.
При отсутствии организованной адвокатуры в империи существовала обширная прослойка лиц оказывающих юридические услуги своим нанимателям и официально именовавшихся поверенными (в просторечии - стряпчими). Состав поверенных был крайне разнообразен - теоретически в качестве юридического представителя могло выступать любое совершеннолетнее лицо, не лишенное законом или судом такого права. В качестве поверенных могли выступать и гражданские чиновники - за исключением служащих Сената и судебных установлений рассматривающих конкретное дело. В качестве поверенных нередко выступали и женщины - обычно близкие родственницы доверителей.
Помимо юридического представительства поверенные, даже те из них кто специализировался на судебных делах, нередко ради заработка брались и за иное посредничество разного рода - сделки по купле - продаже и т. д.
В целом, среди поверенных занятых в основном судебными делами преобладали действующие и отставные государственные служащие (нередко имевшие весьма низкий официальный статус). Верхушку этой категории лиц составляли профессиональные юристы с высшим образованием (в пореформенные времена многие из них сделались присяжными поверенными - элитой организованной адвокатуры). На нижнем конце шкалы располагались мелкие стряпчие сомнительной репутации (часто - выгнанные со службы чиновники и служители) занимавшиеся составлением разнообразных юридических документов для неграмотного «темного люда». В Москве «биржа» подобных стряпчих располагалась около здания губернских присутственных мест на Воскресенской площади, а сами они были известны в народе как «аблакаты от Иверской» (по соседней часовне). Деятельность подобных «аблакатов» продолжалась и в пореформенные годы.
Взыскание долгов еще в XVIII веке во многом осуществлялось традиционными методами. Так, правеж был отменен только в 1718 году - заменен отправкой на галеры или государственные работы. Продолжало существовать и закабаление за долги, с 1736 года именовавшееся «партикуляром».
К концу века все большее распространение получает тюремное заключение за долги, упорядоченное павловским Уставом о банкротах (1800 год). Устав запрещал подвергать аресту должников располагавших собственностью достаточной для покрытия задолженности, а также офицеров, чиновников и лиц занимавших выборные должности. Аресту могли подвергаться должники не способные расплатиться и не имевшие собственности, а также несостоятельные должники, проходившие через процедуру банкротства (в случае признания его неосторожным). Помимо этого, арест разрешался в качестве «обеспечения» предъявленного должнику гражданского иска - если тот не мог предъявить собственность достаточную для покрытия суммы иска или представить поручителя. Максимальная продолжительность ареста ограничивалась 5 годами, отбывший полный срок должник не освобождался от уплаты долга и должен был выплатить его в случае обретения какой-либо собственности.
Содержание арестованных за долги возлагалось на кредиторов. В соответствии с мнением Государственного совета от 18 ноября 1828 года сумма выделяемая кредитором на содержание должника должна была в 1,5 раза превышать казенное содержание уголовного преступника. Плата с кредиторов взималась помесячно. Должников за которых кредиторы не платили через неделю выпускали на свободу и их нельзя было вновь арестовать за тот же долг.
В 1864 году новый Устав гражданского судопроизводства существенно ограничил практику ареста за долги - запрещался арест за долг не превышающий 100 руб., арест несовершеннолетних и глубоких стариков (старше 70 лет), беременных и недавно родивших, духовных лиц, единственных кормильцев и пр. Были ограничены сроки ареста - максимальный (до 5 лет) сохранялся лишь для очень крупных долгов (более 100 тыс. руб), срок ареста по наиболее распространенным суммам задолженности (от 100 до 2 000 руб.) ограничивался 6 месяцами. Кроме того, теперь после отсидки долг заемщика аннулировался.
В 1879 году арест за долги и вовсе был отменен - за исключением некоторых случаев банкротства (при долге более 1500 руб.) и в случае вексельных исков. Помимо этого, после 1879 года он сохранялся также в регионах где еще не были введены новые судебные установления, предусмотренные реформой 1864 года.
Арест должников производился по требованию кредиторов. Последние, в целом, нечасто прибегали к подобной мере. Арест использовался в качестве способа давления на заемщиков имевших возможность, но не желавших платить, для получения кредитором хотя бы морального удовлетворения, а также в надежде на получение с должника хоть каких-нибудь денег. В последнем случае кредиторы рассчитывали в первую очередь на выкуп - в России существовала давняя традиция выкупа должников за счет пожертвований частных лиц.
Выкуп производился на Пасху и Рождество, а также по случаю каких-либо государственных торжеств (коронация и пр.). Деньги жертвовались разнообразными частными лицами (включая членов императорской фамилии) индивидуально или коллективно, сам выкуп производился официальными лицами (обычно представителями местных комитетов императорского Попечительного о тюрьмах общества), проводившими переговоры с кредиторами. Выкупались прежде всего лица «порядочные» и «хорошего поведения», жертвы разнообразных несчастных обстоятельств. Выкуп обычно покрывал лишь часть долга - на 1826 год, например, примерно 20%.
Традиция выкупа нередко использовалась нечистыми на руку личностями в целях собственного обогащения. Так, в 1856 году в московской долговой тюрьме оказалось сразу 400 должников (при обычной норме в 100 - 150 чел.) и по оценкам наблюдателей примерно половина из них была посажена подложно - в расчете на получение выкупа по случаю коронации Александра II.
Число арестованных содержавшихся непосредственно в долговых тюрьмах было относительно невелико. Так, в петербургской долговой тюрьме на 1862 год содержалось 564 человека. 442 из них было в том же году освобождено - 131 выкуплен, 280 вышло из-за отказа кредиторов от претензий или платы за содержание, 31 вышел после уплаты долга.
В московской долговой тюрьме на 1808 год сидело 60 человек, на 1817-й - 125, на 1830-й - 316 (в т. ч. 35 женщин), на 1850-й - 322, на 1862-й - 96 (все выкуплены) и т. д.
Однако, по крайней мере, в Москве, помимо долговой тюрьмы значительное число арестованных по частным долгам или недоимкам (казенным?) сидело по полицейским частям, на 1850 год - 573 чел., на 1861-й - 97 чел и т. д. Помимо этого, некоторое число должников сидело и в Московском работном доме - за неуплату казенных налогов: 49 чел. на 1850 год, 185 чел. на 1861-й и т. д.
В Москве должников с конца XVIII века держали в Бутырке, с начала XIX века - в т. н. Временной тюрьме в здании губернских присутственных мест на Воскресенской площади (позднее на этом месте было построено здание Московской думы). В 1882 году долговая тюрьма (в просторечии - Яма) была закрыта и позднее должников держали в арестном доме оборудованном в здании бывшей ткацкой фабрики Титовых (Титовский проезд на Якиманке), а затем в полицейском доме Пречистенской части.
При содержании в тюрьме должников формально полагалось разделять на сословные группы, однако фактически эта норма игнорировалась и их размещали видимо в зависимости от благосостояния или размера долга. Режим содержания был существенно мягче уголовной тюрьмы - арестованные носили собственную одежду, получали продукты с воли, их могли навещать родственники (в Москве приходя прямо в камеры) и т. д.
После екатерининской губернской реформы и до судебной реформы 1864 года судебные учреждения первой инстанции в империи были представлены сословными уездными судами (уголовные и гражданские дела дворян, а с 1801 года - и государственных крестьян), городскими магистратами (дела купцов и мещан) и надворными судами в столицах (для чиновников и офицеров не подпадающих под юрисдикцию местных уездных судов и разночинцев).
Судами второй инстанции являлись всесословные губернские палаты гражданского и уголовного суда. Помимо них на уровне губернии имелись специализированные коммерческие (арбитражные), сиротские (дела несовершеннолетних, опека и проч.), совестные (споры родителей и детей, преступления малолетних и проч.) словесные (словесные обращения по гражданским и торговым делам) суды.
Высшей аппеляционной инстанцией был Правительствующий Сенат.
Созданное Николаем I Третье отделение С. Е. И. В. судебными полномочиями не обладало, однако, помимо политических дел занималось и особо важными уголовными и разбирало споры частных лиц по некоторым имущественным и семейным делам.
Упомянутые губернские совестные суды были учреждены в 1775 году екатерининским Учреждением для управления губерний, по образцу соответствующих английских (equity court). В них разбирались гражданские и уголовные дела с участием несовершеннолетних или невменяемых лиц и тяжбы между родителями и детьми (но не между супругами).
На 1858 год в судах всех уровней рассматривалось (включая незакрытые) почти полмиллиона дел - 251 568 уголовных и 232 864 гражданских, в т. ч. 137 950 уголовных и 143 194 гражданских в судах первой инстанции; 62 407 уголовных и 108 866 гражданских - в губернских палатах (+ 1 639 в совестных судах и 4 219 в коммерческих); 3 643 уголовных и 17 449 гражданских - в Сенате (+ 66 и 404 соответственно - совместными заседаниями департаментов). Помимо этого, 26 дел (и уголовных и гражданских) рассматривалось в Государственном совете и еще 2 328 уголовных и 2 589 гражданских - в Министерстве юстиции (?).
В губернских палатах имущественными делами занимались два департамента - в одном разбирались тяжбы связанные с земельными владениями и наследованием, в другом - иски по контрактам и долгам. Помимо этого при палатах имелась крепостная экспедиция выполнявшая функции нотариата и фиксировавшая сделки купли-продажи, заемные документы и прочие частные соглашения.
Как отмечает автор, негативное представление о дореформенных судах во многом сформировано русскими авторами пореформеной эпохи, использовавшими старую судебную систему как фон для демонстрации достижений судебной реформы 1864 года.
Так, критикуемое сословное разделение судов первой инстанции во многом подрывалось существовавшей судебной практикой - дела в которых фигурировали представители разных сословий обычно рассматривались совместными заседаниями соответствующих учреждений (например уездного суда и городского магистрата). Предполагаемая малокомпетентность судов первой инстанции компенсировалась усилиями куда более профессиональных губернских палат - они фактически пересматривали приговоры по большинству уголовных дел (кроме самых мелких правонарушений), а также и по большинству гражданских - апелляция разрешалась (и почти всегда подавалась) по тяжбам на сумму более 30 руб.
Дорефоренный гражданский судебный процесс начинался в тот момент когда истец обращался с прошением в соответствующий суд первой инстанции или когда должник опротестовывал полицейскую процедуру взыскания долга. Иск подавался в суд в юрисдикции которого находилось сословие ответчика - в местности где он проживал или имел собственность (если по гражданскому делу проходило несколько ответчиков, проживавших в разных уездах губернии или в нескольких губерниях дело передавалось в палату гражданского суда той губернии «где совершились действия» приведшие к подаче исков).
Если должник не опротестовывал полицейское взыскание долга, соответствующая процедура продолжалась и после передачи дела в суд. В силу этого он должен был «обеспечить» иск, внеся залог в размере суммы служившей предметом тяжбы или сев под арест.
После открытия дела стороны предъявляли свои доказательства и отвечали на взаимные претензии - обмениваясь письменными прошениями (закон разрешал и упрощенную устную процедуру рассмотрения - «суд по форме», однако ею почти никогда не пользовались). Теоретически допускалось два «тура» обмена прошениями - первый (в течении месяца) и второй (от двух до шести месяцев), однако это правило игнорировалось уже в XVIII веке и число туров могло доходить до нескольких десятков. Допускались также промежуточные («частные») апелляционные жалобы (на нарушение порядка судопроизводства, медленное рассмотрение дела и проч.). Суд также мог делать собственные запросы - требовать предъявления документов на которые ссылались тяжущие, доказательств родства с покойным (в делах о наследстве) и проч.
Подобная «письменная» процедура позволяла сторонам контролировать темп рассмотрения дела и (при желании) максимально его затянуть. В то же время она позволяла успешно судиться даже людям со скромными средствами, связами и образованием, позволяя им участвовать в процессе даже дистанционно.
Обмен прошениями завершался когда «все доказательства от спорящих между собой будут представлены», после чего подача дополнительных прошений уже не разрешалась. Секретарь суда составлял резюме всех прошений («записку»), проверявшееся (и, при необходимости, дополнявшееся) и заверявшееся сторонами и список законоположений применимых к данному делу.
Подготовленное дело докладывалось суду на заседании, на котором могли присутствовать стороны (или их поверенные) - давая при необходимости устные пояснения (если замечали какое-то упущение) и иные лица.
Состязательность, в современном понимании, в ходе процесса отсутствовала и решение принималось в основном на основании представленных письменных «формальных» доказательств. Использование письменных доказательств способствовало росту популярности почерковедческой экспертизы (для выявления поддельных подписей и проч.). До середины XIX века она производилась в основном путем опроса судебных служителей (в основном судебных секретарей), причем число опрошенных могло составлять от нескольких человек до пары сотен. Начиная с 1860-х годов более популярной сделалась экспертиза с участием учителей каллиграфии и рисования (обычно четырех - пяти).
После слушаний по делу судьи записывали свое решение («резолюцию») в журнале суда, заверяя его подписями. После этого «записка» и «резолюция» объединялись в официальном протоколе, также подписываемом судьями.
Тяжущиеся стороны получали письменное извещение с предписанием явиться в суд в определенный день - дабы ознакомиться с решением суда и указать удовлетворены ли они им или намерены подать апелляцию.
Решение суда считалось вступившим в силу с момента подписания официального протокола. В делах по которым не полагалось апелляций или соответствующая сторона не успевала этого сделать в указанный законом срок это именовалось «окончательной законной силой».
В решении суда указывались также способы его возможного исполнения. Исполнение решения суда возлагалось на соответствующее полицейское учреждение, куда оно и передавалось.
Банкроты и ростовщики Российской империи: долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского
Как известно, в дореформенную эпоху большинство русских подданных не имело доступа к банковскому кредиту. Это компенсировалось широчайшим распространением системы кредита частного, особенностям существования которой в последние дореформенные годы и посвящена эта книга. В целом, весьма ценная работа, много интересных наблюдений.
скрытый текстЧастный кредит
скрытый текст
Профессиональные ростовщики составляли лишь небольшую часть заимодавцев. Государство теоретически осуждало ростовщичество, однако практически, не желая ограничивать частный кредит, существенных запретов в этой сфере не вводило. Главным ограничением была максимальная процентная ставка - запрещалось брать с должников более 6% годовых (запрет отменен в 1879 году и вновь введен в 1893 году, но уже на уровне 12%), однако этот запрет легко обходился легальными способами. Ростовщики обычно тщательно соблюдали все юридические формальности и привлечь ростовщика к уголовной ответственности можно было лишь в двух случаях - если он сам признавался в ростовщической деятельности или имелись минимум два свидетеля готовые дать соответствующие показания против ростовщика. И то и другое случалось очень редко. В итоге, основным способом борьбы с ростовщичеством оставалась внесудебная административная ссылка. К ней прибегали в случаях когда на ростовщика подавались жалобы - обычно несколькими людьми, но иногда и единственным, но влиятельным.
Собственно уголовные санкции против ростовщиков были весьма скромными - после 1786 года они ограничивались лишь штрафом в размере процентов взятых сверх нормы. Уложение о наказаниях 1845 года утроило сумму штрафа, для нарушителей-рецидивистов введя краткосрочное тюремное заключение (при этом без утраты сословных и гражданских прав). Должники ростовщика при этом не освобождались от уплаты долга - с процентами не выше законных.
Состав ростовщиков был весьма разношерстным. Так, в списке петербургских ростовщиков составленном жандармами в 1867 году (всего 81 человек) 38% (23 человека) составляли женщины; 82% ростовщиков были старше 28 и моложе 51 года (средний возраст 39 лет) и лишь троим было больше 60-ти; из 64 человек, чье вероисповедание было указано, 39 были православными, 12 протестантами, 8 евреями, четверо - католиками и один - старообрядцем; социальный статус также был крайне разнообразен - дворяне, купцы, отставные чиновники, офицеры и унтер-офицеры и проч. С должников петербургские ростовщики брали от 5 до 12 (чаще всего - 10) процентов в месяц. Нередко заемщикам предлагался «льготный период» (в ходе которого видимо не начислялись проценты на проценты), длительность его сильно колебалась - он мог составлять и всего месяц и быть бессрочным.
Как отмечает автор, масштабы частного кредитования в России серьезно недооцениваются - обычно опираются на цифру полученную еще авторами «Военно-статистического обозрения Российской империи» для Воронежской губернии 1859 года (объем частной задолженности местного дворянства равнялся будто бы лишь 17% от суммы его задолженности государству, т. е. видимо казенным банкам). По мнению автора объемы частного кредитования были примерно равны или даже превосходили государственное. При этом обе кредитные системы были тесно связаны - получаемые в казенных банках под относительно низкие проценты займы нередко также раздавались в долг заимодавцами, под уже более высокий процент.
Наиболее распространенными разновидностями долговых обязательств являлись заемные письма, закладные и векселя.
Существовало две разновидности заемных писем - крепостные и домовые. Крепостные заемные письма заверялись свидетелями и регистрировались в губернских и уездных судах, что давало заимодавцу дополнительные юридические гарантии. Домовые письма свидетелей и регистрации не требовали, однако подлежали заверению у нотариуса (в течении недели после выдачи).
Закладные крепости использовались при оформлении займов под залог недвижимости - сельской или городской, они также регистрировались в судах.
Вексельное обращение в дореформенное время ограничивалось государством. Первый русский Вексельный устав 1729 года разрешал использование векселей лицам любых сословий, однако позднее правительство ограничило их использование только торговыми кругами - желая оградить крестьян и дворян от чрезмерной задолженности. В 1761 годам было запрещено выписывать векселя крестьянам, павловский Устав о банкротах (1800 год) распространил этот запрет и на дворян. В итоге, до 1862 года право пользования векселями сохраняли гильдейские купцы, дворяне состоявшие в купеческих гильдиях, иностранные купцы, крестьяне имеющие торговые свидетельства и некоторые категории мещан. В декабре 1862 года векселями было разрешено пользоваться любым лицам - кроме духовенства, нижних чинов армии и крестьян не имевших торговых свидетельств или частной земельной собственности. В 1875 году векселями разрешили пользоваться нижним чинам, а в 1906 году - и всем крестьянам.
О соотношении разных типов займов можно отчасти судить по собранным автором (как сам он указывает - неполным) данным. Так, крепостных заемных писем за 1850 год в Московской губернской судебной палате было зарегистрировано на 930 тыс. рублей, за 1852 год - на 1 118 тыс., за 1854 - на 636 тыс. и за 1864 - почти на 607 тыс. рублей. Домовых заемных писем (видимо в Москве) за 1850 год было оформлено почти на 219 тыс. рублей.
Закладных на сельскую недвижимость в Московской губернской судебной палате за 1862 год зарегистрировано на 1 899 тыс. руб., на городскую недвижимость - почти на 1 159 тыс. руб. в 1850 году и почти на 519 тыс. руб. в 1855 году.
Векселей только казенный Коммерческий банк в 1853 году дисконтировал на 25,8 млн серебряных рублей, в 1859 году - на 47,7 млн рублей.
Помимо указанных заемных писем, закладных и векселей долговые обязательства могли существовать и в других формах - сохранных расписок, неформальных расписок разного рода и устных договоренностей.
Сохранная расписка формально фиксировала передачу заимодавцем денег «на хранение» заемщику - в форме договора об аренде движимого имущества. Эту форму займа широко использовали профессиональные ростовщики, а также владельцы ломбардов. Ежегодный объем займов выдаваемых таким образом только петербургскими лицензированными («гласными») ломбардами на начало 1870-х оценивается примерно в 3 млн рублей.
Объемы неформального кредитования оценить невозможно, однако известно, что оно было чрезвычайно распространено - в дореформенные времена едва ли не большая часть долговых сделок в купеческой среде заключалась в устной форме.
Главным центром частного кредитования была Москва, за ней в предреформенные годы шли Петербург, Одесса, Варшава и Бердичев*.
Как отмечает автор, сфера частного кредитования отличалось большой социальной неоднородностью - взаймы брали и у лиц своего круга и у выше- и у нижестоящих. Так, многие дворяне брали в долг даже у собственных крепостных. Аналогичной была картина и в части выдачи кредитов. Диверсификация кредитных связей была характерна для всех слоев общества - от аристократов до мещан и крестьян.
Получение займа внутри родственного или социального круга позволяло надеяться на более щадящие условия и более снисходительное отношение в случае неплатежеспособности, однако могло сопрягаться с ограничением личной независимости.
Русское законодательство ограничивало доступ к кредиту ряда категорий лиц, прежде всего, несовершеннолетних. Лица моложе 17 лет не могли брать в долг, лицам в возрасте 17 - 21 года разрешалось брать в долг лишь с согласия опекуна. На практике молодые люди нередко пытались обмануть кредиторов, выдав себя за совершеннолетних. Суд при рассмотрении таких дел всегда аннулировал долговую сделку - даже в случае сознательного обмана кредитора заемщиком. Только в 1860-х годах Сенат несколько модифицировал соответствующие нормы законодательства - несовершеннолетний выписавший долговое обязательство, подтвердив свой возраст незаконным путем, обязан был теперь выплачивать компенсацию кредитору. Сенат разрешил также суду требовать от совершеннолетних лиц уплаты долгов сделанных до наступления совершеннолетия - если они их признавали.
В целом же, наилучшим выходом для кредитора в подобной ситуации была подача жалобы в полицию, в надежде, что угроза уголовного преследования за обман заимодавца заставит должника расплатиться.
Имущество совершеннолетних расточителей могло защищаться от кредиторов с помощью наложения опеки - на само имущество или на личность расточителя. Это обычно устраивало кредиторов, поскольку их шансы вернуть долг существенно возрастали.
Процедура банкротства была официально введена в империи Уставом о банкротах (1800 год), модифицированым в 1832 году и, с небольшими изменениями, действовавшим до 1917-го. Банкротом признавалось лицо неспособное «сполна» заплатить свои долги. Банкротство могло быть «нечаянным» (в силу обстоятельств не зависящих от воли должника), «неосторожным» (в силу его собственных ошибок) и «злонамеренным». Нечаянный банкрот после реализации имеющегося имущества освобождался от уплаты оставшегося долга. Неосторожный банкрот был обязан погасить всю задолженность. Злонамеренный банкрот, помимо полного погашения задолженности, привлекался еще и к уголовной ответственности.
На практике и определение формы банкротства и судьба долгов банкрота в значительной степени зависели от взаимоотношений последнего с кредиторами и часто были предметом переговоров и торга. Кредиторы в целом стремились прежде всего к возврату хотя бы части долга и преимущество теоретически имели банкроты демонстрировавшие готовность к сотрудничеству с заимодавцами. Однако нередко кредиторы готовы были договариваться и со злонамеренными банкротами - если видели возможность вернуть свои деньги.
Родственные связи играли важнейшую роль в системе частного кредита, являясь, в то же время, питательной средой для разнообразных конфликтов. К родственникам зачастую в первую очередь обращались за ссудой. Так, судя по судебным реестрам заемных писем и закладных в середине XIX века от 8 до 14% соответствующих сделок заключалось между близкими родственниками. Фактически доля таких сделок была вероятно еще выше, поскольку значительная их часть оформлялась без регистрации в судах (домовые заемные письма и проч.).
Внутрисемейные займы использовались также при распределении наследства - лица, согласно закону (или обычаю) не имевшие прав на получение наследства, могли использовать полученные долговые обязательства чтобы затребовать свою долю. Подобный способ использовался, например, для перевода собственности на дальних родственников или других лиц, включение которых в число официальных наследников было по каким-то причинам неудобно.
Родители иногда использовали задолженность детей для контроля за ними после достижения совершеннолетия или выхода замуж (выходящая замуж дочь, например, давала долговое обязательство отцу).
Помимо простой помощи при уплате задолженности родственные связи позволяли использовать также различные стратегии сохранения имущества. Так, родственники могли укрывать собственность неплатежеспособного лица от кредиторов. Этому особенно способствовала существовавшая в империи система раздельного владения имуществом в браке - супруги отвечали по своим долгам только собственным имуществом. Так, Устав о банкротах 1800 года разрешал кредиторам накладывать арест на имущество жены лишь в том случае, если она вела деловые операции вместе с мужем.
[Согласно мнению Государственного совета от 5 августа 1846 года «О мерах против злонамеренной передачи имений между супругами»] имущество супруги несостоятельного должника оставалось неприкосновенным. К соответствующему имуществу относились приданое, собственность полученная от родителей или иных лиц по наследству, дарственным и проч., нажитая самой супругой, а также и подаренная мужем (не менее чем за 10 лет до его несостоятельности). От супруги при этом требовались доказательства принадлежности соответствующего имущества (документы, показания свидетелей). Помимо этого, за супругой сохранялись женская одежда, половина мебели, столовых приборов, лошадей и экипажей. Супруга также допускалась к участию в процедуре банкротства - если средства ссуженные ею мужу были приобретены одним из вышеуказанных способов.
Для борьбы за сохранение семейной собственности использовались внутрисемейные займы (зачастую фиктивные, однако официально зарегистрированные в судах) - это позволяло родственникам должника входить в состав конкурсных управлений решавших судьбу банкротов.
В некоторых случаях родители ограждали часть своего имущества от кредиторов путем передачи его детям и внукам - в качестве приданого или выделения наследника. Семейная собственность могла защищаться и с помощью разнообразных превентивных мер (опека, завещание и проч.) воспрещавших переход имущества в собственность членов семьи, уязвимых для кредиторов.
Помимо семейных и личных связей в частном кредитовании широко использовались услуги разнообразных посредников (в просторечии - сводчиков), сводивших незнакомых друг с другом заемщиков и заимодавцев. Сводчик обычно нанимался заемщиком и присутствовал на предварительных переговорах и при оформлении долгового документа, возможно выступая и в качестве поручителя. Состав сводчиков был крайне разнообразен и включал представителей всех слоев населения. Сводчики использовались не только для получения частного кредита, но и при кредитовании в казенных банках (по крайней мере в Московской сохранной казне). Богатые заемщики могли наделять соответствующими полномочиями собственных управляющих, давая им карт-бланш на получение займов от своего имени (с указанием максимальной величины кредитов).
* Автор отмечает также неформальное территориальное размежевание сфер деятельности крупнейших казенных банков. Петербургская сохранная казна обслуживала Петербургскую, Новгородскую и Псковскую губернии, Белоруссию и Литву и Правобережную Малороссию; Московская сохранная казна - оставшиеся губернии Центра, Севера, Юга и Поволжья, Новороссию и Левобережную Малороссию.
Полиция, адвокатура, суды
скрытый текст
Участие полиции во взыскании долгов сводилось к трем основным действиям - полиция описывала имущество несостоятельного должника, изымавшееся в порядке уплаты долга; полиция арестовывала должника не имевшего имущества или скрывавшего таковое - он отправлялся в долговую тюрьму, где содержался под стражей за счет кредитора; полиция передавала дело в соответствующий суд - если должник заявлял что его долг уже погашен или долговое обязательство подделано.
Вмешательство администрации, прежде всего губернаторов, в рассмотрение долговых вопросов было достаточно скромным и ограничивалось в основном неформальными каналами - напрямую в судебный процесс она почти никогда не вмешивалась. Как отмечает автор, это объяснялось не особенным законопослушанием русских администраторов, а самой организацией бюрократической системы, с разделением сфер ответственности и проч.
Влияние коррупции на ход соответствующих дел автор также считает преувеличенным.
В целом, по его мнению, связи, политическое влияние и коррупция хотя и оказывали заметное влияние на рассмотрение долговых дел, однако влияние это отнюдь не являлось определяющим и вовсе не гарантировало успешного исхода подобных дел даже для самых значительных лиц.
Организованной адвокатуры на большей части территории империи в дореформенное время не существовало. Организованная адвокатура немецкого образца имелась только в западных губерниях (Царство Польское, Прибалтика). Помимо этого небольшая официальная корпорация адвокатов (присяжных стряпчих) существовала при коммерческих (арбитражных) судах.
При отсутствии организованной адвокатуры в империи существовала обширная прослойка лиц оказывающих юридические услуги своим нанимателям и официально именовавшихся поверенными (в просторечии - стряпчими). Состав поверенных был крайне разнообразен - теоретически в качестве юридического представителя могло выступать любое совершеннолетнее лицо, не лишенное законом или судом такого права. В качестве поверенных могли выступать и гражданские чиновники - за исключением служащих Сената и судебных установлений рассматривающих конкретное дело. В качестве поверенных нередко выступали и женщины - обычно близкие родственницы доверителей.
Помимо юридического представительства поверенные, даже те из них кто специализировался на судебных делах, нередко ради заработка брались и за иное посредничество разного рода - сделки по купле - продаже и т. д.
В целом, среди поверенных занятых в основном судебными делами преобладали действующие и отставные государственные служащие (нередко имевшие весьма низкий официальный статус). Верхушку этой категории лиц составляли профессиональные юристы с высшим образованием (в пореформенные времена многие из них сделались присяжными поверенными - элитой организованной адвокатуры). На нижнем конце шкалы располагались мелкие стряпчие сомнительной репутации (часто - выгнанные со службы чиновники и служители) занимавшиеся составлением разнообразных юридических документов для неграмотного «темного люда». В Москве «биржа» подобных стряпчих располагалась около здания губернских присутственных мест на Воскресенской площади, а сами они были известны в народе как «аблакаты от Иверской» (по соседней часовне). Деятельность подобных «аблакатов» продолжалась и в пореформенные годы.
Взыскание долгов еще в XVIII веке во многом осуществлялось традиционными методами. Так, правеж был отменен только в 1718 году - заменен отправкой на галеры или государственные работы. Продолжало существовать и закабаление за долги, с 1736 года именовавшееся «партикуляром».
К концу века все большее распространение получает тюремное заключение за долги, упорядоченное павловским Уставом о банкротах (1800 год). Устав запрещал подвергать аресту должников располагавших собственностью достаточной для покрытия задолженности, а также офицеров, чиновников и лиц занимавших выборные должности. Аресту могли подвергаться должники не способные расплатиться и не имевшие собственности, а также несостоятельные должники, проходившие через процедуру банкротства (в случае признания его неосторожным). Помимо этого, арест разрешался в качестве «обеспечения» предъявленного должнику гражданского иска - если тот не мог предъявить собственность достаточную для покрытия суммы иска или представить поручителя. Максимальная продолжительность ареста ограничивалась 5 годами, отбывший полный срок должник не освобождался от уплаты долга и должен был выплатить его в случае обретения какой-либо собственности.
Содержание арестованных за долги возлагалось на кредиторов. В соответствии с мнением Государственного совета от 18 ноября 1828 года сумма выделяемая кредитором на содержание должника должна была в 1,5 раза превышать казенное содержание уголовного преступника. Плата с кредиторов взималась помесячно. Должников за которых кредиторы не платили через неделю выпускали на свободу и их нельзя было вновь арестовать за тот же долг.
В 1864 году новый Устав гражданского судопроизводства существенно ограничил практику ареста за долги - запрещался арест за долг не превышающий 100 руб., арест несовершеннолетних и глубоких стариков (старше 70 лет), беременных и недавно родивших, духовных лиц, единственных кормильцев и пр. Были ограничены сроки ареста - максимальный (до 5 лет) сохранялся лишь для очень крупных долгов (более 100 тыс. руб), срок ареста по наиболее распространенным суммам задолженности (от 100 до 2 000 руб.) ограничивался 6 месяцами. Кроме того, теперь после отсидки долг заемщика аннулировался.
В 1879 году арест за долги и вовсе был отменен - за исключением некоторых случаев банкротства (при долге более 1500 руб.) и в случае вексельных исков. Помимо этого, после 1879 года он сохранялся также в регионах где еще не были введены новые судебные установления, предусмотренные реформой 1864 года.
Арест должников производился по требованию кредиторов. Последние, в целом, нечасто прибегали к подобной мере. Арест использовался в качестве способа давления на заемщиков имевших возможность, но не желавших платить, для получения кредитором хотя бы морального удовлетворения, а также в надежде на получение с должника хоть каких-нибудь денег. В последнем случае кредиторы рассчитывали в первую очередь на выкуп - в России существовала давняя традиция выкупа должников за счет пожертвований частных лиц.
Выкуп производился на Пасху и Рождество, а также по случаю каких-либо государственных торжеств (коронация и пр.). Деньги жертвовались разнообразными частными лицами (включая членов императорской фамилии) индивидуально или коллективно, сам выкуп производился официальными лицами (обычно представителями местных комитетов императорского Попечительного о тюрьмах общества), проводившими переговоры с кредиторами. Выкупались прежде всего лица «порядочные» и «хорошего поведения», жертвы разнообразных несчастных обстоятельств. Выкуп обычно покрывал лишь часть долга - на 1826 год, например, примерно 20%.
Традиция выкупа нередко использовалась нечистыми на руку личностями в целях собственного обогащения. Так, в 1856 году в московской долговой тюрьме оказалось сразу 400 должников (при обычной норме в 100 - 150 чел.) и по оценкам наблюдателей примерно половина из них была посажена подложно - в расчете на получение выкупа по случаю коронации Александра II.
Число арестованных содержавшихся непосредственно в долговых тюрьмах было относительно невелико. Так, в петербургской долговой тюрьме на 1862 год содержалось 564 человека. 442 из них было в том же году освобождено - 131 выкуплен, 280 вышло из-за отказа кредиторов от претензий или платы за содержание, 31 вышел после уплаты долга.
В московской долговой тюрьме на 1808 год сидело 60 человек, на 1817-й - 125, на 1830-й - 316 (в т. ч. 35 женщин), на 1850-й - 322, на 1862-й - 96 (все выкуплены) и т. д.
Однако, по крайней мере, в Москве, помимо долговой тюрьмы значительное число арестованных по частным долгам или недоимкам (казенным?) сидело по полицейским частям, на 1850 год - 573 чел., на 1861-й - 97 чел и т. д. Помимо этого, некоторое число должников сидело и в Московском работном доме - за неуплату казенных налогов: 49 чел. на 1850 год, 185 чел. на 1861-й и т. д.
В Москве должников с конца XVIII века держали в Бутырке, с начала XIX века - в т. н. Временной тюрьме в здании губернских присутственных мест на Воскресенской площади (позднее на этом месте было построено здание Московской думы). В 1882 году долговая тюрьма (в просторечии - Яма) была закрыта и позднее должников держали в арестном доме оборудованном в здании бывшей ткацкой фабрики Титовых (Титовский проезд на Якиманке), а затем в полицейском доме Пречистенской части.
При содержании в тюрьме должников формально полагалось разделять на сословные группы, однако фактически эта норма игнорировалась и их размещали видимо в зависимости от благосостояния или размера долга. Режим содержания был существенно мягче уголовной тюрьмы - арестованные носили собственную одежду, получали продукты с воли, их могли навещать родственники (в Москве приходя прямо в камеры) и т. д.
После екатерининской губернской реформы и до судебной реформы 1864 года судебные учреждения первой инстанции в империи были представлены сословными уездными судами (уголовные и гражданские дела дворян, а с 1801 года - и государственных крестьян), городскими магистратами (дела купцов и мещан) и надворными судами в столицах (для чиновников и офицеров не подпадающих под юрисдикцию местных уездных судов и разночинцев).
Судами второй инстанции являлись всесословные губернские палаты гражданского и уголовного суда. Помимо них на уровне губернии имелись специализированные коммерческие (арбитражные), сиротские (дела несовершеннолетних, опека и проч.), совестные (споры родителей и детей, преступления малолетних и проч.) словесные (словесные обращения по гражданским и торговым делам) суды.
Высшей аппеляционной инстанцией был Правительствующий Сенат.
Созданное Николаем I Третье отделение С. Е. И. В. судебными полномочиями не обладало, однако, помимо политических дел занималось и особо важными уголовными и разбирало споры частных лиц по некоторым имущественным и семейным делам.
Упомянутые губернские совестные суды были учреждены в 1775 году екатерининским Учреждением для управления губерний, по образцу соответствующих английских (equity court). В них разбирались гражданские и уголовные дела с участием несовершеннолетних или невменяемых лиц и тяжбы между родителями и детьми (но не между супругами).
На 1858 год в судах всех уровней рассматривалось (включая незакрытые) почти полмиллиона дел - 251 568 уголовных и 232 864 гражданских, в т. ч. 137 950 уголовных и 143 194 гражданских в судах первой инстанции; 62 407 уголовных и 108 866 гражданских - в губернских палатах (+ 1 639 в совестных судах и 4 219 в коммерческих); 3 643 уголовных и 17 449 гражданских - в Сенате (+ 66 и 404 соответственно - совместными заседаниями департаментов). Помимо этого, 26 дел (и уголовных и гражданских) рассматривалось в Государственном совете и еще 2 328 уголовных и 2 589 гражданских - в Министерстве юстиции (?).
В губернских палатах имущественными делами занимались два департамента - в одном разбирались тяжбы связанные с земельными владениями и наследованием, в другом - иски по контрактам и долгам. Помимо этого при палатах имелась крепостная экспедиция выполнявшая функции нотариата и фиксировавшая сделки купли-продажи, заемные документы и прочие частные соглашения.
Как отмечает автор, негативное представление о дореформенных судах во многом сформировано русскими авторами пореформеной эпохи, использовавшими старую судебную систему как фон для демонстрации достижений судебной реформы 1864 года.
Так, критикуемое сословное разделение судов первой инстанции во многом подрывалось существовавшей судебной практикой - дела в которых фигурировали представители разных сословий обычно рассматривались совместными заседаниями соответствующих учреждений (например уездного суда и городского магистрата). Предполагаемая малокомпетентность судов первой инстанции компенсировалась усилиями куда более профессиональных губернских палат - они фактически пересматривали приговоры по большинству уголовных дел (кроме самых мелких правонарушений), а также и по большинству гражданских - апелляция разрешалась (и почти всегда подавалась) по тяжбам на сумму более 30 руб.
Дорефоренный гражданский судебный процесс начинался в тот момент когда истец обращался с прошением в соответствующий суд первой инстанции или когда должник опротестовывал полицейскую процедуру взыскания долга. Иск подавался в суд в юрисдикции которого находилось сословие ответчика - в местности где он проживал или имел собственность (если по гражданскому делу проходило несколько ответчиков, проживавших в разных уездах губернии или в нескольких губерниях дело передавалось в палату гражданского суда той губернии «где совершились действия» приведшие к подаче исков).
Если должник не опротестовывал полицейское взыскание долга, соответствующая процедура продолжалась и после передачи дела в суд. В силу этого он должен был «обеспечить» иск, внеся залог в размере суммы служившей предметом тяжбы или сев под арест.
После открытия дела стороны предъявляли свои доказательства и отвечали на взаимные претензии - обмениваясь письменными прошениями (закон разрешал и упрощенную устную процедуру рассмотрения - «суд по форме», однако ею почти никогда не пользовались). Теоретически допускалось два «тура» обмена прошениями - первый (в течении месяца) и второй (от двух до шести месяцев), однако это правило игнорировалось уже в XVIII веке и число туров могло доходить до нескольких десятков. Допускались также промежуточные («частные») апелляционные жалобы (на нарушение порядка судопроизводства, медленное рассмотрение дела и проч.). Суд также мог делать собственные запросы - требовать предъявления документов на которые ссылались тяжущие, доказательств родства с покойным (в делах о наследстве) и проч.
Подобная «письменная» процедура позволяла сторонам контролировать темп рассмотрения дела и (при желании) максимально его затянуть. В то же время она позволяла успешно судиться даже людям со скромными средствами, связами и образованием, позволяя им участвовать в процессе даже дистанционно.
Обмен прошениями завершался когда «все доказательства от спорящих между собой будут представлены», после чего подача дополнительных прошений уже не разрешалась. Секретарь суда составлял резюме всех прошений («записку»), проверявшееся (и, при необходимости, дополнявшееся) и заверявшееся сторонами и список законоположений применимых к данному делу.
Подготовленное дело докладывалось суду на заседании, на котором могли присутствовать стороны (или их поверенные) - давая при необходимости устные пояснения (если замечали какое-то упущение) и иные лица.
Состязательность, в современном понимании, в ходе процесса отсутствовала и решение принималось в основном на основании представленных письменных «формальных» доказательств. Использование письменных доказательств способствовало росту популярности почерковедческой экспертизы (для выявления поддельных подписей и проч.). До середины XIX века она производилась в основном путем опроса судебных служителей (в основном судебных секретарей), причем число опрошенных могло составлять от нескольких человек до пары сотен. Начиная с 1860-х годов более популярной сделалась экспертиза с участием учителей каллиграфии и рисования (обычно четырех - пяти).
После слушаний по делу судьи записывали свое решение («резолюцию») в журнале суда, заверяя его подписями. После этого «записка» и «резолюция» объединялись в официальном протоколе, также подписываемом судьями.
Тяжущиеся стороны получали письменное извещение с предписанием явиться в суд в определенный день - дабы ознакомиться с решением суда и указать удовлетворены ли они им или намерены подать апелляцию.
Решение суда считалось вступившим в силу с момента подписания официального протокола. В делах по которым не полагалось апелляций или соответствующая сторона не успевала этого сделать в указанный законом срок это именовалось «окончательной законной силой».
В решении суда указывались также способы его возможного исполнения. Исполнение решения суда возлагалось на соответствующее полицейское учреждение, куда оно и передавалось.

* * *