EricMackay5 читателей тэги
Автор: EricMackay
#книги + #early modern Russia с другими тэгами

* * *
Ногайская знать в России XVI–XVII веков
Весьма ценная содержательно работа, очень нуждающаяся в вычитке и редактуре - мягко говоря. С полиграфией тоже беда - очень мелкий текст и скверного качества печать.
скрытый текстНогайские выходцы
скрытый текст
Вся рассматриваемая автором ногайская знать представляла собой потомков пресловутого Едигея / Эдиге, фактического правителя Золотой Орды на рубеже XIV - XV веков. Среди сыновей Эдиге наиболее заметными были Нур ад-Дин и Мансур, потомки первого стояли во главе Ногайской Орды, потомки второго возглавляли, в качестве карачи-беков, крымских мангытов.
Начиная с XVI века потомки Эдиге появляются в России, оказываясь здесь как добровольно, так и не очень и принимаясь на государеву службу. В статусном отношении они располагались между Чингисидами и служилыми князьями из местных инородцев (татарскими, мордовскими и проч.). При крещении ногайские выходцы получали наследственный княжеский титул. До 1590-х годов они числились служилыми князьями, позднее стольниками и дворянами московскими (обычно на первых местах в соответствующих списках). После Смуты их статус понижается, к концу XVII века ногайские выходцы перемещаются уже в нижнюю часть списков стольников и дворян, некоторые начинают службу стряпчими и даже жильцами. Приказные учреждения ровней им считают уже мещерских служилых татар, ранее стоявших много ниже.
До середины XVII века ногайские выходцы ведались Посольским приказом, позднее - Разрядом.
В русских документах XVI - XVII веков ногайские выходцы фигурировали под родовыми прозвищами (по имени какого-либо значительного предка, чаще всего бия). Как отмечается, генеалогия Эдигеевичей весьма запутана и сложна - как из-за разветвленности рода, так и из-за проблем с источниками. Автором выявлено примерно 200 ногайских выходцев и 25 их родовых прозвищ, по которым он их и группирует, размещая в порядке времени выезда в Россию.
Большинство ногайских родов пресеклось уже в описываемый период, к концу XVII века сохранялось 12 княжеских фамилий ногайского происхождения: Байтерековы, Кекуатовы, Кутумовы, Мамаевы, Мансуровы, Тинбаевы, Ураковы, Урусовы, Шейдяковы (2 рода) и Юсуповы (2 ветви). К середине XVIII века фиксируются представители лишь 5 фамилий - Кекуатовых, Ураковых, Урусовых, Шейдяковых, Юсуповых. До нашего времени дожили потомки князей Урусовых, Ураковых, Кекуатовых и Юсуповых (по женской линии).
Как отмечает автор, случаев выезда / пленения ногайских мурз было значительно больше чем приведено ниже - некоторые ногаи выезжали лишь для участия в войнах, другие жили временно и позднее возвращались в степь, пленных возвращали или обменивали, пленные мурзы XVII века растворялись в среде других пленников и т. д.
Общая динамика выездов выглядела следующим образом. Ногайские мурзы начали выезжать на постоянное жительство в Москву с начала XVI века, поначалу добровольно - вслед за своими свойственниками, татарскими царевичами. С середины XVI века добровольный выезд большей частью сменяется вынужденным - мурзы покидали степи (иногда просто высылались) из-за непрекращающихся кровавых междоусобиц. При этом, как и раньше, все еще сохранялась и возможность отъезда на родину.
На рубеже веков кандидатов на вынужденный отъезд все больше начинает определять Москва, убирая из степи оппонентов своих ставленников, возрастает число ногаев взятых в плен на поле боя. В некоторых случаях разрешение на выезд дается в качестве награды за крещение.
Во второй половине XVII века общее число выездов радикально сокращается. При этом все известные случаи - результат пленения в бою. Захваченных в плен мурз обычно пытались обменять на русских пленных. Если этого сделать не удавалось у мурзы оставалось два варианта - гнить в тюрьме или креститься.
Как отмечает автор, подавляющее большинство ногайских мурз, несмотря на высокий статус и щедрое материальное обеспечение, ощущали себя в России пленниками. Многие из них предпринимали попытки бежать за пределы страны. Положение меняется лишь начиная со второго поколения семей, выросшего или даже родившегося в России.
***
В списке ниже женское потомство ногайских выходцев большей частью игнорируется (мною, а не автором), указываются только сыновья (при наличии).
***
Жены татарских царей и царевичей
скрытый текст
Первые потомки Эдиге в России появились уже в конце XV века - это были жены казанских ханов. Так, в 1487 году в белозерскую ссылку вместе с мужем, свергнутым казанским «царем» Али б. Ибрагимом / Алегамом отправилась «царица» Каракуш, дочь ногайского бия Ямгурчи б. Ваккаса. После смерти первого мужа ее выдали за другого казанского хана, Мухаммеда-Эмина / Магмед-Аминя, вместе с которым она вновь бежала в Россию, живя в 1496 - 1502 годах в Кашире. Другой женой Мухаммеда-Эмина, жившей с ним в Кашире, была еще одна дочь Ямгурчи, Фатима. Она же, возможно, позднее была замужем за еще одним казанским ханом, пресловутым Шах-Али / Шигалеем и, соответственно, бегала в Москву из Казани уже с ним.
Ногайских жен имели и другие выезжие Чингисиды - крымский царевич Мурад-Гирей (выехал в 1585 году), ургенчский царевич Мухаммед-Кул (1595?), плененные в 1598 году сыновья Кучума, царевичи Канай и Али (женатые, соответственно, на дочерях биев Уруса и Дин-Ахмеда).
Как отмечает автор, помимо перечисленных случаев наверняка имелись и другие, нам неизвестные.
Мансуровы, Канбаровы и Тевекелевы
скрытый текстПотомки одного из указанных сыновей Эдиге - Мансура и сына последнего, Дин-Суфи.
Между мартом 1502-го и октябрем 1505 года в Москву выехал внук Дин-Суфи Канбар б. Момола, приходившийся племянником большеордынскому и крымскому беку Хаджике б. Дин-Суфи. В Москве он находился видимо на положении служилого князя, являясь достаточно заметной фигурой. В 1505 - 1507 годах его службы фиксируются разрядами: в октябре 1505 года Канбар-мурза Мамалеев был в Муроме с касимовским царевичем - по казанским вестям; в июле 1507-го ходил на Литву из Северы во главе передового полка (вместе с удельным воеводой кн. Юрия Дмитровского); в сентябре того же года опять ходил на Литву, руководя передовым полком уже единолично (что весьма нетипично). После 1507 года не упоминается.
У Канбара было двое сыновей - Ак-Мухаммед и Тевекель.
Службы Ак-Мухаммеда в 1519 - 1541 годах фиксируются разрядами, он видимо командовал каким-то собственным татарским отрядом, составляя компанию своим свойственникам, сибирским царевичам Ак-Даулету и Шах-Алею (под присмотром русских приставов) - большей частью в походах против литвы.
Сын Ак-Мухаммеда Ураз-Али / Уразлый сделал большую карьеру. В разрядах Ураз-Али Канбаров упоминается с 1551 года, в 1558 году он крестился, став князем Иваном Махметевичем / Ахметевичем Канбаровым. В 1560 - 1563 годах князь назначался первым воеводой сторожевого и передового полка на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1566 годах - уже второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву. В 1570 году Канбарова отправили послом в Польшу (умер в дороге).
О другом сыне Канбара, Тевекеле, сведений не имеется. У него имелся видимо сын Мавкош, также ничем не прославившийся. Сын этого Мавкоша сделал заметную карьеру. Мусульманское его имя неизвестно, после крещения он именовался князем Иваном Мовкошевичем («Мавкошевым сыном») Тевекелевым (вар. Девелетевым, Теукечевым, Теукелевым, Теукчеевым), а в одном случае даже Иваном Тевекелевичем Канбаровым. В Тысячной книге князь записан по Торжку - сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном. В 1558 - 1572 годах служил в основном в головах и рындой, хотя в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года - первый воевода передового полка в «немецком походе». «Выбыл» в 1576/77 году. Некий кн. Иван Девлетевич Тевкелев в 1570 - 1575/76 числился также оружничим, однако достоверность этого известия сомнительна.
В XVII - XVIII веках упоминаются и другие князья Канбаровы. Так, в 1630 году крестился некий Тимофей Абдул-мирзин сын Канбаров (Камбаров, Канбаев), числившийся служилым иноземцем по Царевококшайску. Его родство с вышеописанными Канбаровыми сомнительно. В 60-80-х годах XVIII века упоминаются еще какие-то князья Канбаровы, их происхождение неизвестно.
Вероятно вместе с Канбаром в Москву выехал и его двоюродный брат Бибей б. Ибрагим, с сестрами Борнушей и Ош-салтаной. Борнуша позднее была выдана замуж за сибирского царевича Ак-Даулета б. Ак-Курта, а Ош-салтана, вероятно, за астраханского царевича Шейх-Аулеара б. Бахтияра и возможно была матерью (или мачехой) пресловутого Шах-Али, казанского и касимовского царя.
О самом Бибее известно лишь, что через какое-то время после выезда он крестился, став князем Владимиром. У него имелся сын Дохие, в крещении - Семен. В Тысячной книге он записан князем Семеном Васильевичем Бибеевым, сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном - по Ржеве Володимеровой.
Каким-то образом (захвачен в плен?) в Москве оказался и принял крещение еще один Мансур - некий Иван, сын Мевлеша, внук Тевшина / Тениша. Последний (Тениш б. Джанкуват б. Дин-Суфи) приходился двоюродным братом Канбару и был, как и его отец, крымским карачи-беком.
В XVII веке в России упоминаются новые Мансуры. В 1643 /44 году в Астрахани крестили выехавшего еще в 1639 году из Крыма Адиля-мурзу Мансурова. В боярских книгах и списках он отсутствует.
В 1670/71 или 1671/72 году крестился белгородский мурза Антемир (Байтемир) Мансуров, взятый в плен под Севском в 1667/68? году. Больше о нем ничего не известно. Как отмечает автор родовое прозвище Мансуры начинает употребляться в документах только в XVII веке, ранее оно не использовалось
Автор включил в эту группу и пресловутого Дивея-мурзу (Дивея б. Хасана), крымского карачи-бека и ближайшего сотрудника Девлет-Гирея, захваченного в плен под Молодями и подохшего в 1575 году.
Кутумовы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мухаммеда б. Мусы.
В 1564 году в Москву «из Нагаи» с отрядом выехал внук бия, Айдар б. Кутум б. Шейх-Мухаммед, вероятно вместе с братом Али (Алеем). Об Айдаре больше почти ничего не известно. У него имелось два сына - Еналей и Кузей, вероятно погибших в Смуту.
У Али б. Кутума известны два сына - Ахмед и Барай и дочь - Салтан-бике, жена трех последовательно сменявших друг друга касимовских царей (Мустафы-Али, Ураз-Мухаммеда и Арслана б. Али). Еще одна, безымянная, дочь мурзы возможно была женой известного сибирского царевича Маметкула, военачальника Кучума.
Ахмед вероятно погиб в Смуту, а вот Барай б. Али дожил до 1646? года, оставив многочисленное потомство - известно восемь его сыновей (Хан, Сафаралей / Петр, Ирбетя (Ибердей) / Тихон, Тахтаралей, Ем, Шекурей, Опаш и Касбулат). Большой карьеры никто из князей Бараевых не сделал.
Старший из сыновей, Хан, умер до марта 1657 года. Его сын Надыр / Дмитрий в 1680 году крестился под давлением властей. На 1685/86 год - стольник, с 1703 года в отставке, умер до 1708 года.
Сафаралей / Петр крестился в 1647 году, тогда же пожалован в стольники, умер в 1652/53 году. Его сын Дмитрий, тоже стольник, в 1679/80-м сослан Кирилло-Белозерский монастырь.
Ибердей / Тихон крестился в 1629 году, тогда же пожалован в стольники, в 1650-м выписан из стольников в московские дворяне, умер в 1658/59 году.
Тахтаралей ничем не известен, его сын Джадигер / Федор крестился в 1680 или 1681-м, на 1685/86 и 1691/92 годы числился стольником, умер не позднее декабря 1696-го. Сын его, Иван Федорович, на 1685/86 год стольник, умер не позднее 1703 года.
О Еме, Шакурее и Опаше сведений нет.
Почти ничего не известно и о Касбулате. В 1680 или 1681 году у него, за отказ креститься, отписали 79 дворов в Романовском уезде и отправили жить в Вологду, в качестве кормового иноземца. У Касбулата было 6 сыновей, из которых относительно известен один - Каплан / Петр. Он крестился в 1688 году и именовался князем Петром Касбулатовым. На 1685/86 год - стольник (ведался после крещения почему-то в Иноземном приказе), упоминается до 1705 года. По некоторым сведениям воспреемником князя при крещении был. кн. В. В. Голицын (и отечество его было Васильевич) и в 1689 году он посылался с царским жалованьем к Мазепе.
В начале XVIII века этот род пресекся.
Кошумовы
скрытый текстПотомки Хаджи-Мухаммеда (Кошума), нурадина Ногайской Орды, брата бия Саид-Ахмета и сына бия Мусы б. Ваккаса.
В 1567/68 году в Москву для участия в войне с Литвой прибыли Караул и Яныш, сыновья Асанака* (Хасанака) б. Хаджи-Мухаммеда (Кошума) б. Мусы.
Примерно в то же время выехал и позднее крестился Салтангазы (Султан-Гази) б. Хаджи-Мухаммед, в крещении - князь Никита Кошумов. [Судя по тексту - дяда Караула и Яныша, однако на приводимой авторской схеме показан сыном Хасанака и, соответственно, братом первых двух]. Был видимо романовским помещиком.
В XVII веке известен еще один князь Кошумов. В 1637/38 году в Воронежском уезде попал в плен некий мурза Алей Кошумов. В 1642/43 году он крестился и стал князем Василием Кара (Карай, Корай) мурзиным сыном Кошумовым. в 1649/50 - 1654 годах - дворянин московский. Характер его родства с предыдущими Кошумовыми неизвестен.
* Женой этого Асанака была сестра царевича Бекбулата, отца известного кн. Симеона Бекбулатовича, неоднократно навещавшая своих родственников в России.
Уразлыевы
скрытый текстВнуки бия Шейх-Мухаммеда.
В 1560 - 1561 годах в Москву, в связи с усобицей в Ногайской Орде, выехали сыновья Ураз-Али б. Шейх-Мухаммеда - Пулад, Тимур, Бабаджан (Бибизян) и Тохтар. Тохтар позднее вернулся в степи, судьба Пулада неизвестна. Тимур и Бабаджан Уразлыевы, а также сын Тохтара Эль отмечены в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года как прежние помещики.
Юнусовы, Юсуповы, Юсуповы-Княжево
скрытый текстПотомки бия Юсуфа б. Мусы.
Первой представительницей рода оказавшейся в России была женщина - пресловутая Сююн-бике, жена казанских ханов Джан-Али / Яналея и Сафа-Гирея и бывшего казанского хана и касимовского царя Шах-Али / Шигалея (1551 год).
После убийства в 1554 году бия Юнуса и «воцарения» его младшего брата Ибрагима, в Москву начали выезжать конфликтовавшие с дядей потомки покойного бия.
Весной 1558 года выехал один из сыновей сын Юсуфа - Юнус б. Юсуф. Он был всячески обласкан, но уже в мае 1561 года умер. В России жило трое его сыновей - Бий-Мухаммед, Ак-Мухаммед и Тин-Али / Тиналей. В конце 1560-х они были испомещены в Романовском уезде. Ак-Мухаммед, по некоторым сведениям, позднее уехал в Малую Ногайскую Орду. Тин-Али в 1570 году бежал вместе с другими ногаями в Литву, а оттуда в Крым (см. ниже).
Вместе с Юнусом выехал его малолетний племянник Дан-Али б. Али б. Юсуф. Возможно это упоминаемый русскими документами Наделы Алеев сын Хромого, романовский помещик и еще один участник побега 1570 года.
В 1564 году бий Исмаил выслал в Москву других сыновей Юсуфа - Ибрагима и Эля. Они были также испомещены в Романовском уезде. В 1570 году Ибрагим Юсупов, после ссоры с опричником Романом Пивовым, вместе с одним из своих сыновей, Тиналеем Юнусовым и двумя неидентифицируемыми мурзами (упоминавшимся Наделы Алеевым и неким Ахмалой Бештавзином) бежал в Литву, а оттуда - в Крым (позднее перебрался в Малые Ногаи).
В России у Ибрагима осталось два сына - Сеит-Мухаммед и Сююш.
Сеит-Мухаммед («Сеит-Мамет-мурза Абреимов») в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года упоминается как прежний помещик. У него был сын - «Козяк (Хозяк) мурза Сеит-Магметев сын Юсупов» (упоминается в 1609 году), бывший видимо племянником касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
У Сююша также был сын - Ибрагим / Никита. Князь Никита Исеушевич Юсупов в боярских списках 1606/07, 1610/11 и 1626 годов числится дворянином московским. За московское осадное сиденье 1618 года пожалован переводом части кашинского поместья в вотчину. Последнее упоминание - 1647/48 год.
У Никиты было четверо сыновей - Федор, Василий Большой, Василий Меньшой и Андрей и дочь Анна.
Анна была замужем за Иваном Гавриловичем Хлоповым, родственником несостоявшейся царской супруги, патриаршим стольником и позднее дворянином московским.
Федор - стольник с 1641 года, умер не ранее 1667-го.
Андрей - с 1638 года стряпчий, с 1667-го - дворянин московский, умер не ранее 1667 года. У него был сын Петр, жилец с 1696/97 года, позднее возможно стольник, умер не ранее 1720-го, сын Иван - к 1719 году прапорщик Рязанского пехотного полка.
Василий Меньшой в 1660/61 пожалован в стряпчие из жильцов, служил до 1676 года, умер не ранее 1721-го. У него был сын Иван, жилец с 1695/96 года.
Василий Большой имел семерых? сыновей - Ивана (стряпчий с 1671/72, стольник с 1676/77, умер ок. 1708 года), Василия (дворянин московский с 1675/76, умер до 1720 года), Петра (стряпчий с 1681/82, стольник с 1691/92, умер ок. 1708 года), Бориса (дворянин московский с 1680/81, умер ок. 1708 года), Леонтия, Алексея и Федора. Борис, Иван, Василий и Алексей тоже имели сыновей, но никто из них в петровские времена выше армейского обер-офицера не поднялся.
Эль б. Юсуф (умер между августом 1610 и сентябрем 1611 года) имел трех сыновей - Сююша, Бая и Чина (Чин-Мухаммеда).
Бай погиб в Смуту, между августом 1610 и сентябрем 1611 года.
Чинбыл видимо сыном от брака с сестрой сибирского хана Кучума и какое-то время жил в Сибири. В 1595 году он с семьей сдался русским в Таре и был отправлен в Москву. Погиб или умер во время Смуты (до ноября 1608?). У Чина было вероятно три сына - Будай, Петр (на 1607/08 стольник, на 1610/11 - «в измене») и Корел (в другом месте именуется Корепом, сын сестры крымских выходцев Юрия и Василия Сулешевых).
У Корела / Корепа был сын Бий, унаследовавший вотчины деда, Юрия Сулешева. В 1639/40 году он крестился и стал князем Иваном Кореповичем Юсуповым (Исуповым). В 1649 году сослан с семьей на Белоозеро. Стольник, после 1651/52 - дворянин московский, умер не ранее1676/77 года. Его жена Мария была племянницей боярина кн. Бориса Александровича Репнина. Сын Семен - с 1671/72 года стряпчий, с 1675/76 - стольник, умер не ранее 1685/86 года.
Сююш (умер в 1656 году) унаследовал большую часть семейных земель и имел обширное потомство. У него было пятеро сыновей - Абдулла / Дмитрий, Джан, Иштерек, Ислам и Ак.
Иштерек (умер в 1654/55) и Ислам (умер до 1659 года) потомства видимо не имели.
Джан имел двух сыновей - Бая (умер в 1664/65 году) и Хана / Ивана (крестился в 1681-м, умер в 1682 году).
Ак также имел двух сыновей - Ая / Алексея (крестился под нажимом властей в 1681-м, в том же году умер) и Сендегу / Петра (стольник в 1685/86 - 1691/92, умер в 1692 году).
Наиболее многочисленной и успешной была линия Абдуллы / Дмитрия. В 1680/81 он крестился под нажимом властей. Вместе с ним крестились и сыновья, известные уже под христианскими именами - Матвей, Иван и Григорий.
Иван имел чин стольника, умер в начале 1700 года. Его сын Александр умер в 1741 году, не оставив потомства.
Матвей также имел чин стольника, упоминается до 1721 года, у него был сын Михаил.
Григорий (1676 - 1730), благодаря близкому юношескому знакомству с царем Петром сделал прекрасную карьеру, дослужившись в итоге до генерал-аншефа (1730 год). Был женат на дочери окольничего Н. И. Акинфиева. У него было трое сыновей - Григорий, Сергей и Борис. Григорий [умер в 1737 году] дослужился до драгунского полковника, Сергей (умер ок. 1733 года) - до армейского подполковника. [Борис (1695 - 1759) сделал блестящую карьеру - московский и петербургский губернатор, президент Коммерц-коллегии, тайный советник и пр. Он и его потомство, собственно и составили славу рода Юсуповых].
Потомки Сююша, желая отделить себя от прочих Юсуповых до конца XVIII века называли себя Юсуповы-Княжево
В целом, как видно, из всего этого обширного рода в долгосрочном плане преуспела только одна ветвь потомков Сююша.
Шейдяковы
скрытый текстПод этим родовым прозвищем скрывались представители двух разных родов - потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы и потомки Саид-Ахмеда б. Мухаммеда б. Исмаила б. Мусы - выходцы из Малой Ногайской Орды. Генеалогия Шейдяковых весьма запутана и часто сложно понять к какому из указанных родов относится соответствующий персонаж.
Потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы.
Саид-Ахмед (Сейдяк, Шидак, Шейдяк - отсюда Шейдяковы) считался в Москве старшим из сыновей Мусы б. Ваккаса и его потомки обладали наиболее высоким статусом среди всех ногайских выходцев XVI века. Позднее их «общегосударственный» статус понизился, однако в среде татарских выходцев оставался высоким и в XVII веке.
В 1568 - 1570 годах впервые упоминаются некие Аман-Газы и Дос-Магмет «Шиидяковы дети княжие». Первый вероятно внук Саид-Ахмеда Аман-Газы б. Тутай, второй - то ли сын Саид-Ахмеда Дурс-Мухаммед, то ли сын этого самого Дурс-Мухаммеда (автор склоняется ко второй версии). В начале 1570-х оба они вероятно крестились, став соответственно князьями Петром Тутаевичем и Афанасием Шейдяковыми. Оба сделали неплохую карьеру.
Петр Тутаевич Шейдяков в разрядах упоминается в 1571 - 1580 годах. Он занимал высокие воеводские должности - первый воевода передового, сторожевого, правой руки [и большого] полков, был наместником во Пскове и проч. Умер в 1581 году.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1586 годах бывал первым воеводой большого полка, наместником Юрьева, осадным воеводой в Новгороде. В 1588 году попал видимо в опалу - взят за пристава и позднее высоких должностей не занимал, умер в 1602 году.
В 1571 году в источниках появляется князь Иван Келмамаевич Келмамаев. Высокий статус князя несомненен - его женили на дочери Малюты и проч., однако происхождение неясно. Автор предполагает, что он мог быть правнуком Саид-Ахмеда - сыном Кель-Мухаммеда (Кель-Мамая) б. Кель-Мухаммеда б. Саид-Ахмеда. В 1571 - 1572 годах - рында с большим саадаком у царевича Ивана Ивановича. Умер в 1573 году.
Помимо этого в 1560 - 1570 годах в России видимо находились сыновья Атая б. Саид-Ахмеда (еще одного сына бия) - некий безымянный и Мустафа Татаев (Атаев) сын Шейдяков (насчет происхождения последнего имеются разные версии, автор его считает сыном Атая). Последнего вероятно крестили в 1571 году.
В Смуту (боярский список 1606/07 года) упоминается еще какой-то новокрещен стольник князь Михаил Шейдяков. «Изменил» в в июле 1608-го (отъехал в Тушино?).
Еще одна семья Шейдяковых также видимо происходила из Большой Ногайской Орды и предположительно относилась к потомкам Саид-Ахмеда. Статус семьи был достаточно высок - только с этой ветвью Шейдяковых в XVII век заключали браки служилые Чингисиды.
Где-то на рубеже XVI - XVII веков в России оказались Еналей (Джан-Али), Каплан и Алей Тугановы дети Шейдяковы, вместе с дядей, Теникеем, Оксаровым (Аксаровым) сыном. Последний вероятно был сыном или внуком Саид-Ахмеда.
Еналей (Алей) в Смуту видимо изменил и в декабре 1610-го был убит казаками в Калуге, в отместку за убийство татарами Вора. У него были сыновья Девлет (Девлет-Мамет), Канай / Алексей и Зорбек / Федор.
Девлет в 1625 году упоминается как кормовой иноземец в Ярославле, умер в 1646 году. Он был женат на дочери Кучума Молдур и вдове касимовского царя Арслана б. Али Нал-ханише.
Канай был женат на племяннице касимовского царя Арслана б. Али. Позднее крестился с именем Алексей, на 1651/52 год дворянин московский. В 1653 году, вместе с сыновьями Сафа-Гиреем / Василием и Шин-Гиреем / Никифором арестован по (сомнительному, по мнению автора) обвинению в попытке отъехать в Польшу. Умер в 1653/54 году. Помимо Василия и Никифора у Каная / Алексея было еще два сына - Давыд Алексеев? (на 1675/76 - 1676/77 годы - дворянин московский) и другой, остающийся безымянным
Зорбек был прижит с наложницей, позднее жил у дяди Теникея и его сына Кул-Мухаммеда, пытавшегося его похолопить, бежал и в 1621/22 году крестился, став князем Федором Еналеевичем (Аналеевичем) Шейдяковым. В 1626 - 1649 годах дворянин московский. Был женат на дочери кн. Романа Петровича Пожарского (двоюродного брата национального героя). У князя был сын Михаил (стольник с 1657/58 года, умер в 1687-м воеводой Соликамска). У Михаила имелось три сына - Семен (на 1712 год - жилец и армейский капитан, позднее асессор Сенатской конторы), Афанасий (стольник с 1685/86 года, на 1722 год - вице-президент Ярославского надворного суда) и Яков (стольник царицы Прасковьи в 1685/86 году). У Якова были сыновья Афанасий (на 1706 год числился среди полковников, подполковников и начальных людей) и Григорий (на 1706-й - стольник). Потомки Григория известны до начала XIX века, но особой карьеры не сделали (максимум - гвардейский поручик). Это единственная ветвь Шейдяковых дотянувшая до XIX века.
Каплан Туганов (Таганов) умер в 1627/28 году. У него было четверо сыновей - Эрмамет (Ир-Мамет, Ураз-Мухаммед?), Бий / Абрам, (Канай) / Иван Большой и Салтанай / Иван Меньшой. Трое последних пожалованы в стольники из новокрещенов в 1649 году, умерли в 1654/55, 1658/59 и после 1708 года соответственно.
У Бия / Абрама были сыновья Роман (стольник в 1649 - 1666/67 годах) и Василий, у Салтаная / Ивана Меньшого - сыновья Василий (на 1706 год в списке полковников и других начальных людей, умер не позднее 1711 года) и (вероятно) Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92, упоминается до 1700 года).
У упомянутого выше дяди перечисленных Шейдяковых, Теникея б. Аксара, был сын Кул-Мухаммед (Келмамет, Клеш) / Артемий, крестившийся в 1621/22 году и имевший чин дворянина московского (умер к 1623/24? году). У него имелись сыновья Федор и Михаил (стольники с 1629 года).
У Федора был сын Иван (стряпчий с 1675-го, стольник с 1685 года), трое сыновей последнего (Федор, Алексей и Иван) в начале XVIII века числились армейскими обер-офицерами.
У Михаила были сыновья Лев (комнатный стольник царя Ивана Алексеевича с 1685/86 года, на 1709 год армейский капитан), Афанасий (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, позднее обер-комендант и вице-президент [Владимирского?] надворного суда) и Семен (на 1712 год жилец и армейский капитан).
Известен также некий Сафарлей (Сафар-Али) Арасланов сын Шейдяков, выехавший, по мнению автора, в конце XVI века и испомещенный не позднее 1606/07 года в Юрьеве-Польском. Его женой была то ли сестра, то ли тетка касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
Малоногайская ветвь Шейдяковых
В 1620 году в Москве крестился внук бия Малой Ногайской Орды Касима - Бек (Батук) б. Султан (Султанаш) б. Касим б. Ислам б. Саид-Ахимед, ставший дворянином московским князем Леонтием Султанашевичем Шейдяковым. В Москву его привезли еще в 1617 году из Михайлова - в качестве «языка». Умер в 1641/42 году.
У Бека / Леонтия имелся брат Дмитрий (мусульманское имя неизвестно), выехавший видимо уже на рубеже XVI - XVII веков (на 1606/07 год в боярском списке записан стольник кн. Дмитрий Салтанаш-мурзин сын Шейдяков). После 1614/15 года он бежал [в степь?], но затем то ли попал в плен, то ли вернулся добровольно. В 1621 году его сослали в Устюг «за измену», простив не позднее 1637/38 года. У князя был сын Борис (стольник в 1647 - 1667 годах, в 1679-м послан под начало в Кирилло-Белозерский монастырь - за пьянство). У Бориса были сыновья Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, в 1700-м повешен за убийство) и Федор (на 1691/92 год стряпчий, с 1703-го в отставке, умер в 1705-м).
У Леонтия и Дмитрия был еще один брат Хан, также оказавшийся в России и имевший двух сыновей - Григория (стольник в 1685 - 1692 годах, умер 1704-м) и Бориса.
К этому же роду относились двоюродные братья Леонтия, Дмитрия и Хана - Белек / Федор, Степан, Исай и Урак?
Белек (Белек-Темир) б. Навруз б. Касим попал в русский плен в 1633/34 году, в ходе похода окольничего П. Ф. Волконского на Малых Ногаев и долго сидел на «аманатском дворе» в Астрахани. В 1650 году он крестился и стал князем Федором (стряпчий с апреля 1654 года, упоминается до 1667-го).
Урак*, Степан и Исай были видимо отпрысками другого сына Касима - Казбулата. Судя по челобитной Урака Степан и Исай на 1637/38 год получали поденный корм. По предположению автора оба они попали в плен под Саратовым в 1627/28 году и сидели в вологодской тюрьме до крещения в 1630/31-м. В документах имеются и иные упоминания Степана и Исая Шейдяковых, однако неясно те же это лица или нет.
С 1649 года упоминается также некий дворянин московский князь Исай Чегорда-мирзин сын Шейдяков (убит в 1659 году под Быховым), тоже возможно внук Касима. У него имелись сыновья Петр (на 1680/81 год стряпчий, на 1691/92 - стольник) и Михаил.
***
Помимо этого известно еще некоторое число Шейдяковых генеалогия которых неясна, но большей частью это видимо выходцы из Малых Ногаев.
Около 1560 года в Москву выехал некий Мустафа б. Тата (Татай) б. Саид-Ахмед - уже в 1561-м отпущен в степь по просьбе бия Исмаила.
В 1614/15 году крестили Дивея / Семена мирзу Шейдякова. Позднее он «побежал» с кн. Дмитрием Салтанаш-мирзин сыном Шейдяков (см. выше), позднее был пойман и сослан в Устюг, где и умер в 1621 году.
В 1622/23 году крестили некоего Дин-Али (Тиналея) Шейдякова. Больше о нем ничего не известно.
В сентябре 1637 года в Новосильском уезде пленили Солох-мирзу (Такаева) Токаева сына Шейдякова - в 1639/40 году крестился под именем Иван, умер в 1646 году.
В 1648/49 году крестился некий Кочюк / Дмитрий Такаев - возможно брат предыдущего.
В 1648/49 году выехал Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков, в 1653/54 - 1664/65 годах - московский дворянин.
В 1689/90 - 1691/92 годах в боярских списках числится стольник Григорий Толбундинов Шейдяков (упоминается до 1721 года).
На 1700 год по «сказкам» Генерального двора в России проживало всего 10 мужских представителей рода Шейдяковых. До начала следующего столетия, как уже отмечалось, дотянула лишь одна, ничем особо не примечательная, ветвь.
* Неясно жил ли он вообще в России - в тексте упоминается его челобитье 1637/38 года о повышении оклада брата, но больше никаких сведений не приводится, на авторской генеалогической схеме он показан в России не жившим.
Смайлевы
скрытый текстПотомки Ханбая б. Исмаила, сына бия Исмаила.
Среди захваченной в 1598 году в Сибири родни хана Кучума имелся и его внук Зен-Магмет (Джан-Мухаммед). Позднее в Россию выехал отец этого Зен-Магмета [и видимо внук бия Исмаила], ногайский мурза Бегай (Бегей) б. Ханбай б. Исмаил (на 1609 год числился дорогобужским помещиком). Позднее Бегай-мурза Смайлев с семьей оказался в Смоленске и затем видимо служил Сигизмунду (некий Бегай-мурза Ханбаевич в 1610 - 1612 годах был пожалован королем дорогобужским поместьем). Позднее [у автора указано число и месяц, но не указан год] он с семьей выехал в осаждавшую Смоленск армию кн. Д. М. Черкасского, был отправлен в Москву и испомещен в Суздальском уезде. К ноябрю 1627 года Бегай крестился с именем Семен (пожалован в стольники), умер в 1632/33 году.
У Бегая / Семена имелись сыновья Сары / Лев (крестился в 1625-м, пожалован в стольники, умер в 1642/43 году), Деян / Дьян (возможно это упоминавшийся Зен-Магмет / Джан-Мухаммед, умер в 1621/22 году), Бирим и, возможно, Козей (на 1636 год кормовой иноземец в Ярославле) и Акманай (на 1642/43 кормовой иноземец в Ярославле, в 1653-м упоминается как член двора касимовского царевича Сеит-Бурхана).
У Деяна / Дьяна был сын Прокопий / Александр (крестился в 1625-м?, стольник, упоминается до 1652 года).
Шихмамаевы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мамая б. Мусы.
В боярском списке 1606/07 года отмечены правнук бия стольник кн. Петр Акназар-мурзин сын Шихмамаев (б. Хак-Назар б. Бай б. Шейх-Мамай), стольник кн. Григорий Келмамет-мурзин сын Шихмамаев (тоже видимо правнук Шейх-Мамай, но генеалогия его неизвестна) и некий дворянин московский Иван Шихмамаев. Как они оказались в Москве неизвестно, возможно это было как-то связано с вывозом в Россию толпы Кучумовичей на рубеже веков.
Ахметевы
скрытый текстВ начале XVII века упоминаются несколько Ахметевых, вероятно ногайских мурз и членов одной семьи, однако их происхождение остается неясным.
В 1609 году в Ростовском уезде упоминается некий Касым-мурза Ахметев, вероятно ногайский мурза. В 1616 году неких Пантелея-мурзу Касымова Ахметева и его племянника Досая Ангилдеева (Кангилдеева) сына Муратова (в 1625 году упоминается уже как Досай Касымов) кинули в тюрьму, вероятно за попытку бежать из России. В 1619-м обоих выпустили, но поместий не вернули и перевели в ярославские кормовые иноземцы.
Урусовы
скрытый текстПотомки бия Уруса б. Исмаила. Единственный серьезно преуспевший в описываемый период ногайский род - части Урусовых удалось войти в состав русской правящей элиты.
После убийства бия Большой Ногайской Орды Уруса б. Исмаила в 1590 году его сыновья вели упорную борьбу против своих дядьев, биев Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила и Дин-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила, убив в итоге обоих. В конце-концов в эту распрю напрямую вмешалась Москва, посадив бием младшего брата погибших - Иштерека б. Дин-Ахмеда. Возглавлявший «Урусовых детей» Джан-Арслан б. Урус в 1601 году попал в русский плен, в 1604-м был отпущен обратно в степь, однако в 1614 году был вновь арестован русскими властями и в апреле 1615-го умер в Казани. В России жили также сыновья Джан-Арслана - Урак / Петр, Зорбек / Александр и Тук / Иван и его племянники - Андан / Борис, Бий / Петр и Касай / Андрей.
Урак / Петр оказался в Москве еще при первом пленении отца, позднее был крещен, став князем Петром Еруслановичем Урусовым (впервые упоминается в июле 1604 года). Князя «не по ево воли» женили на вдове кн. А. И. Шуйского (урожденной Годуновой), обеспечив и обширными земельными владениями (по росписи 1604 года выставлял 47 человек = 4700 четей). На 1606/1607 год - первый в списке стольников. В том же году бежал из под Тулы в Крым или к ногаям. Позднее вернулся и, возглавляя отряд юртовских татар, с осени 1608 года служил Вору в Тушине, а потом в Калуге. В декабре 1610 года убил Вора в Калуге и снова бежал в Крым, где принимал активное участие в политической борьбе, в 1639 году казнен в Бахчисарае.
Зорбек / Александр оказался в Москве вместе с братом и в дальнейшем разделял его судьбу - крещен при Борисе, на 1606/1607 год - стольник, бежал с Петром из под Тулы, вернулся в Россию и служил Вору, снова бежал в Крым.
Иван / Тук попал в руки русских властей после освобождения Астрахани от воров (май 1614-го), позднее был крещен и вывезен в Москву, после 1616 года не упоминается.
Андан (Ондан) б. Хан б. Урус и его брат Бий также попали в руки русских властей в Астрахани после мая 1614-го и позднее были крещены, став стольниками князьями Борисом и Петром Кановичами Урусовыми. Оба участвовали в московском осадном сидении 1618 года. Борис умер в феврале 1618-го, Петр в 1628 году был взят за пристава за попытку сбежать в Крым, в 1629-м сослан в Вятку, где сидел в местной тюрьме.
Еще один племянник Джан-Арслана Касай б. Саты, также видимо попал в руки русских властей в Астрахани, вместе с дядей и двоюродными братьями, и также был крещен, став стольником князем Андреем Сатыевичем Урусовым. Участвовал в московском осадном сидении 1618 года, позднее упоминается как дворянин московский, умер в 1642/43 году. По жене, Марии Васильевне Тюменской, был в родстве с Шереметевыми. Имел сына Семена.
Семен Андреевич Урусов был женат на дочери боярина кн. Бориса Михайловича Лыкова Федосье (двоюродной сестре царя Михаила Федоровича) и благодаря этому браку сделал прекрасную карьеру - с 1637 года стольник, в 1641 - 1645 годах - кравчий, с марта 1655 года - боярин. Умер в 1657 году. Четверо его сыновей (Петр, Юрий, Никита и Федор) также стали боярами.
Петр Семенович (1636 - 1686), стольник с 1654 года, кравчий с 1658 года, боярин с 1676 года. Сыновья - Василий [стольник, умер в 1677-м] и Григорий.
Никита Семенович (1640 - 1691), стольник с 1654 года, боярин с 1679 года. Имел сыновей Ивана, Якова, Семена, Алексея и Федора. [От Алексея и Семена Никитичей пошли ветви последующих князей Урусовых].
Юрий Семенович, стольник с 1661 года, боярин с 1676 года, умер не ранее 1713-го.
Федор Семенович, стольник с 1661 года, с 1680 года боярин, умер в 1694-м. Был женат на Фекле Грущецкой, сестре первой супруги царя Федора Алексеевича.
Барангазыевы
скрытый текстСыновья бия Малой Ногайской Орды Баран-Гази б. Саид-Ахмеда б. Мухаммеда.
Каплан б. Баран-Гази выехал при Борисе Годунове и позднее крестился. В боярском списке 1606/07 года он князь Федор Барангазыев-мурзин сын Шидохметев. В Смуту он повсюду таскался с Петром Ураковым - был с ним в Тушине, Калуге и в Крыму. Позднее перебрался в Малые Ногаи, а от них - под Астрахань. В 1630/31 году Каплана / Федора взяли в плен астраханские служилые люди, он прошел обряд исправления веры, снова став князем Федором и даже успел жениться, но в 1633/34 году помер.
Зор б. Баран-Гази, младший брат Каплана, крестился в Астрахани в 1635/36 году, став князем Григорием. Позднее был написан по московскому списку, в 1640 году переведен в Москву и упоминается в боярских списках до 1649 года.
Исуповы
скрытый текстПроисхождение неизвестно (не путать с Юсуповыми и русскими дворянами Исуповыми).
В 1642/43 году в Москве известен некий Дементий Исупов.
В 1644 году в Астрахани пожелал креститься некий мурза Кантемир Сары Исупов.
Иштерековы
скрытый текстВнук бия Иштерека б. Дин-Ахмеда новокрещен князь Иван Магмет-мурзин сын Иштереков в 1634/35 или 1636/37 году перебрался в Москву из Астрахани и был записан стольником. В 1639 - 1640 годах в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, позднее возвращен в Моску, умер в 1643 году.
Тинмаметевы, Кейкуватовы, Егенеевы*, Байтерековы
скрытый текстПотомки сыновей бия Дин-Ахмеда - бия Дин-Мухаммеда (Тинмамета) и его младшего брата нурадина Большой Ногайской Орды Байтерека.
Когда начались выезды представителей этой семьи неизвестно, в русских документах они упоминаются под разными именами.
В 1625 году сына Дин-Мухаммеда Урака Тинмаметева русские власти обвинили в ссылках с Крымом и выслали с семьей из астраханских улусов в Кострому. Умер он около 1628 года. Перед смертью возможно крестился с именем Петр. Сын его Прокопий крестился в 1628 году, в боярских списках упоминается в 1652/53 - 1667/68 годах - как дворянин московский князь Прокопий Урак-мурзин сын Тинмаметев.
В 1644 году крещен еще один астраханский выходец, Кантемир-мурза Сары Исупов - в крещении князь Алексей Исупов Тинмаметев (на генеалогической схеме показан двоюродным племянником Прокопия Тинмаметева, внуком Исупа, брата Урака Тинмаметева).
В 1633/34 году в Астрахани крестился двоюродный брат Кантемира / Алексея Отманай (Атманай) Урус-мурзин сын Кейкуватов, внук кековата Джан-Мухаммеда (еще одного брата Урака Тинмаметева). В 1647 - 1656/57 годах упоминается как князь Петр Урус-мурзин сын Кейкуватов [т. е. здесь фамилию образовали от должности дедушки]. У него были сын Тихон (жилец на 1677/78 год) и внук Федор Тихонович (жилец на 1712 и 1713 годы).
В 1636 году в Астрахани крестился племянник Атманая / Петра, известный уже под христианским именем Иван. В 1640/41 году князь Иван Егенеев [здесь фамилию образовали уже от имени отца князя - Егинея / Едигея] перебрался в Москву, где писался уже дворянином московским князем Иваном Еней-мурзин сыном Кейкуватовым (!). У князя возможно был сын - костромской городовой дворянин кн. Петр Иванович Кейкуватов (Кокуватов).
В Россию выехали также потомки нурадина Байтерека б. Дин-Ахмеда - сыновья Гази, Али и Ак (с сыном Элем). На 1636/37 год все они значатся среди ярославских служилых мурз. Больше о них ничего не известно.
Сын указанного Али, Урак, в 1633 году крестился став князем Дмитрием Алеевым сыном Байтерековым.
В 1649 году крестились другой сын Али, Кантемир и его двоюродный брат, сын Гази, Шантемир, ставшие дворянами московскими князьями Григорием Алей-мурзиным сыном и Михаилом Казый-мурзиным сыном Байтерековыми соответственно. У Григория (умер в 1667 году) имелись сыновья Юрий (стряпчий, позднее стольник) и Яков (стольник на 1706 год). Сын последнего, Иван, при Петре был армейским обер-офицером.
* У автора в заголовке главки и оглавлении - Енеевы, в тексте и на схеме - Егенеевы.
Тинбаевы, Кинбаевы
скрытый текстПотомки нурадина Динбая (Тинбая) б. Исмаила.
В боярском списке 1606/07 года отмечен стольник князь Михаил Конай-мурзин сын Кинбаев. До крещения его вероятно звали Гази б. Канай б. Динбай б. Исмаил, т. е. он был внуком упомянутого нурадина. Этот же князь вероятно был героем упоминаемым «Новым летописцем» - отличившимся в «королевичев приход» и погибшим в 1619 году.
В 1629 году крестился некий Янмамет-мурза, вероятно другой внук Динбая - Ян (Джан) б. Абдулла б. Динбай, ставший князем Тимофеем Тинбаевым. Позднее он не упоминается, однако известен князь Тимофей Кинбаев, по предположению автора, это одно и тоже лицо.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Помимо этого известна еще пара Тинбаевых, степень родства которых с предыдущими неясна.
В 1669/70 году крестили присланного из Астрахани Алексея Шеим-мурзина сына Тинбаева (Тимбаева). На 1675 год - стольник.
В 1679/80 году отмечен некий Матвей Хан-Канбулатов Тинбаев-Мансуров.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Урмаметевы
скрытый текстПотомки бия Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда.
Первым представителем этого рода оказавшимся в России был вероятно сын Ураз-Мухаммеда Мустафа Уразмаметев, упоминающийся в 1618/19 году (больше о нем ничего не известно).
В 1623 году крестился внук Ураз-Мухаммеда Зорбек б. Арслан ставший стольником князем Василием Урмаметевым. Служил князь плохо, пил и морально разлагался, в 1628 году арестован за попытку бежать из России (возможно по ложному доносу уставших от его художеств дворовых людей), сослан в Чердынь (где сидел в тюрьме), в 1641/42 - 1643/44 - под началом в Кирилло-Белозерском монастыре, затем видимо прощен. В 1634 - 1648 годах в боярских списках писался уже дворянином московским. Умер в 1652/53 году. У него был сын Дмитрий (с 1641 года - стольник, упоминается до 1667 года).
Еще один внук Ураз-Мухаммеда, Токтамет (сын нурадина Кара Кель-Мухаммеда), в детстве был захвачен в плен калмыками, бежал от них в Уфу, здесь был похолоплен воеводой Иваном Чичериным и крещен с именем Яков. В 1628/29 году Токтамет / Яков подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства, был отобран у Чичерина и, после проведенного разбирательства, в 1630/31году сделался дворянином московским князем Яковом Кутмамет-мурзиным сыном Урмаметевым. Упоминается до 1640 года.
Третий внук Ураз-Мухаммеда дворнянин московский князь Куданат / Михаил Бий-мирзин сын (Шейдяков сын) Урмаметев упоминается в боярских списках в 1649/50 - 1667 годах. Он возможно был сыном Шейдяка (Саид-Ахмеда) Урмаметева, сидевшего в 1624 - 1637 годах в Астрахани на аманатском дворе (за временную откочевку в Крым).
Мамаевы
скрытый текстПотомки бия Малой Ногайской Орды Якшисаата б. Мамая б. Саид-Ахмеда б. Мусы.
Первым в России появился сын указанного Якшисаата. Его мусульманское имя и время выезда неизвестны (возможно выехал еще до Смуты). В 1618 - 1628 годах упоминается как дворянин московский князь Василий Якшатов (Якшисатов) Мамаев. В королевичев приход участвовал в московском осадном сидении, за что награжден переводом части ярославских поместий в вотчину.
Двоюродный брат Василия малолетний Султанбек / Иван б. Саин. Мамай до 1612 года был захвачен в плен астраханскими стрельцами и продан холмогорскому купцу Василию Исаеву (который его и крестил). В 1613 году Иван бежал из Астрахани в Москву (где ходил по приказам со своей историей, но официально челом не бил и ничего не добился), из столицы перебрался в Вологду (где кормился по монастырям), в 1619 году записался в стрельцы и лишь в 1633 году подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства. После разбирательства сделался дворянином московским князем Иваном Саиновым Мамаевым (в документах значился выезжим с 1633/34 года). Умер к 1659/60 году. Его сын Григорий (стольник в 1652 году) умер в 1660/61 году. В боярском списке 1712 года числится некий жилец Кирилл Иванович Мамаев, возможно еще один сын князя.
Токаевы (Тукеевы)
скрытый текстПроисхождение неизвестно.
В 1648 году юртовский мурза Кучук Токаев (Тукеев) крестился в Москве став князем Дмитрием. Иных сведений о нем нет.
Ураковы
скрытый текстПотомки Урака б. Алчагира б. Мусы, сына бия Ногайской Орды Алчагира и внука бия Ногайской Орды Мусы.
Известная генеалогия Ураковых вызывает большие сомнения. Известны две ветви рода - потомки основателя Малой Ногайской Орды (Казыева улуса) известного Газы (Казыя) б. Урака и его предполагаемого брата Рудака / Рудачека.
Правнук Газы б. Урака Сафарлей б. Али б. Караш (Хорошай) был взят в плен «за порогами» в 1659/60 году. Обменять на русских пленных мурзу не удалось и он сидел в тюрьме вплоть до крещения в 1670/71 году. После крещения стал дворянином московским князем Яковом Ураковым. В 1679 - 1691 годах - стольник, умер не позднее 1700 года. У него были сыновья Иван (жилец с 1702 года) и Петр.
У Газы б. Урака был будто бы брат по прозвищу Рудак /Рудачек (по цвету волос), попавший в русский плен в конце XVI века, живший в Уфе, крестившийся в 1590/91 году с именем Андрей Федорович (его сыновья использовали фамилию Рудаков) и поверстаный в некие «дворяне» (до 1619/20 года служил толмачом).
От этого Рудака / Андрея выводила свой род «уфимская» ветвь Ураковых. По мнению автора генеалогия этой ветви сфальсифицирована - видимо узнав о пожаловании в князья Сафарлея / Якова Уракова и вдохновившись историей Якова Урмаметева (тоже уфимца) Рудаковы решили и сами пролезть в князья и, в условиях неразберихи, связанной с массовой раздачей титулов новокрещеным ногаям, это им удалось.
У Рудака / Андрея Уракова имелось три, служивших по Уфе, сына - Андрей / Потеха (толмач), Антон и Иван.
У Андрея / Потехи были сыновья Василий и Андрей [так в тексте, на прилагаемой схеме Андрей не показан]. У Василия имелся сын Григорий, обзаведшийся обширным потомством (трое сыновей, шестеро внуков и четыре правнука), выше полковника, впрочем, не поднимавшимся. Известен также дворянин московский Дмитрий Васильевич Ураков - возможно еще один сын Василия.
У Андрея имелся сын Михаил, дослужившийся в 1720-е до поручика, сосланный в 1731 году за злоупотребления в Илимск и служивший там слободским приказчиком.
У Антона были сыновья Богдан, Василий, Семен и Михаил. У Богдана (убит во время башкирского восстания, не позднее 1664 года), были сын Федор (стольник, упоминается в 1691 - 1721 годах) и внук Степан Федорович (жилец на 1712 и 1713 годы).
Семен Антонович (вместе со своим сыном Иваном Семеновичем) в 1686 году подал челобитную о признании за этим родом княжеского достоинства «против стольника князя Якова Уракова». В 1689 году ее удовлетворили.
У Ивана Рудакова имелись сын и внук Василии и правнук Егор. У этого последнего имелось три сына - Михаил (дослужился до поручика), Афанасий (генерал-майор, в 1802 году подал прошение о признании за ним княжеского достоинства) и Василий (генерал-лейтенант).
Араслановы
скрытый текстДворянин московский Григорий Кузьмин Арасланов, из ярославских новокрещенов, отмечается в боярских книгах в 1658 - 1677 годах (без княжеского титула). Возможно ногайский выходец, однако известны и Араслановы из арских князей [татарские князья Вятской земли].
Ураевы
скрытый текстВ 1689 и 1691 годах в боярских книгах отмечен стольник Андрей Келмамаевич Ураев. Упоминается до 1721 года, в числе стольников новокрещеных с 1680 года. Предположительно ногайский выходец.
Материальное обеспечение
скрытый текст
Содержание ногайских мурз и князей складывалось из набора отдельных элементов, подбиравшихся индивидуально в каждом конкретном случае. При назначении содержания учитывался целый ряд факторов - политические соображения, статусное положение конкретного рода и лица, наличие семьи и слуг,
имевшиеся прецеденты, личные служебные заслуги и проч.
Поместный и денежный оклады
Поместный и денежный оклады ногайских выходцев документально фиксируются с конца XVI века, хотя возможно они в какой-то форме существовали и ранее. Размер оклада определялся «честностью» конкретного персонажа. Так, бОльшие оклады назначались детям и внукам биев, нурадинов и кековатов, отцы получали больше сыновей, старшие братья больше младших и т. п. Некоторые лица получали высокие оклады по политическим соображениям или усилиями высокопоставленной русской родни. Повышение окладов достигалось службой, до 1630-х годов существенно повысить их мог и переход в православие.
Максимальный размер окладов у ногаев доходил до 1300 четей и 200 рублей (у Чингисидов до 2000 четей и 200-250 рублей), некоторым исключением были лишь Юсуповы и Урусовы. На протяжении семнадцатого столетия, параллельно с падением значения ногайских выходцев, падал и размер их окладов, сокращаясь от поколения к поколению. Некоторым исключением и здесь были князья Юсуповы и Урусовы.
Денежный оклад в первой половине XVII веке обычно платился в половинном размере. Для получения второй половины требовалось прилагать отдельные усилия - подавать челобитные с объяснением зачем она понадобилась получателю (крещение, пожар, дворовое строение, свадьба, похороны и проч.). Некоторые ушлые ногаи, впрочем, исхитрялись получать полный оклад почти постояннно.
Автор приводит сведения об окладах отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году дали оклад в 1000 четей и 100 рублей.
Айдар Кутумов на 1584 год имел оклад в 70 рублей, Барай б. Али на 1619 год - 200 рублей (поместного не имел), позднее - 120 рублей. Ибердей / Тихон Бараев после крещения в 1629 году получил оклад в 1000 четей и 100 рублей. Его брат Сафаралей / Петр после крещения в 1646/47 году получил такой же оклад - «против брата». Каплан / Петр Касбулатов после крещения в 1688 году получил оклад в 400 четей и 25 рублей.
Эль Юсупов на 1584 год имел оклад в 250 рублей, его сын Сююш на 1613 год - 300 рублей (с придачей «за подмосковные службы», поместного оклада не имел), позднее - 250 руб.
Корел / Кореп Чин-мурзин сын в 1615/16 году был поверстан окладом в 500 четей и 40 рублей (к 1631 году поместный оклад вырос до 550 четей). Его сын Бий / Иван после крещения в 1639/40 году получил оклад в 1200 четей и 150 рублей.
Василию Никитичу в 1646 году дали новичный оклад в 500 четей и 30 рублей (уже в 1646/47 году видимо повышенный сразу до 800 четй и 47 руб., за черкасские службы и Конотопский бой 1658 - 1659 гг. князю прибавили 100 четей и 10 руб.). Брату Василия, Федору Никитичу, в 1646 году назначили новичный оклад в 500 четей и 25 рублей.
Никита Сююшевич на 1609/10 год имел оклад в 40 руб., на 1628/29 год его поместный оклад (с прибавкой за московское осадное сидение 1618 года) составлял 800 четей. Сын его, Василий Никитич, на 1658 - 1659 год имел оклад в 600 четей и 30 рублей (с прибавкой в 100 четей и 10 руб. за черкасские службы и Конотопский бой).
Алей и Каплан Тугановы дети Шейдяковы имели видимо оклад по 1050 четей и 120 рублей. Канай Еналеев - 850 четей и 80 рублей. Сафарлей Исламов на 1606/07 - 800 четей и 80 рублей.
Салтанай / Иван Меньшой Капланов на 1631 год год имел оклад в 600 четей и 40 рублей. Девлет Еналеев на 1631 год - 500 четей и 40 рублей.
Зорбек / Федор Шейдяков после крещения в 1621/22 году получил оклад в 700 четей и 70 рублей.
Келмамет / Артемий Теникеев имел оклад в 800 четей и 90 рублей, после крещения в 1621/22 году видимо повышенный до 1100 четей и 150 рублей.
Малоногайский Бек / Леонтий Шейдяков после крещения в 1619/20 году получил оклад в 1100 четей и 130 рублей. Брат его Дмитрий имел оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков после выезда в 1648/49-м был верстан окладом в 550 четей и 35 рублей, за литовскую службу 1654 - 1656 годов ему добавили 150 четей и 12 рублей (по другой версии, за службы 1658 - 1660 гг. прибавили 250 четей и 19 рублей, а за службы 1663 - 1665 гг. - еще 130 четей и 9 рублей, доведя оклад до 930 четей и 63 рублей).
Бегай Смайлев в 1613/14 году имел (с прибавками) оклад в 1200 четей и 100, 130 или 200 рублей. Его сын Дьян в том же году имел оклад в 900 четей и 80 рублей, а другой сын Сары / Лев на 1621/22 год - 600 четей и 40 рублей. После крещения в 1625/26 году его оклад повысили до 1000 четей и 100 рублей.
Андрей Сатыевич Урусов на 1615/16 год имел поместный оклад в 1500 четей, денежный (на 1618/19 год) - 200 рублей. На 1628/29 год - уже в 1000 четей и 200 рублей.
Семен Андреевич Урусов на 1637 год имел оклад в 1300 четей и 170 рублей (к 1655/56 году - уже 500 рублей).
Каплан / Федор Барангазыев на 1632/33 год имел оклад в 1000 четей и 100 рублей, а его младший брат Зор / Григорий на 1640/41 год - в 800 четей и 80 рублей.
Кантемир / Алексей Тинмаметев и его двоюродный брат Атманай / Петр Кейкуватов имели оклады в 600 четей и 60 рублей. Племянник Атманая / Петра Иван Егенеев в 1640/41 году - в 700 четей и 70 рублей.
Дмитрий Байтереков после крещения в 1632/33 году получил оклад в 800 четей и 80 рублей. Его брат Кантемир / Григорий и двоюродный брат Газы / Михаил после крещения в 1649 году получили по 550 четей и 35 рублей (за службы 1659 - 1661 годов обоим добавлено по 120 четей и 10 рублей).
Тимофей Тинбаев после крещения в 1628/29 году получил оклад в 600 четей и 60 рублей.
Василию Урмаметеву после крещения в 1622/23 году дали оклад в 1100 четей и 150 рублей. Яков Урмаметев в 1630 получил клад в 900 четей и 100 рублей. Михаил Шейдяков Урмаметев на 1649 год имел оклад в 550 четей и 35 рублей.
Ивану Саинову Мамаеву в 1633/34 году дали оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрию Токаеву после крещения в 1649 году дали оклад в 550 четей и 35 рублей.
Федор Богданов Ураков (из уфимской ветви) в 1685 году получил оклад в 550 четей и 25 рублей.
Реальное землевладение
Историю землевладения ногайских выходцев можно проследить лишь начиная с 1560-х годов.
С осени-зимы 1569 года они компактно испомещались в Романовском уезде, где Иван Грозный вероятно планировал создать некий ногайский вариант Касимовского царства. Затея эта провалилась и в дальнейшем ногаев селили и в других уездах (прежде всего - в Ярославском). Впрочем и позднее правительство видимо стремилось испомещать мурз / князей более менее компактно. Поместья им давались из дворцовых земель и по весьма щедрым нормам. Поместья бездетных выходцев передавались обычно новым ногайским выходцам. У крещеных ногаев к поместьям добавлялись обычно приданые вотчины их русских жен и за счет этого (а также обычной купли-продажи-мены вотчин) их землевладение постепенно «расползалось» по стране.
После Смуты нормы испомещения ногайских выходцев понижаются, обширные владения прежних выходцев постепенно раздробляются между наследниками и к концу XVII века землевладение ногайских выходцев уже практически ничем не отличается от общерусского.
В 1680 году оставшимся ногайским мурзам-мусульманам было предписано креститься. У отказывавшихся отписывали поместья, переводя в кормовые иноземцы.
В Романовском уезде ногайским мурзам в лучшие (для них) годы принадлежало возможно до 30 000 четей земли. По писцовой книге 1593 - 1594 годов среди местных помещиков значились Эль Юсупов (6186 четей, видимо вместе с землями его испомещенных казаков - 125 человек), Алей и Айдар Кутумовы (2940 и 2622 чети, тоже видимо с землями казаков), Афанасий Шейдяков (1635,5 чети).
Среди бывших помещиков уезда указаны Ибрагим б. Юсуп (2028,5 чети), Ак-Мухаммед б. Юнус (1558,5 чети), Сети-Мухаммед б. Ибрагим б. Юсуп (617 четей - возможно неполные данные), Бабаджан Уразлыев (1432,5 чети), Темир Уразлыев (1348 четей), Никита / Султан-Гази Кошумов (1613,5 чети), Мустафа Шейдяков (1060,5 чети) и др.
На 1627 год за Сююш-мурзой Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Барай-мурзой Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара).
Помимо Ростовского и Ярославского уездов известны земельные владения ногайских мурз в Дорогобужском (Бегай-мурза Смайлев), Переяславском (тот же Барай Кутумов - 1170 четей на 1627 год), Ростовском и Суздальском (тот же Бегай-мурза) уездах.
Владения крещеных ногайских выходцев отмечены в 45 уездах. Так, упомянутый Афанасий Шейдяков, помимо 1635,5 четей в Романовском уезде, имел поместья в Звенигородском (633 чети) и Зубцовском уездах и приданую вотчину жены в Новоторжском уезде.
За Иваном Келмамаевым Шейдяковым числились обширные подмосковные поместья - 1681 четь и 1253 копны сена (75 крестьянских и бобыльских дворов) в Сурожском стане и 406 четей и 240 копен (9 дворов) в Горетове.
За Иваном Канбаровым в Коломенском уезде числились 601 четь и 1775 копен сена.
Петр Урусов, вместе с данной ему в жены вдовой одного из братьев Шуйских, владел вероятно 4800 четями земли.
Михаил / Гази Канаев Тинбаев на 1617 год владел в Шацком уезде поместьем в 1098 четей (в пересчете на добрую землю - 881) и 450 копен (правда сильно запущенным / разоренным - 1057 четей в перелоге или заросло лесом). Позднее оно как выморочное перешло к Василию Урмаметеву, а в 1628 году было отписано у последнего за измену.
За Андреем Сатаевичем Урусовым в том же Шацком уезде на 1617 год числилось огромное поместье в 2226 четей (в пересчете на добрую землю - 1382), 2050 копен сена и 83 двора (тоже сильно запущенное - в перелоге и лесом поросло - 1719 четей).
Леонтий Салтанашевич Шейдяков после крещения в 1620 году получил поместья в Нижегородском уезде (669 четей в одном поле, 110 крестьян и бобылей).
В середине и второй половине XVII века значительные владения числятся только за Урусовыми и Юсуповыми. Так, на 1646 год Василий Никитич Юсупов владел в Новоторжском уезде вотчиной с 1048 дворами и 3755 крестьянами.
Никита Семенович Урусов владел вотчинами в Ростовском (не менее 142 дворов и 467 крестьян), Переяславском (92 двора, 226 крестьян), Пешехонском (50 дворов, 172 крестьянина) уездах, вотчиной и поместьем в Рязанском уезде, небольшой подмосковной вотчиной? (7 дворов, 24 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Веневском уезде. Его брат Петр Семенович - вотчиной в Переяславском уезде (133 двора, 446 крестьян), подмосковным поместьем / вотчиной (22 двора, 93 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Соловском уезде и т. д
Поденный корм и питье
Корм и питье давались неиспомещенным мурзам и князьям. После испомещения их выдача обычно прекращалась - за исключением случаев приобретения совсем небольших земельных владений (в таких случаях корм мог сохраняться, но размер его пересчитывался). Корм давался также лицам лишенным земельных владений, пленным и заключенным.
Размер корма определялся теми же соображениями, что и размер окладов - политическая целесообразность, статус конкретного лица и рода, прецеденты и проч. Как отмечает автор, в большинстве случаев сложно понять на какое число людей давался корм, что затрудняет и ранжирование получателей и определение реального размера дач на человека.
Как и в случае с окладами этот вид жалованья документально фиксируется с конца XVI века, однако вероятно существовал и ранее. До середины XVII века размеры дач возрастали, позднее наметилась тенденция к их уменьшению. Тем не менее, на протяжении всего семнадцатого столетия на поденном крме можно было существовать вполне комфортно и некоторые семьи ногайских выходцев предпочитали кормовое содержание испомещению (за что и поплатились уже в петровские времена).
При вступлении мурзы / князя в брак к его корму обычно добавляли 2-3 алтына - на корм жене. Вдова могла рассчитывать на половину корма супруга. Наибольший размер корма в XVII веке - 3 рубля в день. Столько (по не совсем понятным причинам) давали в 1642/43 году Льву Михайловичу Шейдякову (потомку мурзы Теникея) с женой и людьми.
Мурзам и князьям попавшим в опалу давали видимо лишь половину назначенного им корма. Так, отправленный в Кострому Урак Тинмаметев получал в 1626 году на себя семью и своих людей по 35 копеек в день (5 коп. - самому мурзе, трем его женам и падчерице - по 4, людям (7 человек) - по 2).
Содержащимся в тюрьме / пленным давали еще меньше, так плененному в 1617 году Беку Салтанашевичу Шейдякову полагалось по копейке на день.
Небольшим был и корм дававшийся новокрещенам бывшим в монастыре «под началом», так, в 1621/22 году бывшей жене Артемия Шейдякова Феодоре в Новодевичьем монастыре полагалось 6 копеек в день, ее людям - по 1,5 копейки.
Автор приводит сведения о корме отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году назначили корм в 50 копеек + 4 чарки вина и по ведру меда и пива в день.
У Касбулата Кутумова за отказ креститься в 1679/80 году отписали поместья, переведя кормовым иноземцем в Вологду и назначив корм в 30 копеек. Его сыновьям давали от 15 до 30 копеек в день.
Чину Юсупову в феврале 1596 года назначили месячный корм в 35 рублей, однако непонятно давался ли он лишь самому мурзе с семьей или же и всем его людям (одних мужчин 37 человек).
Его сын Корел / Кореп получал 10 рублей в месяц (33 коп. в день) плюс деньги в счет питья (4 чарки вина и по 2 кружки меда и пива в день). В 1616/17 году ему полагалось 30 коп. в день (15 - самому, 6 - жившей с ним матери и 9 - трем его людям) + питье.
Сын Корепа / Корела Иван Юсупов после крещения в 1639/40 году получал 60 или 84 копейки в день + питье (по 3 чарки вина, по кружке романеи и меда вишневого, 1/3 ведра меда паточного и 2/3 ведра меда цеженного из Дворца и по 4 чарки вина и по 1 1/3 ведра меда и и пива из Новой чети). Его людям давали по 3 коп. и чарке вина в день и (на всех) по 1 1/3 ведра пива. После опалы 1665/66 года, сопровождавшейся отпиской земель на государя, Иван жил на 30 руб. кормовых в месяц.
Федор / Зорбек Шейдяков в 1620/21 году до крещения получал 10 копеек в день (его люди - еще по три), после крещения - уже 25 или 30 копеек, 4 чарки вина, кружку или полведра меда и 2 кружки пива в день.
Девлет Шейдяков, будучи ярославским кормовым татарином, в 1626 году получал по 25 копеек в день. Его жене давали по 24 копейки (видимо по причине высокого статуса - она была дочерью сибирского хана Кучума).
Канай / Алексей Еналеев Шейдяков в 1647 году получал 25 копеек в день, а его сыновья новокрещены Василий и Никифор - по шесть.
Упомянутому Льву Шейдякову с семьей и людьми в 1642/43 году давали аж по 3 рубля в день.
Бегаю Смайлеву давали 21 копейку в день. Его сын Сары / Лев до крещения в 1625/26 году получал по 15 коп., после - 30 коп. [Так у автора, выше этот же персонаж упоминается как испомещенный еще до крещения, соответственно корм ему вроде бы не полагался].
Тук / Иван, Андрей Сатыев и Петр Канович Урусовы с сентября 1615 года получали по 15 копеек в день, а шестеро их людей - по три. С мая 1616 года новокрещеным князьям стали давать по 60 копеек, 4 чарки вина, ведру меда и пива в день, а их людям (4 человека) - по 3 копейки в день (+ 2 ведра пива на всех). Помимо этого каждому князю давался корм для трех лошадей и по возу дров в неделю и в общей сложности они получали 25,62 руб. в месяц. В июле и августе на корм добавили по 5 рублей и месячный размер его достиг 35 руб, а годовой 427,44 рублей.
Григорию Барангазыеву в 1640/41 году назначили корм в 25 копеек, однако давали только половину - остальное засчитывалось как доход от земельных владений его супруги Ульяны.
Федору Барангазыеву [видимо с 1630/31 года] давали 60 копеек, 4 чарки вина и полведра или ведро меда и ведро пива.
Ивану Егенееву Кейкуватову в 1640/41 году дали корм в 20 или 21 копейку, позднее повысив до 24 - 25.
Алексею Исупов Тинмаметеву давали 20 копеек, 4 чарки вина и 3 кружки меда в день [1644?].
Прокопию Уракову Тинмаметеву в 1665/66 - 19 копеек.
Дмитрий Алеев Байтереков после крещения в 1632/33 году получал 50 копеек, 3 чарки вина, 1/2 ведра меда 1/2 или ведро пива.
Тимофею Кинбаеву / Тинбаеву до крещения в 1628/29 году давали 6 копеек, после - 15 копеек, 4 чарки вина и по кружке меда и пива, позднее корм увеличили до 35 копеек.
Василию / Зорбеку Урмаметеву до крещения в 1623 году давали 10 копеек, после - 25 копеек, 4 чарки вина и по 1/2 ведра меда и пива. После женитьбы корм подняли до 50 копеек.
Токтамету / Якову Урмаметеву давали (видимо с 1630/31 года) 36 копеек, 4 чарки вина, кружку меда и 2 кружки пива.
Ивану Саинову Мамаеву давали [с 1633/34?] 30 копеек, 4 чарки вина кружку меда и 2 кружки пива, по другим данным - 25 копеек, вычитая ежегодно по 17,6 рублей [т. е примерно 20%] за земельное владение жены.
***
Помимо собственно корма неиспомещенным выходцам полагались также дачи на конский корм, дрова и свечи. Их часто засчитывали в общий размер поденного корма, однако иногда расписывали отдельно.
В известных случаях корм давался на 1, 2, 3 лошади (Льву Шейдякову в 1642/43 году давали даже на 10), обычный его размер в XVII веке составлял видимо 72 копейки в месяц и возможно давали его только полгода (с ноября по апрель). Дров обычно давали один воз на неделю (~ 20 копеек?), на свечи - по 1-2 копейки на день.
Разовые дачи
Ногайские выходцы получали также разнообразные разовые дачи - на приезд, за крещение, на дворовое строение, свадьбу, похороны и т. д.
Дачи на приезд существовали в XVI веке, в семнадцатом столетии их видимо давать перестали, однако когда именно неизвестно. Дачи давались добровольно выезжавшим на постоянное жительство, прибывавшим для участия в военных кампаниях или по другим делам и (как минимум в первой половине XVII века) романовским мурзам при отправлении на полковую службу или при возвращении с нее. Пленным и прочим насильно вывезенным она не полагалась.
О размерах дач можно судить по известным прецедентам.
Выехавшему в 1596 году Чину Юсупову, сыну Эль-мурзы дали шубу бархатную на соболях (50 рублей), кафтан камчат золотной (15 рублей), опашень зуфной (5 рублей), кубок серебряный весом в 4 гривенки и видимо еще что-то (запись испорчена). Что-то дали также бывшим с ним сыновьям, детям, женщинам и слугам. Взрослых мужчин (37 человек) поделили на три статьи, дав им по два отреза ткани (шелковой и шерстяной) и от 1 до 3 рублей деньгами.
Прибывшим в 1631/32 году для участия в польской войне Адилю Урмаметову (с 23 всадниками) и Яну Иштерекову (с 14 всадниками) дали по шубе камчатой на соболях (43,87 и 48,2 руб.), а первому еще и шапку лисью (6 рублей). Адиль, в свою очередь, ударил государю челом двумя конями - серым и саврасым.
Дача за крещение фактически состояла из двух или даже трех частей. Первая часть («за подначальство») состояла из креста и комплекта одежды и давалась посланным «под начало» в монастырь новокрещенам. Вторая давалась новокрещенам бывшим на приеме у государя («у руки») и включала разнообразные ценности. Царская аудиенция предполагала и последующее приглашение к царскому столу, вместо которого могли дать еще одну дачу - «в стола место» (см. ниже).
Дополнительной «наградой» за крещение видимо служил воспреемник, подбиравшийся из числа представителей верхушки двора или приказного аппарата. Так, крестным Василия Урмаметева в 1623 году стал окольничий С. В. Головин, Льва Бигеева Смайлева в 1625/26-м - окольничий кн. Д. И. Долгоруков, Тихона Бараева Кутумова в 1629 году - окольничий кн. Г. К. Волконский, Якова Урмаметева в 1628/29 году - думный дьяк Федор Лихачев и т. д. В худшем положении, соответственно, оказывались крестившиеся в Астрахани - их воспреемниками были представители тамошней верхушки.
Дача крещеному при Борисе Зорбеку / Александру Араслановичу Урусову (брату пресловутого Петра Урусова) долгое время была видимо верхним пределом подобных дач (столько же дали лишь один раз - Леонтию Шейдякову в 1628 году). Зорбек / Александр получил золоченый серебряный кубок (6 с лишним гривенок, 18,03 рубля), серебряные братину, ковш и стопку (всего почти на 15 рублей), камку бурскую на 17 рублей, 40 аршин камки адамашки четырех разных цветов, 40 аршин атласа четырех цветов, постав синего лундыша (20 рублей), 40 соболей (21 рубль), 2 опашня (один в 30 рублей), кафтан (20 рублей), бархата на 20 рублей и 100 рублей деньгами.
В 1639/40 году Ивану Кореповичу Юсупову дали еще больше - в общей сложности на 905 с лишним рублей. Кроме традиционных тканей, серебра, разнообразной одежды (включая атласную соболью шубу стоимостью почти в 84 рубля и два пристяжных воротника-ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом в 40 и 150 рублей) дача включала аргамака с конской упряжью (соответственно 60 и 91,54 рубля) и 150 рублей деньгами.
Прочие дачи были много скромнее - Сары / Льву Бигееву Смайлеву в 1625/26 году дали «за подначальство» серебряный крест и одежду (всего на 35 рублей), а «как был у государя» - еще на 90 рублей вещей и денег (серебряный кубок, ткани, 40 соболей и 20 рублей деньгами).
Федор / Зорбек Еналеев Шейдяков в 1621/22 году получил платья на 35 рублей, а «как был у государя» - соболей на 30 рублей и 30 рублей деньгами.
Крестившемуся в 1671/72 году белгородскому мурзе Сафарлею / Якову Туганову сыну Уракову дали всего 25 руб. на платье и соболей на 25 рублей. И т. д.
Дачи на крещение получали и женщины. Им давали одежду и деньги, к руке они видимо не допускались и дополнительной дачи за это не получали.
Дача «в стола место» полагалась всем побывавшим «у руки» (по случаю приезда, крещения, отбытия в полки и проч.) и не приглашенным позднее к царскому столу.
В 1637/38 году Сююшу Юсупову, посланному на полковую службу в Туле, дали из Дворца калач крупчатый в 1,5 лопатки; 1,5 кружки вина двойного, по кружке романеи и меда обарного, по половине кружки меда паточного и цеженного и ведро пива; а из Большого Прихода - гуся, утку, зайца, тетерева, барана, 4 курицы и 36 копеек деньгами (на мелкое).
В 1640/41 году посланным в полки ярославским поместным и кормовым мурзам Канаю и Девлету Еналеевым и Салтанаю, Хану и Бию Каплановым Шейдяковым дали по кружке двойного вина и романеи, по 1/2 ведра меда паточного и цеженного, ведру пива, гусю, утке, барану, по 2 курице и по 20 копеек.
На дворовое строение (как новое, так и послепожарное), крестины детей, похороны обычно давали половину годового денежного содержания, хотя имелись и исключения, так, в 1640/41 году Ивану Егенееву и Григорию Барангазыеву выдали на дворовое строение 70 и 80 рублей соответственно - «против их оклада».
Дачи на свадьбу давались как натурой, так и деньгами (последние считались видимо менее престижными), размер их зависел от статуса получателя. Так, Андрею Сатыевичу Урусову в 1617/18 году дали из Большого Дворца по 20 ведер пресного и паточного меда, 4 ведра романеи, 2 ведра алкану, по 6 ведер меду пресного [так в тексте] и меду вишневого, 12 ведер вина горячего и 20 четей солоду яичного. Дача Ивану Араслановичу Урусову была вдвое меньше.
Деньгами давали обычно 1/2 оклада, иногда треть оклада, иногда против оклада. Дачи на свадьбу могли получать и женщины.
Дачи на платье известны только для женщин (хотя у Чингисидов их получали и мужчины). В известных случаях давали по 10, 15 и 20 рублей (видимо ежегодно).
Службы и местничество
скрытый текст[Некрещеные мурзы несли в основном военную службу во главе / в рядах татарских формирований, гоударственных назначений не получая. Некоторым исключением был видимо Канбар-мурза / Канбар б. Момола в начале XVI века бывший в паре походов на литву воеводой передового полка (см. выше)].
Некоторые крещеные мурзы / князья во второй половине XVI века получали высокие назначения - полковыми и городовыми воеводами, наместникам и проч.
Иван / Ураз-Али Махметевич / Ахметевич Канбаров в 1560 - 1563 годах назначался первым воеводой сторожевого и передового полков на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1567 годах - второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву, в 1568 - 1569 годах первый воевода полка левой руки «на берегу». В 1570 году отправлен послом в Польшу (умер в дороге).
Иван Мовкошевич Тевекелев* в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года первый воевода передового полка в «немецком походе».
Петр Тутаевич Шейдяков в 1571 - 1572 годах первый воевода сторожевого и передового полков в государевых походах «на берегу» и против «свейских немцев». В зимнем государевом походе на Пайду 1572/73 года - второй воевода большого полка, в 1572/73 году псковский наместник. В государевом походе в Ливонию 1577 года - первый воевода полка правой руки.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1576/77 годах наместник и воевода в Юрьеве, оставаясь юрьевским наместником участвовал как первый воевода передового и большого полков в различных ливонских походах.
Позднее высоких полковых назначений ногайские выходцы почти не получали. Единственным исключением (если не считать Урусовых) был Михаил Канаевич Кинбаев (Тинбаев), в 1616 году посланный с полком воевать литву.
Отдельные ногайские выходцы в XVII веке назначались городовыми воеводами.
Лев Бигеевич Смайлев в 1633 году был воеводой в Ярославле.
Андрей Сатыевич Урусов в 1637 - 1638 годах был воеводой в Нижнем Новгороде.
Иван Корепович Юсупов в 1653 году был белозерским воеводой.
Михаил Федорович Шейдяков в 1685 году числился воеводой Козлова (фактически возглавлял масштабную военно-географическую экспедицию производившую изыскания для строительства новой засечной черты). В 1686 году - воевода в Соликамске.
Андрей Никитич Урусов - в 1697 году воевода в Вятке.
Отдельно следует выделить Семена Андреевича Урусова и его сыновей, получавших соответствующие назначения уже как часть русского правящего слоя.
Сам Семен Андреевич Урусов в 1641 - 1645 годах был кравчим, в 1645 - 1647 годах - воеводой в Новгороде, в 1655 году - боярин и воевода в Вильне.
Петр Семенович Урусов - кравчий с 1658 года, в 1670 году полковой воевода в походе против Разина, боярин с 1676 года.
Никита Семенович Урусов - воевода в Новгороде в 1677 году, воевода в Киеве в 1678 - 1679 годах, боярин с 1679 года, в 1681 - 1682 годах двинский воевода.
Юрий Семенович Урусов - боярин с 1676 года, в 1679 году воевода в Смоленске, в 1683 году возможно в Казани, судья Московского судного приказа в 1683 - 1685 и 1697 - 1699 годах.
Федор Семенович Урусов - с 1680 года боярин, в 1683 - 1684 годах воевода в Новгороде. Судья Пушкарского (1682, 1689 - 1693), Иноземного (1689 - 1694), Рейтарского (1689 - 1694) приказов.
Известно всего три случая местничества ногайских выходцев.
В 1564/65 году на Ивана Махметевича Канбарова, назначенного третьим воеводой большого полка бил челом 4-й воевода - князь Петр Иванович Татев (не взял списков, [ему видимо отказали])
Осенью 1567 года на того же Ивана Канбарова, назначенного уже вторым воеводой большого полка бил челом Андрей Иванович Шеин - второй в правой руке (тоже списков не взял, [исход дела неизвестен, сам поход не состоялся]).
В марте 1641 года на именинах царицы Евдокии Лукьяновны стольник кн. Иван Иванович Дашков бил челом на кравчего кн. Семена Андреевича Урусова - и был сурово наказан (бит кнутом и на неделю посажен в тюрьму).
Как отмечает автор, иски к Канбарову были видимо пробными шарами, для определения общего статуса ногайских выходцев. С Петром и Афанасием Шейдяковыми местничать не решались - их высокий статус был видимо очевиден. В XVII веке большинство ногайских выходцев уже не занимало позиций пригодных для местнических споров, а попытки проверять на «честность» возвысившуюся ветвь Урусовых были жестоко подавлены в зародыше.
* Сам автор здесь именует его Иваном Тевекелевичем Канбаровым. Одни и те же персонажи у него вообще в разных местах текста часто именуются по разному, что очень, очень раздражает.
Частная жизнь, религия и прочее
скрытый текст
Процедура выезда ногайского мурзы в XVI веке выстраивалась по примеру посольских церемоний - на подъезде его встречало специально делегированное лицо, затем с оответствующими церемониями, его доставляли в столицу, проводили прием у государя (причем последний видимо еще и корошевался с мурзой), затем обед и проч. Со временем процедуру максимально упростили (никакого корошевания, вместо обеда дача в стола место и т. д.).
О религиозной жизни мурз-мусульман в России мы почти ничего не знаем. Известно, что здесь жили мусульманские «попы», именовавшиеся в русских документах абызами (термин мулла употреблялся редко и почти исключительно в дипломатических документах). В Москве и, возможно, в других местах имелись вероятно и мечети / молельные дома.
Со временем ногайские мурзы стали все больше переходить в православие. На рубеже 1550 - 1560 годов крестились жившие в России Мансуры (неизвестно добровольно или нет), позднее занимавшие видное положение.
Вторая волна крещений случилась после бегства в 1570 году Ибрагима Юсупова со товарищи в Литву - крестилась часть Шейдяковых, Юсуповых и Кошумовых. Оставшиеся мусульманами Юсуповы и Кутумовы, впрочем, не понесли видимых статусных потерь, а среди новокрещенов этой волны лишь двое (Петр и Афанасий Шейдяковы) сделали заметную карьеру.
Следующая волна крещений случилась при Борисе - пресловутый Петр Урусов и проч.
После Смуты крещение стало обязательным условием выезда и мусульманами оставались лишь мурзы старого выезда и их потомки. Часть из них, впрочем, тоже крестилась - как под давлением властей, так и добровольно. В последнем случае крещению нередко способствовали конфликты с мусульманскими родственниками (Тихон Бараевич Кутумов, Федор Еналеевич Шейдяков).
На рубеже 1670 - 1680 годов оставшимся мурзам-мусульманам было предписано креститься под угрозой отписки поместий и большинство из них перешли в православие. Мусульманами осталась только часть Кутумовых, пошедшая ради этого на понижение своего статуса и ухудшение материального положения.
В целом, как видно, большинство ногайских выходцев крестилось вынужденно и ожидать от них христианского благочестия не приходилось. Бежавшие из России ногаи тут же забывали о крещении, судя по сохранившимся в архивах жалобам отнюдь не все оставшиеся вели христианский образ жизни, почти неизвестны монастырские вклады ногайских новокрещенов и т. д. Так, личными вкладами в монастыри отметились лишь Афанасий Шейдяков, Иван Корепович Юсупов, Иван Шейдяков и Дмитрий / Надыр Ханович Шейдяков. Леонтий / Бек Султанашевич Шейдяков в 1627 году возвел по обету церковь в своем нижегородском поместье.
Браки крещеных мурз из статусных семей (Шейдяковы, Юсуповы, Урусовы и проч.) устраивались видимо русскими властями и в жены им подбирали представительниц статусных же русских семей. Некрещенным мурзам из тех же родов, также видимо не без участия властей, устраивались браки со статусными мусульманками - представительницами Чингисидов и проч.
В XVII веке статус русских жен ногаев формально понизился - это были в основном дочери стольников и дворян московских из не самых громких фамилий. Однако, как отмечает автор, фактически это могло быть и не так, поскольку об их родственных связях по женской линии почти ничего не известно.
Менее «честные» ногайские выходцы, как мусульмане, так и крестившиеся, предпочитали в целом заключать браки с представительницами таких же семей других ногайских выходцев.
Как отмечает автор, никакой общей родовой солидарности Эдигеевичи в целом не демонстрировали, разделяясь на отдельные сообщества, друг к другу в общем равнодушные.
О частной жизни, быте и т. п. ногайских выходцев нам почти ничего не известно. Быт и домашняя обстановка крещеных выходцев видимо мало отличались от быта и обстановки русских служилых людей.
Крещеных Эдигеевичей хоронили видимо поблизости от места проживания / смерти или в некрополях родственников их русских жен. О захоронениях оставшихся мусульманами сведений почти нет - в Романове подобный некрополь неизвестен, неизвестны и захоронения Эдигеевичей в Касимове. В Москве их могли хоронить на татарском кладбище за Калужскими воротами. Тело умершего в 1561 году в Москве Юнуса б. Юсуфа отправили за казенный счет в Сарайчик, традиционное место погребения ордынских ханов и ногайских биев, однако других таких случаев не выявлено.
Ногайские вооруженные формирования
скрытый текст
Во второй половине XVI века ногайские отряды (в качестве наемников) регулярно участвовали в русских военных кампаниях. Численность их обычно была невелика. Так, в Полоцком походе 1563 года участвовали ногайский мурза? Бекчюра «с товарыщи 60 человек» (в ертауле) и мурза Тохтар (Тохтар б. Ураз-Али?) с 15 другими мурзами и 244 казаками (среди которых преобладали не ногаи, а некие «крымские выходцы» - возможно ногаи пришедшие из Крыма) в передовом полку. Наиболее значительный ногайский отряд явился на русскую службу в 1564 году - 20 мурз и голов и 1 653 казака.
Ногайские наемники получали корм для лошадей, относительно корма для них самих четких указаний в источниках не имеется. Основной наградой для ногаев был видимо захваченный в походе полон.
В XVII веке к военной службе регулярно привлекались ногаи жившие под Астраханью - юртовские татары (до 2 000 чел. максимум) и едисаны (максимум 900 чел.), с мурзами и табунными головами.
Среди ногаев живших непосредственно в России наиболее многочисленную группу составляли романовские. С. Немоевский в своих записках сообщает, со слов Эля Юсупова, что в 1560-х годах в Романовском уезде имелось до 700 ногайских казаков. Однако автор считает эту цифру завышенной - за самим Элем Юсуповым и Айдаром и Алеем Кутумовыми изначально числилось всего 225 казаков (соответственно 125, 50 и 50), еще 130 казаков бежало в Литву с Ибрагимом Юсуповым и другими четырьмя мурзами в 1570 году (т. е. всего 355) и вряд ли за прочими, менее значительными мурзами, могло иметься еще три с половиной сотни.
Ко времени Смуты в Романовском уезде, по сообщению все того же Немоевского, оставалось уже не более 300 ногаев, однако автор и эту цифру считает завышенной.
На 1577 год в поход выходило от 220 до 250 романовских татар. На 1616 год в списке романовских татар Посольского приказа числился 171 человек - 72 за Сююшем Юсуповым и 99 (делившихся на три статьи - 27,37 и 35 соответственно) за Бараем Кутумовым. Помимо этого, Юсупов и Кутумов выставляли со своих земель даточных (тоже видимо татар) - 15 и 25 человек соответственно (возможно учтены среди всех романовских татар). В уезде имелись также и некие «безмурзные» казаки.
В целом, насколько можно понять, после Смуты на службу должно было выходить примерно 200 романовских казаков - по сто юсуповских и кутумовских. Фактически, в силу разных причин, выходило меньше. Так, в 1620/21 году Барай Кутумов мог выставить лишь 59 человек своей половины (реально вышло на службу лишь 54 человека, из числа недостающих 15 казаков крестились и вышли из подчинения мурзы).
На 1626 и 1627 годы всего имелось 180 романовских казаков, при этом в Смоленскую войну на службу выходило 129 - 134 человека. На 1636 год имелось всего 159 юсуповских и кутумовских казаков, к 1679 году их число сократилось до 121 человека.
На службу в 1661 году выходило 86 романовских татар и новокрещенов (57 и 29 чел. соответственно) - возможно только половина. В 1663 году романовских мурз, новокрещенов и татар, вместе с ярославскими мурзами и новокрещенами на службе числилось 245 человек.
До испомещения романовские татары видимо получали корм в каком-то виде. После испомещения, помимо доходов с земли, они дополнительно получали денежное жалованье - 500 рублей в год на всех, из местных романовских же доходов. За сбор денег отвечали государев приказной человек (позднее воевода), 4 «лучших татарина» романовских мурз и целовальники (5-6 человек). Указанные «романовские доходы» включали, насколько можно понять*, сборы с посада самого Романова, уездных рыбных ловель, кабаков, таможен и перевозов. Помимо этого в зачет указанных 500 рублей шли положенные казне налоговые сборы с поместий самих мурз («данные и оброчные деньги»), т. е. фактически ногаям давали видимо не 500 рублей, а меньше.
Давший в 1606 году жалованную грамоте Элю Юсупову Самозванец этот зачет (доходивший, как выясняется, до 284 рублей) упразднил, однако и общую сумму выдачи из романовских доходов видимо понизил - до 300 рублей. Дополнительное жалованье давалось лишь выходящим на службу.
Михаил Федорович в жалованной грамоте 1613 года, данной уже Сююшу Юсупову, (приводится в приложениях) эти изменения, в целом, подтвердил.
[Согласно грамоте «данные» деньги с сел Сююша в зачет оклада не идут, а прочие (ямские, ямчужные, посоха и пр.) сборы не берутся. К романовским доходам идущим на жалованье самому Сююшу и его казакам отнесены ямские и кабацкие деньги, тамга, мыт, перевоз, наместничий белый корм и проч.].
Русских жителей уезда судил тот же государев приказной человек / воевода, на суде при этом присутствовали те же 4 «лучших татарина» (возможно для контроля за сбором судебных пошлин). Дела между ногаями и русскими разбирались в Посольском приказе. Самих ногаев вероятно судили их мурзы.
Испомещением казаков поначалу фактически руководили их мурзы, определявшие видимо и размер поместий (что открывало, естественно, широкие возможности для злоупотреблений). Кто занимался обработкой земель казаков неясно, возможно это были латыши - захваченные в литовских походах полонянники. В общей сложности на испомещение ногаев в уезде, согласно жалованной грамоте Федора Ивановича (1584 год) отводилось 10 356 четей земли - 4 912 (3589 пашни и 1323 перелога) четей самим мурзам и 5 444 (4161 + 1283) чети в раздачу их казакам.
В 1615/16 году романовских казаков вывели из подчинения мурзам, приказав испоместить и выдать им ввозные грамоты (аналогичные меры были приняты в отношении темниковских татар). В 1620/21 году татар половины Барая Кутумова вернули под начало мурзы (то же вероятно проделали и с татарами юсуповской половины).
На 1627 год за Сююшем Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Бараем Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара), за романовскими татарами (теоретически - 225) - чуть более 7439 четей.
После Смуты романовские казаки начали постепенно креститься. Крещеный казак выходил из подчинения мурзы - вместе со своим поместьем. Появляются также и «безместные» / кормовые казаки, получавшие от своих мурз не поместья, а корм - возможно как реакция на распространявшееся крещение.
На рубеже 1670 - 1680-х годов, как уже отмечалось, оставшимся помещикам-мусульманам Романовского уезда было предписано креститься - под угрозой отписки поместий. Отказывавшихся креститься переводили в кормовые иноземцы. Эта мера привела к окончательной ликвидации корпорации романовских татар.
Общая численность ногаев живших непосредственно в России и несших здесь военную службу, была, таким образом, невелика и заметной роли они не играли.
* Авторский текст, и так, в общем, своеобразный, в этом разделе особенно сложно понять.

* * *
Великий посад Москвы: подлинная история Китай-города
Книга очень хорошая. Первая часть - общий очерк развития Китай-города, вторая - описание примерно 70 сохранившихся и несохранившихся каменных палат этой части Москвы. Масса иллюстраций, фото, планов, рисунков, цветная карта-вкладыш. Недостатки есть, но в целом, небольшие - слегка дефектная схема (см. ниже), знаменитый Андрей Щелкалов внезапно обозван боярином и т. п.
скрытый текстК северу от Никольской
Небольшой, но важный сегмент Китай-города, дворы которого тесно прижаты к крепостной стене. В XVI веке в начале Никольской улицы (за Ветошным рядом) существовал еще один Гостиный двор, в Греческом монастыре проживали ученые греки, а рядом с монастырем селились голландские купцы... Застройку ее нечетной строны образовывали Заиконоспасский и Николо-Греческий монастыри, несколько частных владений и ряд административно-производственных учреждений, к концу XVII столетия украшенных великолепными зданиями Печатного, Монетного [дворов] и Главной аптеки. У проезда к Троицким воротам Китай-города, от которых брала начало... Рождественка... стояла древняя церковь Троицы в Полях. Среди частных владений XVII века выделялся роскошный дворя князя Воротынского с трехэтажными каменными палатами.
От Никольской до Ильинки
Наиболее просторный сегмент Китай-города, центром которого является древний Богоявленский монастырь... Кроме него важную [градообразующую] роль играли линия богатых усадеб на четной стороне Никольской... и линия монастырских и митрополичьих подворий на нечетной стороне Ильинки... Несмотря на наличие ряда больших и богатых усадеб, мы обладаем незначительной информацией о ранней застройке этой части посада. Если взглянуть на самые крупные из владений XVII века, то оказывается, что подрядных записей на строительство не сохранилось, детальных описаний дворов нет либо они неизвестны...
Между Ильинкой и Варваркой
Уникальный характер района... определялся присутствием двух важнейших городских объектов - Гостиного и Посольского дворов. В кварталах за ними в XVII веке сосредоточилось множество богатых купеческих усадеб, застройка которых стала сменяться на каменную в средине столетия. Как и на северной стороне Ильинки, частные дворы чередовались с монастырскими подворьями... К началу XVIII века подавляющее большинство владений имели каменные дома, а некоторые... и второстепенные каменные постройки... Уцелели единственные купеческие палаты Казакова [ранее считались палатами Симона Ушакова], по большинству прочих объектов нет никакой графической информации. Странно представить, что на территории несостоявшегося заповедника теперь находится самая унылая часть Китай-города... что не снесено, то спрятано за воротами режимных кварталов.
К югу от Варварки
Этот обширный сектор [включал] небольшой комплекс... казенных построек на Москворецкой улице (Мытный двор и Таможня), в основном сохранившуюся линию из палат и храмов на четной стороне Варварки и польностью утраченное Зарядье... В центральной части Зарядья выделялись несколько богатых старых усадеб... На прилегающих склонах холма и в низине под стеною размещалось огромное количество мелких дворов, которые стали объединяться и застраиваться каменными домами лишь на рубеже XVII - XVIII вв...
История застройки южной стороны Варварки изучена достаточно полно, а по Зарядью мы располагаем лишь несколькими подрядными записями на строительство и данными натурных и археологических исследований, срочно проведенных перед сносом района, начатого в 1941 году и продолженного в 1960-е.
***
Помещенная в книге схема слегка дефектная (во втором издании вроде бы исправлено). Сбой в нумерации - №49 правильно обозначены палаты Покровского подворья на нынешнем Васильевском спуске и затем еще раз, неправильно, Мытный двор в Зарядье. Соответственно, начиная с Мытного двора к номеру на схеме надо прибавлять единицу (только к номерам 49-64).
Ниже исправленная схема и список, из телеграм-канала автора.
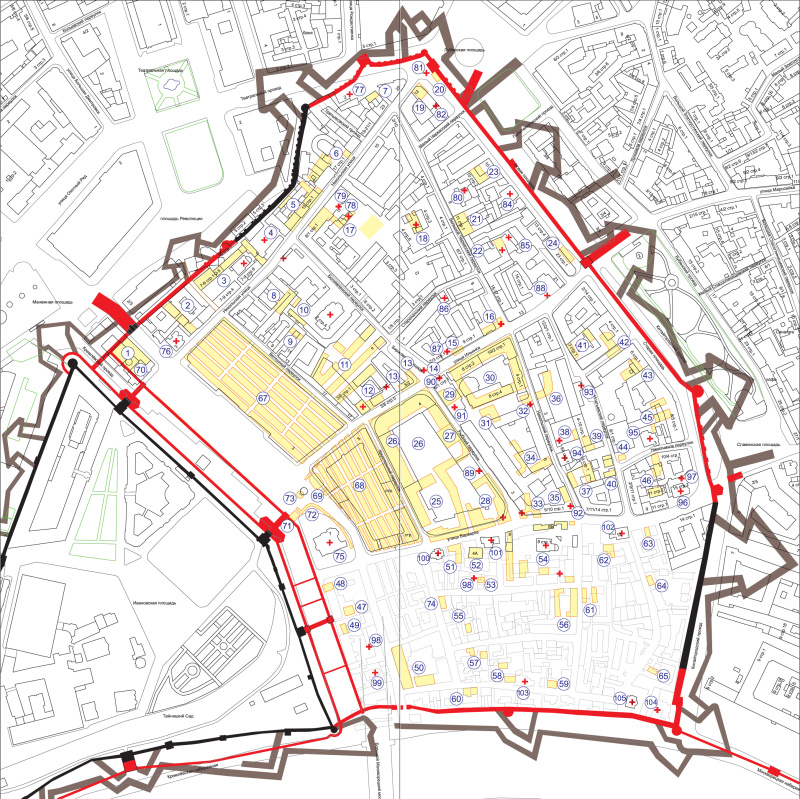
В адресном списке второго издания скорректирован адрес Вологодского подворья (№22). Было - Б. Черкасский переулок, 13. Стало - Б. Черкасский переулок, 15.
Адресный список каменных гражданских построек Китай-города конца XV — начала XVIII столетий
1.Земский приказ и Аптека. Красная площадь, 1.
1.1. Земский приказ. Начало 1660-х (?). Снесен к 1700 г.
1.2. Главная Аптека (Ратуша). 1701 – 1710. Снесена в 1874 г.
2. Монетный двор. Проезд Воскресенских ворот, 5, с. 2. 1696 – 1702 гг.
3. Заиконоспасский монастырь. Никольская, 7 – 9.
3.1. Школьная палата (Коллегиум). 1685 г. Снесен в 1819 г.
3.2. Братский корпус. До 1712, 1720 г.
3.3. Собор Спаса Нерукотворенного Образа. До 1564, 1660, перестроен в 1719 г.
4. Николо-Греческий монастырь. Никольская, 11.
4.1. Кельи. До 1695, 1718 г.
4.2. Собор Николая Чудотворца. XVIв., полностью перестроен в 1718 г. Снесен в 1930-е гг.
5. Печатный двор. Никольская, 15.
5.1. Большая (Книгохранительная) палата. До 1535, 1560-е, 1679 г.
5.2. Приказные и Школьные (Немецкие) палаты. 1642, 1645, 1657, 1683 г. Снесены в 1810 г.
6. Палаты Воротынского (Шереметева). Никольская, 17. До 1679, уличные флигели 1700-х гг. Снесены в 1779 г.
7. Палаты Хованских. Никольская, 23. XVII в.
8. Палаты Голицына (Хворостининых). Никольская, 4. До 1626 г., XVII в. Перестроены в 1876 г.
9. Палаты Казанского подворья. Ветошный переулок, 11. XVII в. Перестроены до 1874 г. Полностью снесены в 2022 г.
10. Богоявленский монастырь. Богоявленский проезд, 2/6.
10.1. Архиерейский корпус. XVIв., 1700 г.
10.2. Братский корпус. К. XVII в.
10.3. Собор Богоявления Господня. 1340 – 1342 г., трапезная XV в. Полностью перестроен в 1690-е гг.
10.4. Церковь Рождества Иоанна Предтечи над Святыми воротами. После 1672 г. Снесена в 1905 г.
11. Палаты Певческой слободы. Богоявленский переулок, 8. 1688 г. Снесены в 1860-е гг. и в 2022 г.
12. Новгородское подворье. Ильинка, 3 / 8.
12.1. Митрополичьи палаты и кельи. До1657, 1677 г. Снесены в 1860-е гг., сохранившаяся западная стена с 2003 г. на новом месте.
12.2. Палаты у ворот подворья. До 1626, 1670-е гг. Снесены в 1788 и 1999 гг.
12.3. Церковь Илии Пророка (что в Торгу). 1519 – 1520 гг., к. XVII в.
12.4. Церковь Никиты епископа Новгородского. 1580-е гг. Снесена в н. XVIII в.
13. Палаты Троицкого подворья. Ильинка, 5. До 1626 г. Снесены в 1790-х гг.
14. Иосифо-Волоцкое подворье. Биржевая площадь.
14.1. Кельи. До 1737 г. Снесены в 1782 г.
14.2. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 1566 г., пристройки XVII в. Снесена в 1782 и в 2017 гг.
15. Палаты Годунова-Шеина. Ильинка, 9. До 1626 г. Снесены в к. XVIII в.
16. Воскресенское подворье. Ильинка, 11.
16.1. Поварня до 1680, кельи 1712 г. Снесены в к. XVIII в.
16.2. Церковь Воскресения Христова (что в Панех). Ранее 1567, перестроенав 1690-е гг. Снесена не позже 1914 г.
17. Усадьба Салтыковых. Никольская, 8 / 1.
17.1. Палаты Салтыковых. Никольская, 8 / 1.XVII в. Снесены и перестроены в XIX в.
17.2. Постройки Каменного и Судного приказов. 1670-е гг. Снесены в 1701 г.
18. Палаты Одоевских. Б. Черкасский переулок, 4. 1680-е гг. Снесены после 1737 г.
19. Палаты Измайлова. Никольская, 12.1690-е (?), 2-я четв. XVIII в. Снесены в 1870 г.
20. Палаты при Владимирской церкви. Никольская, 14 (Лубянская площадь). К. XVII в.(?). Снесены в 1934 г.
21. Палаты Черкасского. Б. Черкасский переулок, 11. XVII в. Снесены или перестроены в XIX в.
22. Вологодское подворье. Б. Черкасский переулок, 15.
22.1. Кельи. До 1666 г. Снесены или перестроены после 1764 г.
22.2. Церковь Стефана Пермского. До 1690 г. Снесена после 1764 г.
23. Палаты Мышецкого. Новая площадь, 10. До 1676 г. Снесены не позже 1882 г.
24. Палаты Соковнина. Ильинка, 23. 1720 г. Снесены не позже 1909 г.
25. Старый Гостиный двор. Варварка, 3.
25.1. Купецкая палата. До 1626 г. Снесена в к. XVIII в.
25.2. Ворота, амбары и лавки. 1638 – 1643 гг. Снесены в к. XVIII в.
26. Новый Гостиный двор. Ильинка, 4.1661 – 1665, 1673 г. Снесен в к. XVIII в.
27. Палаты Шляковского (Сибирский приказ). Рыбный переулок, 2. Ок. 1645 г. Снесены в к. XVIII в.
28. Ростовское подворье. Варварка, 3.
28.1. Архиерейские палаты и кельи. 1670-е, 1699 г. Снесены в н. XIX в.
28.2. Церковь Леонтия Ростовского. XVII в. Снесена в н. XIX в.
29. Греческий двор. Рыбный переулок, 6 / 1.1672 г. Снесен в XIX в.
30. Посольский двор. Ильинка, 8 – 10. До 1626, 1673 г. Снесен в к. XVIII в.
31. Палаты Панкратьева. Рыбный переулок, 3. XVII в. Снесены в 1830-е гг.
32. Иверское подворье. Никольский переулок, 6.
32.1. Кельи (бывшие палаты Назария Чистого). До 1648 г. Снесены в 1761 г.
32.2. Церковь Пресвятой Богородицы Иверской. 1655 г. Снесена в 1761 г.
33. Прилуцкое подворье. Варварка, 5.
33.1. Кельи. До 1722 г. Снесеныв 1780-е гг.
33.2. Церковь Иоанна Предтечи (на Пяти Углах). До 1626 г. Снесена в 1780-е гг.
34. Палаты Твердиковых. Никольский переулок, 6. До 1660 г. Снесены до 1870 г.
35. Палаты Булгаковых. Никольский переулок, 10. До 1630 г. Снесены или перестроены в XIX в.
36. Палаты Юдиных. Никольский переулок, 3. До 1626, сер. XVIIв., 1667 г. Снесены в 1960-х или ранее.
37. Палаты Шустова (Кантемира). Никольский переулок, 9, с. 1. Палаты во дворе, по улице и каменная конюшня. До 1686, 1711 г. Снесены к н. ХХ в.
38. Пафнутие-Боровское подворье. Никольский переулок, 7.
38.1. Кельи. 1680-е гг. В 1968 г. перемещены во двор дома 12 в Ипатьевском переулке.
38.2. Церковь Пафнутия преподобного.1640, 1686 г. Снесена в н. XIX в.
39. Палаты Патрикеевых (Соловецкое подворье). Ипатьевский переулок, 10. До 1647 г. Снесены в 1960-х или ранее.
40. Палаты Казакова. Ипатьевский переулок,12. Палаты и флигель 3-й четв. XVII в.
41. Ипатьевское подворье. Ипатьевский переулок, 3. До 1595 г. Снесено или перестроено в XIX в.
42. Палаты Филатьева. Ипатьевский переулок, 5. XVII в. Снесены в н. ХХ в. или ранее.
43. Палаты Строганова. Старая площадь, 6. До 1669 г. Снесены ранее ХХ в.
44. Палаты Сибирских царевичей. Ипатьевский переулок, 9. XVII в. Снесены в к. XVIII в. и в 1964 г.
45. Палаты Никитникова. Старая площадь,8 / 5. Палаты и флигель, до 1651 г. Снесены в н. ХХ в. или ранее.
46. Палаты Шорина. Никитников переулок,10 / 4. До 1657 г. Снесены в XIX в.
47. Таможня (Старая Тиунская палата). Васильевский спуск. До ср. XVII в., 1680 г. Снесена в XIX в.
48. Новая Тиунская палата (Берг-коллегия).Васильевский спуск. 1691 г., н. XVIII в. Снесена в 1798 г.
49. Палаты Покровского подворья. Васильевский спуск. 1683 г. Снесено в XIX в.
50. Мытный двор. Угол Москворецкой улицы и Мокринского переулка. XVIIв., после 1712 г. Снесен в 1941 г.
51. Денежный (Купецкий) двор. Варварка,между домами 2 и 4. XVI в. Снесен в 1950-е или ранее.
52. Старый Английский двор (палаты Бобрищева). Варварка, 4. К. XV — н. XVI вв., 1571, 1630-е гг.
53. Благовещенское подворье. Елецкий переулок, 5 / 6.
53.1. Кельи. 1678, 1702 г. Снесены в 1790 и в 1956 г.
53.2. Церковь Жен Мироносиц (Благовещения Пресвятой Богородицы). 1566, 1678 – 1680 гг. Снесена к 1790 г.
54. Романов двор и Знаменский монастырь. Варварка, 8 – 10.
54.1. Нижние палаты Романовых. XVIв.,после 1668 г. Снесены в 1769 г. или позже.
54.2. Верхние палаты Романовых. Конец XV — начало XVI в., 1674 г.
54.3. Братский корпус Знаменского монастыря. 1676 г.
54.4. Прочие постройки: сушильня (до1658, снесена в 1783 г.); кельи «позадиигуменских» (до 1676, 1684 г. , снесены в XIX в.); кельи на углу Псковскогои Знаменского переулков (1686, снесены в 1783 г.); кельи по сторонам Святых ворот (1680-е гг., снесены с 1780-х по н. XIX в.).
54.5. Собор Иконы Божией Матери Знамения. 1679 – 1684 гг. (на месте церкви Афанасия Афонского 1630 г.).
54.6. Церковь Благовещения ПресвятойБогородицы (Знамения Божией Матери на Романовом дворе). Ранее 1615 г. Снесена в к. XVIII в.
55. Палаты Орефьевых. Кривой переулок,3 (?). До 1686 г. Снесены в 1941 г. или ранее.
56. Палаты Вяземского. Елецкий (Б. Знаменский) переулок, 10 / 4. До 1712 г. Снесены в XIX в.
57. Палаты в усадьбе Климова, по улице и во дворе. Ершов переулок, 2 / 13. 1-я пол. XVIII в. Снесены в 1941 г.
58. Палаты Сулешова и Кравкова. Мокринский переулок, 7. Палаты во дворе (Сулешова). XVI в. Снесены в н. XVII в. Палаты по улице (Кравкова). 1701 г. Снесены в 1941 г.
59. Палаты Гавренева (Белгородское подворье). Мокринский переулок, 11. До 1676 г. Снесены в XIX в.
60. Палаты в доме Федотова. Мокринскийпереулок, 10. Конец XVII в. Снесены в 1941 г.
61. Палаты Горохова. Псковский переулок,5 (?). XVII в., 1714 г. Снесены в XIX в.
62. Палаты Коровинского. Кривой переулок,4. До 1657 г. Снесены в XIX в.
63. Смоленское подворье. Варварка, 14, угол Кривого переулка. Ранее 1739 г. Снесено в XIX в.
64. Вознесенское подворье. Кривой переулок, 3. 1726 г. Снесено ок. 1760 г.
65. Палаты Еремеева. Кривой переулок, 11. Н. XVIII в. Снесены в 1960-х.
66. Палата на Канцелярском дворе. Без точного адреса. XVIIв., н. XVIII в. Снесена после 1758 г.
67. Верхние торговые ряды. 1595 – 1599 гг. XVII – XVIII вв. Снесены в 1888 г.
68. Средние торговые ряды. 1595 – 1599 гг. XVII – XVIII вв. Снесены в 1893 г.
69. Спасский раскат. 1636 г. Снесен в 1786 г.
70. Никольский раскат. 1688 г. Снесен в к. XVII в.
71. Кофейная палата (библиотека Киприанова). 1705 г. Снесена в н. XIX в.
72. Лавки у Покровского собора XVII –XVIII вв. Снесены в XIX в.
73. Исходное положение Лобного места.1599 г. Перемещено в 1786 г.
74. Каменные харчевни за Нижними рядами. До 1712 г. Снесены в к. XVIII в.
75. Собор Покрова Пресвятой Богородицы,что на Рву. 1555 – 1561 гг., пристройки 1588 г.,XVII в.
76. Собор иконы Божией Матери Казанскаяна Красной площади. 1635 г. Снесен в 1936, воссоздан в 1990–1993 гг.
77. Церковь Троицы Живоначальной, что в Полях. 1565 г. Снесена в 1934 г.
78. Успения Пресвятой Богородицы на Никольском Крестце. 1647, 1691 г. Северный придел (церковь Спаса Нерукотворного) снесен в 1768 г.
79. Жен Мироносиц на Никольском Крестце. 1647 г. Снесена в 1808 г.
80. Знамения Пресвятой Богородицы в доме князей Одоевских. 1690 г. Снесена в 1737 г.
81. Иконы Божией Матери Владимирскаяу Владимирских ворот. 1691 – 1694 гг. Снесена в 1934 г.
82. Макария Желтоводского на Калязинском подворье. 1692 г. Снесена после 1778 г.
83. Знамения Пресвятой Богородицы в доме князей Черкасских. 1708 г. Снесена после 1788 г.
84. Иоанна Богослова, что под Вязом. До1626, 1658 г., полностью перестроена после 1825 г.
85. Армянская церковь на дворе Б. Шабалова. 1740 г. Снесена после 1742 г.
86. Космы и Дамиана Римских, что в СтарыхПанех. После 1564, с приделом 1631, полностью перестроена в 1803 г. Северный придел Иоанна Златоуста 1641 г.
87. Воскресения Христова на дворе Шеина. Ранее 1723 г. (XVI в.?). Снесена в 1737 г.
88. Николая Чудотворца Большой Крест.1680 – 1688, северный придел ранее 1626 , 1697 г. Снесена в 1934 г.
89. Введения Пресвятой Богородицы воХрам Златоверхая. 1514 г. Снесена в 1790 г.
90. Дмитрия Солунского на Посольском дворе. Между 1564 и 1626. Снесена в 1790 г.
91. Параскевы Пятницы у Гостиного двора.Не позже 1696 г. Снесена в 1865 г.
92. Воскресения Христова в Булгакове. Ранее 1626 г. Снесена в 1791 г.
93. Ипатия, епископа Гангрского. 1652 г. Полностью перестроена в 1755, снесена в 1966 г.
94. Николая Чудотворца Красный Звон. Ранее 1561 г., колокольня 1691 г. Полностью перестроена в 1854 г.
95. Троицы Живоначальной, что в Никитниках. 1630-е гг.
96. Рождества Иоанна Предтечи на Варварке. XVIIв., полностью перестроена в 1741 г.
97. Дмитрия Солунского на Золотой Фабрике. 1711 г. Снесена в 1835 г.
98. Спаса Смоленского. Начало XVI в. Снесена в к. XVIII в.
99. Николая Чудотворца Москворецкого.1651, полностью перестроена в 1832 г. Снесена в 1936 г.
100. Варвары Великомученицы на Варварке.1514 г., перестроена в 1796 – 1804 гг.
101. Максима Блаженного на Варварке. 1568, полностью перестроена в 1698 г.
102. Георгия Победоносца, что на Псковской горе. XV в. (?), 1658 г.
103. Николая Чудотворца Мокрого. Середина XVII в., полностью перестроена в 1695 – 1697 гг. Снесена в 1941 г.
104. Николая Чудотворца (Ирины Мученицы) в Углу. 1629 г. Снесена в 1781 г.
105. Анны Праведной Зачатия, что в Углу.

* * *
Мы же обратимся к относительно ранней истории места, когда деревянная застройка домовладений постепенно сменялась капитальной, каменной. На Великом посаде этот процесс начинается почти одновременно с Кремлем, на рубеже XV - XVI веков, а ближе к концу XVII века каменным здесь становится не только подавляющее большинство жилых домов, но и отдельные надворные постройки.
Такая картина не очень соответствует принятому стереотипу: когда мы говорим о допетровской Москве, то представляем себе деревянный город, среди избушек которого кое-где поднимаются каменные палаты, стоящие в глубине просторных домовладений. Это справедливо для Китай-города начала и для Белого города конца XVII столетия. Но к 1690-м годам Китай-город настолько плотно застраивается кирпичными зданиями, что они начинают формировать красные линии, а на Певческой улице даже образуют сплошной фронт с арочными проездами во дворы.
* * *
Привилегированные купеческие корпорации России, XVI - первой четверти XVIII в. Том I.
Предполагалось приобрести недописанный второй том (чего не случилось - см. историю с научным издательством) поэтому перечитал первый. Работа чрезвычайно полезная, автор проделала колоссальный труд, выявив персональный состав корпораций гостей и гостиной сотни и собрав массу сведений о конкретных семействах и лицах, часть из которых приводится в тексте.
Есть небольшие дефекты в табличках, графиках и тексте. Используемые временные интервалы также выглядят неоптимальными - в случае с гостями механически разделяются, скажем, царствования Бориса, Алексей Михайловича и Петра, а с гостиной сотней - Алексея Михайловича, что сказывается и на статистических данных.
скрытый текстГости
скрытый текст
XVI век
Точное время образования корпорации гостей неизвестно, однако первые жалованные грамоты, выделившие их из состава торгового населения посада, были определенно даны в царствование Ивана Грозного - об этом упоминает последующее челобитье самих гостей (1648 год). Первую жалованную грамоту гости получили вероятно при Елене Глинской (1535 год?). Позднее, в 1540-х годах, она могла быть подтверждена или дана снова, уже более широкому кругу лиц - не только московским гостям, но и гостям из других городов. В статье о наказаниях за бесчестье Судебника 1550 года «гости большие» и их жены уже фигурируют в качестве особой группы.
Основу новосозданной корпорации составили вероятно наиболее видные купцы торговавшие с Востоком (сурожане) и Западом (суконники). Известно, что уже в XV веке из числа сурожан выделились наиболее видные торговцы, связанные с поставками восточных товаров великокняжескому двору. Позднее их связи с двором закрепились выполнением различных поручений великого князя. Видные сурожане стали использоваться и в качестве советников, хорошо знавших обстановку на Востоке. Уже при Иване III подобные лица именовались «гостями великого князя». Вероятно таким же образом развивались отношения двора и с суконниками.
Те же видные сурожане и суконники одновременно составляли круг наиболее влиятельных лиц посада, занимая разнообразные выборные должности и, в этом качестве, выступая в роли исполнителей правительственных поручений посадскому населению. Местом жительства их была не только Москва, но и другие крупные торговые центры (Новгород, Псков, Коломна, Муром, Тверь, Вологда и пр.). В целом, как считает автор, официальное выделение гостей в особую сословную категорию фактически лишь закрепило уже сложившееся положение.
Персональный состав корпорации в XVI веке устанавливается с большим трудом - точных сведений в источниках сохранилось очень мало. К тому же, гостями в просторечии и даже в официальных документах еще очень долго (как минимум до 1570-х годов) по привычке называли не только членов соответствующей корпорации, но и просто крупных купцов.
Автор выявила 70 человек получивших чин гостя в XVI веке (включая трех человек имевших его предположительно) и представлявших 51 фамилию.
Помимо столицы гости жили в Новгороде (Корюковы, Сырковы, Таракановы, Ямские), Пскове (Алексей Сем. Хозин, Иголкины), Коломне (Сухобоковы, Петровы), Вологде (Яков Аникеев), Ярославле (Никита Никитников), Казани (Иван Шухнов), Сольвычегодске (Аника Строганов), в Поморье.
Гости играли довольно заметную роль в жизни страны. Так, в Земском соборе 1566 года, обсуждавшем вопрос о перемирии с Литвой, участвовало 12 гостей (видимо только московских). В Земском соборе 1598 года, избравшем Бориса на царство, участвовал уже 21 гость (тоже видимо одни москвичи).
Гость Федор Ногай (по прозвищу Голубь) в 1586 году возглавил московских торговых людей выступивших вместе с Шуйскими против Годунова, за что в 1587 году лишился головы.
Московский гость Алексей Алексеевич Хозников в 1567 году ведал таможней в Нижнем Новгороде, в 1569-м был послан с подарками (100 пушек, 300 пищалей) к персидскому шаху. Его двоюродный брат, псковский гость Алексей Семенович Хозин, в 1593/94 году руководил Псковским денежным двором.
Московский гость Степан Твердиков в 1567/68 году ездил по поручению Ивана Грозного в Англию - для закупки драгоценных камней и проч.
Гость Трифон Коробейников в 1582 и 1593 годах совершил по поручению правительства два больших путешествия на христианский Восток, доставив денежные подарки местным православным иерархам и оставив известное литературное описание своей первой поездки.
Псковский гость Юрий Афанасьевич Иголкин в 1599 году по поручению Годунова вел переговоры с рижанами о переходе в русское подданство. И т. д.
Не менее четырех гостей было казнено - трое при Иване Грозном и один - при Федоре Ивановиче (см. выше).
Процесс оформления корпорации гостей в качестве особой сословной группы, по мнению автора, в целом завершился на рубеже 1580 - 1590-х годов. Федор Иванович подтвердил жалованную грамоту корпорации гостей.
Борис Годунов видимо не питал большого доверия к корпорации, представители которой были тесно связаны с его политическими противниками (см. Федор Ногай), хотя и пытался укрепить свои позиции среди гостей за счет активного пополнения корпорации новыми, лояльными к нему, членами. [Судя по приводимым автором табличкам непосредственно в царствование Бориса чин гостя могло получить до 26 человек]. Жалованную грамоту корпорации Борис подтвердить не захотел. Политика его в целом также вряд ли могла обеспечить царю симпатии крупного купечества - Борис покровительствовал иноземным купцам, в годы голода принимал меры по ограничению спекуляции хлебом (в текстах указов против спекуляции в качестве возможных злодеев прямо указывались московские и иногородние гости) и т. д.
Первая половина XVII века
Автор, надо сказать, механически разделила шестнадцатое и семнадцатое столетия, отчего царствование Бориса и связанная с ним статистика попали и туда и сюда.
О царствовании Бориса в целом см. выше. В первые годы XVII века отношение царя к гостям видимо еще ухудшилось - корпорация почти перестала пополняться, чин гостя в 1601 - 1604 годах получило всего 5 человек, все иногородние (двое новгородцев, двое псковичей и один костромитянин).
Самозванец в отношении гостей ничем себя проявить не успел, а отношение самих гостей к нему было видимо весьма разнообразным. Часть московских «торговых людей», включая, вероятно, и гостей, участвовала в обоих заговорах Шуйского против Самозванца.
При Василии Шуйском отношение правительства к гостям резко улучшилось. Новый царь издавна имел тесные связи с московскими «торговыми мужиками». Вскоре после воцарения он подтвердил жалованную грамоту корпорации гостей. Возобновился процесс пополнения корпорации новыми членами. Всего за время царствования Василия Шуйского чин гостя получило 20 человек, включая сразу четырех Строгановых (Андрей и Петр Семеновичи, Никита Григорьевич и Максим Яковлевич). Один из новоявленных гостей, Михаил Степанович Смывалов был даже назначен на должность казначея, что видимо вызвало недовольство боярства - позднее этот факт упоминался как негативный прецедент.
Многие гости, в свою очередь, активно поддерживали правительство Шуйского. Так, Строгановы только в марте - июле 1608 года передали ему не менее 5 - 6 тыс. рублей, а в октябре и декабре того же года отправили в Москву два отряда ратных людей, снаряженных за собственный счет. Псковские гости (всего 7 человек) неизменно поддерживали правительство, за что двое из них (Семен Великий и Емельян Титов) в 1608 - 1609 годах подверглись арестам и пыткам, а еще один, упоминавшийся Алексей Хозин, в 1610 году был убит.
Вяземский (позднее московский) гость Григорий Шорин ездил в Смоленск и осведомлял тамошнего воеводу М. Шеина об обстановке в стране и т. д.
После падения царя Василия и до воцарения Михаила новых пожалований в чин гостя не производилось. Всего в 1600 - 1612 годах в стране теоретически имелось не менее 41 гостя (16 получивших чин в XVI веке, 5 пожалованных в последние годы правления Бориса и 20 - при царе Василии).
К 1613 году численность корпорации существенно сократилась - автору удалось выявить не более 21 ее члена. Сокращение произошло частью из-за естественных причин, частью из-за прочих - двое гостей (М. С. Булгаков и К. Скробовицкий) сделались дьяками, Строгановы, получившие звание именитых людей, также фактически выбыли из корпорации, некоторые ее члены погибли (А. Хозин).
После разорения столицы в 1611 году всякая хозяйственная деятельность в ней прекратилась, уцелевшие торговые люди, включая гостей, перебрались в другие города. Уехавшие осели в Ярославле, Костроме, Вологде, Нижнем Новгороде, Казани и других городах.
Правительство Михаила Федоровича почти сразу же начало принимать меры по восстановлению столицы и купеческих корпораций. Так, в начале 1613 года, еще до приезда новоизбранного царя в столицу, состоялся приговор Боярской думы потребовавший чтобы «гости, и торговые, и всякие жилецкие люди москвичи», что «в московское разоренье разбежались с Москвы по городам» ехали «с женами и с детьми и со всеми животы» жить обратно в столицу.
Начали производиться и новые пожалования, при этом теперь от получивших чин гостя иногородних требовали переезда в Москву. Поначалу это требование было довольно категоричным - городовым воеводам предписывалось собирать по пожалованным поручные записи, отсрочки давались на короткие сроки и т. д. Тем не менее, гости перебирались в Москву неохотно. Часть разными способами саботировала переезд, другие, обзаведясь формально дворами в столице, продолжали фактически жить по городам. Полного сосредоточения гостей в Москве в итоге добиться так и не удалось. Со временем, после восстановления хозяйственной жизни в столице, правительство перестало настаивать на переезде гостей. Оставшихся в провинции гостей передали из ведения Казенного приказа в ведение четвертей и местных воевод. В приказной практике они именовались «новгородскими», «псковскими», «вологодскими», «костромскими» и прочими гостями.
В 1613 - 1615 годах чин гостя получило не менее 11 человек, а в 1613 - 1630 годах - не менее 31 человека. Почти половину пожалованных составляли посадские люди - 14 человек (к ним можно добавить также близкого по статусу закладчика Ярославского Спасского монастыря). По пять человек из них представляли Москву и Ярославль, двое - Калугу и по одному - Новгород и Вязьму.
Предпочтение явно отдавалось отличившимся в освободительной борьбе. Так, новгородец Иван Харламов, как отмечалось в жалованной грамоте, «будучи у свейских немец... в Колывани... как свейский Густав Адольф король пошол... подо Псков... про королевский поход и сколько с ним ратных людей писал во Псков ко псковским гостем, и людей своих во Псков с теми вестьми посылал». Ярославцы Григорий Никитников, Василий и Третьяк Лыткины показали себя твердыми противниками воров, содействовали организации местных ополчений, финансировали Второе ополчение (Никитников внес 500 руб., Лыткины - 350) и т. д.
Другую половину пожалованных составляли члены семей прежних гостей - сыновья, внуки, братья и другие родственники, большей частью бывшие членами гостиной сотни. В некоторых случаях чин давался по челобитью - в 1614 году была удовлетворена просьба сына убитого псковского гостя Алексея Хозина Микулы (видимо учли заслуги покойного отца и вес семьи в городе). В 1625 году, тоже видимо по челобитной, получил чин сын Надеи Светешникова Семен (в грамоте прямо указывалось, что он жалуется за заслуги отца) и т. д.
К 1631 году в живых не осталось уже ни одного гостя получившего чин в XVI веке. Помимо естественной убыли численность корпорации сокращалась и по другим причинам - трое гостей (Михаил Смывалов, Андрей Котов и Гаврила Облезов) в 1620-х сделались дьяками.
В 1630-х годах численность корпорации продолжила сокращаться, естественные причины, как и раньше, дополнялись прочими - двое гостей были переведены в дьяки (Назарий Чистый и Алмаз Иванов), один - обратно в гостиную сотню (Третьяк Лыткин). Новых пожалований при этом, несмотря на настойчивые просьбы самих гостей, по каким-то причинам почти не производилось - за все 1630-е годы было пожаловано всего 5 человек (двое из которых, упомянутые Назарий Чистый и его племянник Алмаз Иванов, вскоре были переведены в дьяки). В результате, к 1640 году численность корпорации сократилась до уровня Смутного времени - 15 человек.
В 1640-х годах правительство активизировалось - в гости жаловать стали чаще, всего за десятилетие было пожаловано 22 человека. Полностью компенсировать потери, впрочем, не удалось, тем более что корпорация продолжала терять старых членов. Так, гость Данила Панкратьев был вскоре после пожалования переведен в дьяки, упоминавшийся выше сын А. Хозина Микула был, как и отец, убит псковичами (1650 год) и т. д.
Всего в 1631 - 1650 годах звание гостя получило 26 или 27 человек (факт существования гостя Степана Гавриловича Стоянова вызывает сомнения). Основным источником пополнения корпорации в это время сделалась гостиная сотня - 21 человек (77,8%) был взят оттуда. Из общего числа переведенных из гостиной сотни 13 человек являлись родственниками прежних гостей, прочие до зачисления в гостиную сотню были посадскими или черносошными крестьянами.
Непосредственно из посада в гости попало 6 человек (четверо новгородцев, псковитянин и ярославец).
Гостиная сотня, таким образом, постепенно становилась почти обязательной ступенью для попадания в гости - даже для родни прежних гостей.
Основным мотивом пожалования в этот период становится успешная служба, принесшая прибыль казне. Так, Федор Веневитов был в 1646 году пожалован в гости за целый ряд успешных служб: на корабельной пристани в Архангельске, у кабацкого сбора в Казани, трехлетнюю службу на казенном икряном промысле в Астрахани, семилетнюю службу по доставке хлеба в Астрахань и основание соляных варниц в Старой Руссе. Данила Панкратов в 1642 году получил звание за то, что «был в Сибирском приказе у соболиные оценки всякой мяхкой рухледи и в окладчиках пятинного сбору» и за службы его брата, дьяка Григория. И т. д.
Общая численность корпорации в 1613 - 1650 годах заметно колебалась, составляя от 15 до 35 человек. На 1613 год имелось всего 15 гостей. Усилиями правительства Михаила Федоровича численность корпорации вскоре была заметно увеличена и в 1614 - 1620 годах достигала уже 26 - 29 человек. Максимума число гостей достигло в 1625 году - 35 человек. Позднее оно постепенно сокращалось и к 1640 году достигло уровня 1613 года - 15 человек. Пожалования 1640-х позволили улучшить положение - на 1650 год имелось уже 25 гостей.
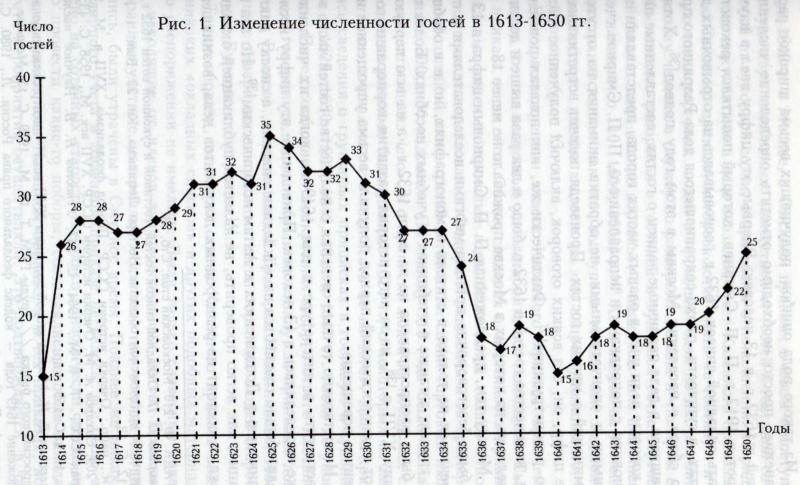
Автор приводит также любопытный эпизод, демонстрирующий разницу в статусе московских и иногородних гостей. Новгородские гости братья Иван и Семен Ивановичи Стояновы в 1650 году просили выдать им новую жалованную грамоту, взамен похищенной воровскими людьми в ходе городского восстания [в тексте почему-то псковского]. При этом братья просили дать им грамоту «против московских гостей», а не «против новгородских». После некоторых колебаний (сохранился черновик грамоты, эти колебания отразивший) Москва дала им новую грамоту, содержавшую компромиссный вариант - Стояновым, с одной стороны, предписывалось «жить в Новегороде по-прежнему» и «платить как прежние новгороцкие гости платили и в службе бывали», но, при этом, «службы служить по нашему указу». Таким образом, Стояновы, оставшись «новгородскими гостями», были видимо освобождены от выполнения указаний местных воевод.
В конце 1640-х изменился порядок выдачи личных жалованных грамот гостям. После получения корпорацией новой жалованной грамоты в 1648 году выдача персональных грамот с перечислением дарованных льгот видимо потеряла обязательность. Грамоты теперь выдавались только по специальным просьбам со стороны гостей и между пожалованием и выдачей грамоты могло пройти достаточно много времени (несколько лет) - ранее пожалование и выдачу грамоты разделяли несколько недель или месяцев.
Вторая половина XVII века
В третьей четверти XVII века существенных перемен в положении корпорации не произошло. Основным источником ее пополнения оставалась гостиная сотня - 44 человека из 60 (73,3%)*, однако при необходимости правительство жаловало и представителей других сословных групп. Так, 8 человек (3,4%) попало в корпорацию из посада - среди них были известный Аверкий Степанович Кириллов (1659 год), посадский Садовой слободы, позднее думный дьяк и владелец знаменитых палат, и кадашевец Григорий Шустов; один - из суконной сотни (Василий Шиловцев). Впервые были пожалованы перешедшие в русское подданство иноземцы - в 1650/51 году гостем стал известный Андрей Виниус, в 1672 году - Томас Кельдерман.
Из 44 представителей гостиной сотни 18 были москвичами и 26 иногородними. 26 из них были родственниками прежних гостей. С учетом родственников прежних гостей из других групп (двое посадских и один суконной сотни) общее их число достигало 29 человек (48,3% пожалованных). Из этих 29 человек 16 были сыновьями гостей, семеро - братьями, остальные - более дальними родственниками, в т. ч. и не кровными (свояк).
Как отмечает автор, правительство при пожаловании в гости руководствовалось прежде всего служебными качествами кандидата, умением «великому государю радеть и прибыль чинить» и родственные связи с прежними гостями не гарантировали попадания в корпорацию - общее число лиц мужского пола в семьях гостей значительно превышало число пожалований. Так, в клане Сверчковых из 11 мужчин четырех поколений, гостями стали трое, причем из второго поколения никто пожалован не был. В семье Облезовых из 9 мужчин гостем стал лишь внучатый племянник первого гостя, Г. Облезова и т. д.
Некоторым гостям, впрочем, удавалось, пользуясь связями, протащить в корпорацию родственников (как правило, сыновей) не имевших никаких собственных заслуг. Так, упомянутый Аверкий Кириллов, сам пробывший в гостях всего 7 лет, в 1666 году добился пожалования для своего сына Якова. Влиятельный Василий Шорин протащил в корпорацию своих сыновей и внука и т. д.
После 1651 году продолжало действовать 24 гостя получивших звание ранее, к ним в третьей четверти века добавилось 60 новопожалованных, всего, таким образом в этот период какое-то время действовало 84 гостя. В 1650-х годах было пожаловано 20 человек, в 1660-х интенсивность пожалований снизилась (11 человек), в первой половине 1670-х было пожаловано еще четверо. К середине 1670-х внезапно выяснилось, что оставшихся гостей (многие из которых, к тому же, в силу возраста к службе были уже не годны) не хватает для несения необходимых служб и, для исправления положения, в 1674 - 1675 годах в гости было пожаловано сразу 24 человека, из них 18 в 1675-м.
Естественная убыль членов корпорации в 1650-х годах была усугублена чумой (в 1654 году от нее умерли сразу три гостя) и традиционно дополнялась переводами в иные группы - Д. Г. Панкратьев в 1654 году был переведен в дьяки, А. Д. Виниус в 1665/66 - в переводчики Посольского приказа.
Численность корпорации на протяжении третьей четверти века в целом поддерживалась на уровне в 25 - 30 человек, несколько просев в начале 1650-х (21 чел. = чума) и резко увеличившись в середине 1670-х (54 человека на 1675 год).
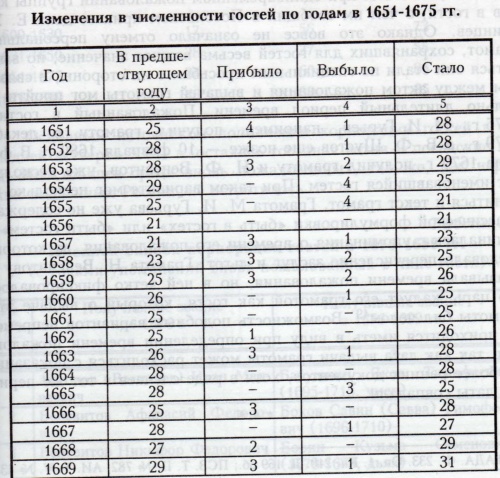
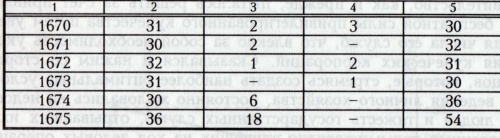
В последней четверти XVII века общая численность корпорации сохранялась примерно на том же уровне. Автор приводит следующие сведения по числу действовавших на протяжении века гостей:
1600 - 1630 годы — 73 (17 пожалованных ранее и 56 вновь пожалованных)
1631 - 1650 годы — 55 (28 и 27)
1631 - 1650 годы — 84 (24 и 60)
1631 - 1650 годы — 85 (46 и 39)
Сохранение высокой численности корпорации объяснялось прежде всего значительным числом гостей «перешедших» из предыдущего периода (46 человек). Общее же число новых пожалований ощутимо сократилось (39 человек). Большая часть новых пожалований пришлась на правления Федора и Софьи - 29 за 1676 - 1689 годы. Пик их пришелся на 1678 (6 пожалований) и 1685 - 1687 (15 пожалований) годы. При Нарышкиных и в первые годы правления Петра (1690 - 1699 годы) было пожаловано всего 10 человек (из них 6 - в 1696 году), причем в 1697 - 1699 годах пожалований не было вовсе.
Основным источником пополнения корпорации оставалась гостиная сотня - 27 из 39 человек (69,2%). Далее шел посад - 9 человек (23,1%), один новый гость был из дворцовых крестьян, двое (будущий дьяк и известный заводчик Кузьма Семенович Борин и Яков Лабозный) были переведены в гости после роспуска суконной сотни при царе Федоре. Родственниками прежних гостей были 18 человек - 17 членов гостиной сотни и дворцовый крестьянин (один из Шустовых, ранее живший в Дединове).
К прежним традиционным местам обитания гостей добавились сибирский Енисейск (Иван Ушаков), Путивль (Василий Курдюмов), Симбирск (Яков Бабушкин), Астрахань (Василий Горезин).
Появился также первый выходец из служилого сословия - упомянутый житель Путивля Василий Вонифатьевич Курдюмов был изначально служилым по прибору (пушкарем) и нажил капитал торговлей с малороссийскими городами.
Еще один гость, Иван Исаев, был уроженцем белорусской Дубровны, был угнан в плен в 1655 году, 16 лет жил в холопах, в 1673 году приписался к Мещанской слободе и впоследствии сделался богатым и влиятельным купцом (в 1699 году избран одним из четырех бурмистров в Бурмистерскую палату).
Из гостей взятых из посада нужно отметить прежде всего кадашевца** Кодрата (в приказных документах обычно обзывался Кондратом) Марковича Добрынина, строителя прекрасной церкви Воскресения Христова в Кадашах и Николо-Толмачевской церкви в Толмачевской слободе.
Численность корпорации в последней четверти века держалась обычно на уровне 46 - 49 человек, периодически подскакивая за счет массовых пожалований (1678 год - 54 чел.). Активные пожалования при Софье (см. выше) позволили корпорации достичь пика численности в 1687 году (61 чел.). Позднее численность гостей постепенно сокращалась и к 1699 году их имелось 46 человек.
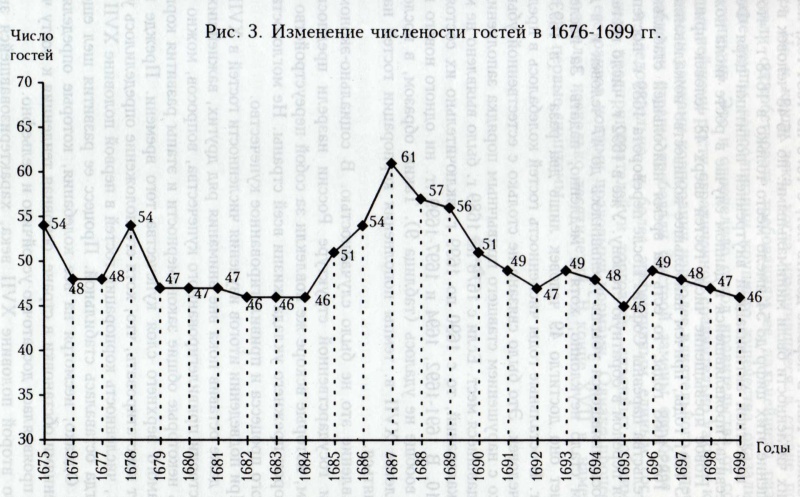
* Сословная принадлежность еще 5 человек (8,3%) неизвестна, что может ощутимо менять процентное соотношение.
** Среди новопожалованных гостей в этот период вообще много кадашевцев и связанных с Кадашами людей.
Первая четверть XVIII века
Положение корпорации гостей начало быстро ухудшаться уже в первые годы самостоятельного правления Петра. Последний, по каким-то причинам, не питал к гостям симпатий и фактически взял курс на ликвидацию корпорации - как и во многих других случаях, явочным порядком. Корпорация перестала пополняться новыми членами и постепенно прекратила существование по естественным причинам (официально ликвидирована только в 1728 году - см. ниже).
Как отмечалась выше, новыми членами корпорация гостей перестала пополняться уже с 1697 года. К 1699-му в ее рядах оставалось 46 человек, но, как отмечалось в поданой в том же году челобитной корпорации, 10 из них служить уже не могли по возрасту и состоянию здоровья (четверо были уже отставлены от службы). Корпорация просила пополнить ее новыми членами, по традиции прилагая список подходящих кандидатов. Челобитная была однако отвергнута, корпорация почти не пополнялась и позднее - после 1697 года звание гостя получило всего 3 человека (по одному в 1702, 1705 и 1710 годах). В итоге, общая численность корпорации сократилась с 41 человека в 1700 году до 10 в 1722 - 1725 годах.
Положение корпорации ухудшалось и по другим направлениям. Петровское правительство фактически игнорировало ее привилегии при назначениях на хозяйственные посты. Налоговые преимущества гостей также фактически потеряли значение - старые грамоты не ограждали от новых налогов, постоянно вводимых петровскими птенцами. Разрушение приказной системы и гибель старого царского, а также и патриаршего дворов привели к разрушению сложившейся системы связей. И т. д.
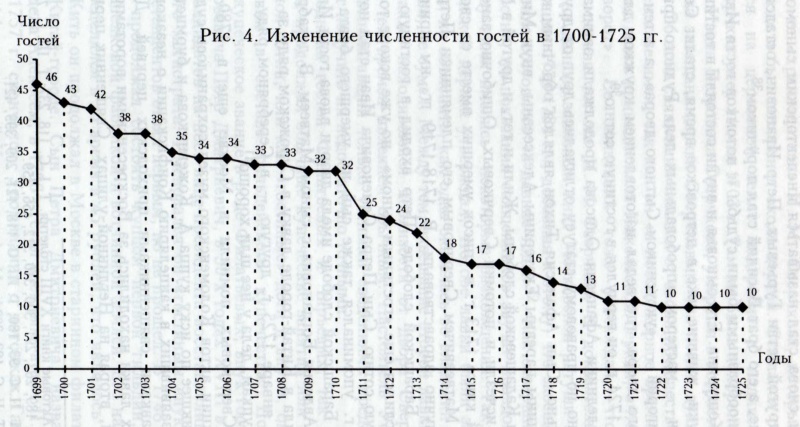
Качество петровского реформаторского администрирования иллюстрирует история с Бурмистерской палатой. В рамках разразившейся в 1699 году городской реформы гостям, гостиной сотне и всем московским слободам и сотням было предписано избрать бурмистров в Бурмистерскую палату (позднее Ратуша). Гости и гостиная сотня успели избрать по 4 бурмистра, однако Петр потребовал избрания по одному бурмистру от корпораций и московских сотен / слобод - всего 12 человек. Выполнить это требование оказалось невозможно, поскольку в Москве только крупных слобод / сотен имелось больше 20. В итоге, с согласия Разрядного приказа, было избрано 35 человек - по четыре от гостей и гостиной сотни и по одному от крупнейших слобод / сотен (позднее, впрочем, петровские дуболомы все же сократили их число до 12, помимо прочего в отставку заставили уйти трех из четырех представителей гостей).
***
Всего за время существования корпорации гостей ее членами были 255 человек, представлявшие 136 фамилий. 83 семьи были представлены одним гостем, 53 семьи дали корпорации от 2 до 10 гостей.
10 гостями была представлена одна семья (Юрьевы / Петровы), 6 гостями - три семьи (Булгаковы, Юдины, Чистые / Алмазовы / Ерофеевы), 5 гостями - семь семей (Строгановы, Таракановы, Гурьевы / Назарьевы, Шорины, Панкратьевы, Шустовы, Чирьевы), 4 гостями - семь семей (Котовы, Твердиковы, Фалелеевы, Хозины / Хозниковы, Сверчковы, Стояновы, Климшины), 3 гостями - одиннадцать семей (Никитниковы, Сырковы, Васильевы / Антоновы, Судовщиковы, Веневитовы, Микляевы, Семенниковы, Филатьевы, Шиловцевы, Добрынины, Лабозные). Еще 24 семьи были представлены в корпорации двумя гостями.
Длительное время (от 3 до 6 поколений семьи) в составе корпорации оставалось всего 11 семей из 53. Рекордсменами здесь были Юрьевы / Петровы остававшиеся в корпорации на протяжении 6 поколений (150 лет). Четырьмя поколениями были представлены семьи Таракановых, Юдиных, Чистых / Алмазовых / Ерофеевых и Шориных. Тремя поколениями (не всегда последовательными) семьи Булгаковых, Никитниковых, Гурьевых / Назарьевых, Сверчковых, Панкратьевых, Добрыниных. 31 семья была представлены двумя поколениями, 11 семей только одним.
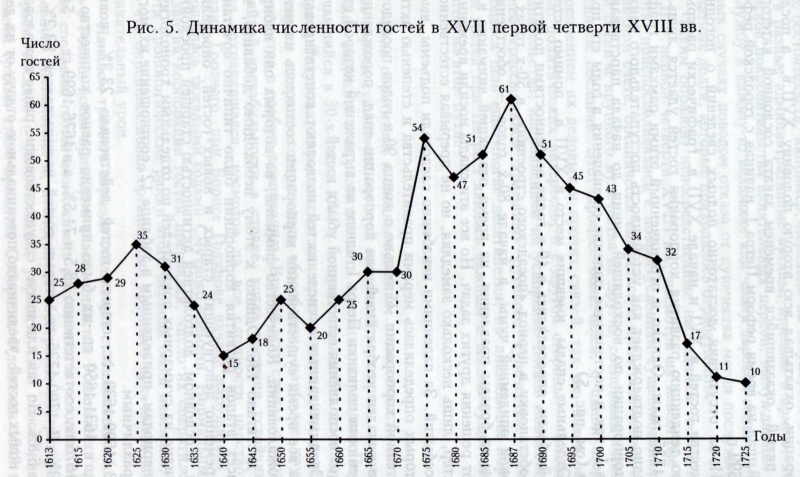
Гостиная сотня
скрытый текст
XVI - первая половина XVII века
Точное время образования гостиной сотни также неизвестно. Согласно упоминавшейся уже совместной челобитной гостей и гостиной сотни поданной в 1648 году, первую жалованную грамоту гостиная сотня, как и корпорация гостей, получила при Иване Грозном. На Земском соборе 1566 года представителей гостиной сотни еще не было - присутствовали только гости и «торговые люди москвичи» и «смоляне». Не знает гостиной сотни и писцовая книга Казани 1565/66 - 1567/68 годов, фиксировавшая, помимо прочего, торговых людей-переведенцев из других городов. Таким образом, гостиная сотня была видимо образована где-то между 1567/68 годом и мартом 1584-го (смерть Ивана IV).
Формировалась она изначально только из жителей столицы - как «коренных» москвичей, так и недавних переведенцев из других городов (Новгорода, Пскова, Смоленска и проч.) и состав ее оказался весьма разношерстным - помимо торговых людей (не только крупных, но и средних и мелких), в состав корпорации было включено много ремесленников. Пестрый состав корпорации предопределил ее разделение на три статьи - «лутчих», «середних» и «молодчих» людей. Это деление было подтверждено жалованной грамотой 1648 года, подтвердившей и ранее установленные штрафы за бесчестье - 25, 15 и 10 рублей соответственно.
Записанные в гостиную сотню оставались жить в своих слободах / сотнях на положении беломестцев.
Ориентировочная численность корпорации на конец XVI века известна только по позднему сообщению (1649 год) - примерно 320 человек. Автору удалось выявить 65 человек входивших в состав гостиной сотни во второй половине XVI века, не менее 28 из них являлись ремесленниками, а один был площадным подьячим. Старостой сотни на 1598 год являлся Сильвестр Онаньин.
Борис Годунов к гостиной сотне относился заметно лучше чем к гостям и в начале XVII века, в ходе известного «посадского строения» 1600 - 1602 годов, был проведен ряд мероприятий по укреплению ее положения. Была проведена чистка сотни - отчислено 56 человек (примерно 60% из них составляли ремесленники, в силу своего положения малопригодные к государевым службам)*, переведенных большей частью в московский посад (частично - в суконную сотню).
В то же время сотня получила новое пополнение - всего было набрано (с учетом родственников тяглецов) 125 человек. 66 человек было взято из московских черных слобод (49 тяглецов + их родственники), не менее 24 человек - из казенных и дворцовых, 3 человека из Патриаршей слободы, 2 крестьянина из подмосковного Красного села. Помимо этого, набор производился и в выросших за городскими воротами слободках, еще не имевших официального статуса и названий - отсюда взяли 35 человек: «из-за Арбатских ворот» - 25, «из-за Тверских» - 4, «из-за Сретенских» - 7. Среди набраных в этих слободках были и иногородние купцы, державшие в них дворы.
С этого же времени? в состав гостиной сотни стали изредка включать иногородних торговых людей [видимо помимо тех, что держали дворы в безымянных слободках, тут у автора неясно]. Таким образом в Москву попал, например, печально известный коллаборационист Федор Андронов, видный торговый человек из Погорелого городища [в районе тверского Зубцова].
При Василии Шуйском никаких принципиальных изменений в положении гостиной сотни не произошло. Были подтверждены жалованные грамоты царей Ивана и Федора [прямого указания у автора нет, но видимо Борис не подтверждал и грамоту гостиной сотни], пополнение корпорации производилось путем эпизодических индивидуальных пожалований. Упомянутый Федор Андронов при царе Василии сделался казначеем.
После разорения столицы в Смуту уцелевшие члены гостиной сотни, как и гости, рассеялись по городам. Как и случае с гостями правительство Михаила Федоровича принимало меры по возрату в столицу членов гостиной сотни - воеводам предписывалось отыскивать их и возвращать в Москву. В 1613 году была подтверждена жалованная грамота корпорации. Отдельным ее членам давались также персональные жалованные грамоты с дополнительными льготами. Несмотря на все это многие члены гостиной сотни от возвращения в столицу уклонялись и дабы ускорить ее восстановление власти периодически жаловали новых торговых людей из других городов, сопровождая пожалования указами о переезде в столицу.
Всего автором выявлено 228 человек (из 168 фамилий) входивших в состав гостиной сотни в 1600 - 1620 годах - включая пожалования царей Бориса и Василия и первых лет царствования Михаила Федоровича. 20 из них были ремесленниками, остальные торговыми людьми. Трое (Родион Котов, Иван Сверчков, Григорий Шорин) за тот же период были переведены в корпорацию гостей (еще пятеро стали гостями в 1620-х), один - в дьяки (Булгак Милованов).
В первые годы правления царя Михаила гостиная сотня пополнялась путем индивидуальных пожалований, в основном за счет московского посада. В редких случаях в нее зачислялись видные торговые люди иных городов. В гостиную сотню начали также записывать родственников торговых людей записанных в корпорацию гостей и наследников умерших членов самой гостиной сотни.
В 1620-х годах практика зачисления в гостиную сотню родственников гостей и наследников членов гостиной сотни стала общим правилом, членство в гостиной сотне сделалось фактически наследственным и пополняться она стала не только за счет внешних источников, но и естественным путем.
Помимо этого, в 1620-х правительство стало прибегать к массовым наборам в гостиную сотню, зачисляя в нее большие группы торговых людей из Москвы и других городов (Казань, Кострома, Великий Устюг, Сольвычегодск и проч.). Подобные наборы производились в 1621, 1624/25, 1627/28 и 1629/30 годах. Пожалованные в сотню иногородние должны были переселяться в Москву, но на практике нередко сохраняли дворы и лавки на прежних местах, создавая, тем самым, основу для будущих конфликтов.
Начали жаловаться в гостиную сотню и торговые крестьяне, поначалу только черносошные из северных уездов.
Часть новопожалованных иногородних членов сотни уклонялась от переселения в столицу, переселялась формально, пожив в Москве возвращалась обратно и т. д. В итоге, как и в случае с гостями, правительство со временем перестало настаивать на переезде членов гостиной сотни в столицу и ее «ответвления» появились и в других городах. Большая часть членов корпорации (примерно 89%) однако продолжала проживать в Москве.
Всего в 1620-х годах в гостиную сотню было пожаловано как минимум 248 человек из 165 фамилий. Родственники членов гостиной сотни составляли 40,2% (97 человек из 65 фамилий); родственники гостей - 8,4% (21 человек из 15 фамилий); посадские люди разных городов - 44,2% (112 человек из 79 фамилий); торговые крестьяне - 7,2% (18 человек из 5 фамилий). С учетом родственников общее число вновь пожалованных было выше - не менее 284 человек.
Из числа пожалованных прежде в 1620-х годах продолжали действовать 67 человек, а с учетом детей пожалованных прежде возможно 83 или даже 93 человека. Всего, таким образом, за 1620-е годы через гостиную сотню прошел минимум 351 (284 + 67) человек, а возможно даже от 434 до 444 человек [так у автора, как она получила две последние цифры неясно].
30-40-е годы XVII века в русских городах стали временем ожесточенной борьбы городских посадов с беломестцами. Последние, размножившиеся после Смуты, разоряли посады не только недобросовестной конкуренцией, но и оттягиванием все новых тяглецов, скупкой посадских дворов и проч. Правительство в этой ситуации вынуждено было маневрировать, пытаясь снизить накал недовольства посадов, не ущемляя в то же время интересов привилегированных корпораций и влиятельных владельцев белых слобод.
Ряд указов выпущенных в 1620 - 1640-х годах (1621, 1627, 1629, 1634, 1642/43 годы) ограничивал переход тяглых дворов и мест в руки беломестцев, принимались также меры по розыску и возращению в посады закладчиков. Гостиную сотню и гостей все эти меры затрагивали ограниченно.
В апреле 1645 года последовал правительственный указ уже прямо затрагивающий гостиную сотню - ее членам сохранившим дворы и лавки на тяглых землях предписывалось вносить за них все посадские платежи. Вновь приобретенные владения на тяглых землях указано было отписывать на государя безденежно.
Для посадов основным противником были беломестцы, гостиная сотня, оттягивавшая с них сравнительно небольшое число людей, была противником второстепенным. Однако, со временем, посадские вспомнили и о ней. Поданная 19 июня 1637 года челобитная Конюшенных слобод просила вернуть им 30 тяглецов забранных ранее в гостиную и суконную сотни. Челобитная была проигнорирована, однако стала примером для аналогичных просьб.
Указ 1647 года о массовом наборе в гостиную сотню вызвал протест посадов Вологды и Мурома. Напуганное Соляным бунтом (июль 1648 года) правительство в итоге предпочло уступить - указом от 27 июля 1648-го тяглецов было предписано вернуть обратно. Воспользовалась моментом и московская Кадашевская слобода подав челобитную о возврате забранных в 1644 году 24 семей. Кадашевцы при этом ссылались на льготную грамоту Михаила Федоровича освобождавшую их от служб с гостями и гостиной сотней. Правительство уступило и здесь - указом от 2 октября 1648 года тяглецы были возвращены в слободу. Пример кадашевцев вдохновил другие московские слободы и, в итоге, все семьи забранные в гостиную сотню в 1643, 1644 и 1647 годах были возвращены назад. Некоторые члены гостиной сотни в сложившейся обстановке предпочли сами вернуться на посад.
В ходе последовавшей вскоре ликвидации белых слобод и очередного посадского строения часть членов гостиной сотни понесла и ощутимые материальные потери лишившись дворов, торговых мест, варниц и проч. на посадской земле, а также работников из числа закладчиков и беглых посадских. Так, у солепромышленника Томилы Елисеева в 1648 году отписали 256 работников, у Климентия Патокина - 2 двора, 20 лавок, 2 лавочных места и пр., у Федора Горбова - двор, 17 лавок, лавочное место, амбар и пр. И т. д.
Сама гостиная сотня, впрочем, не собиралась мириться со сложившимся положением и в январе 1649 года подала челобитную прося восполнить ее потери в людях, в том числе и за счет возврата отписанных кадашевцев. Всего корпорация претендовала на 130 тяглецов - 62 из москвовского посада (в т. ч. 33 кадашевцев и 18 Садовой слободы), 41 бывшего беломестца патриарших слобод и проч. С учетом членов семей тяглецов гостиная сотня желала получить не менее 216 человек. Это намерение встретило активное сопротивление черных слобод и рассмотрение вопроса надолго затянулось (тем более что на часть тяглецов претендовала и суконная сотня). Решения по конкретным тяглецам неоднократно менялись - они то передавались гостиной сотне, то возвращались обратно. В итоге корпорации удалось получить лишь какую-то часть запрошенных кандидатов. Аналогичная картина после июля 1648 года наблюдалась и при пополнении корпорации иногородними тяглецами - местные посады активно сопротивлялись, тяглецов писали то туда, то сюда и в гостиную сотню в итоге попала лишь часть кандидатов.
Из-за сложившейся в городах обстановки в 1630-х годах правительство отказалось от проведения массовых наборов в гостиную сотню. После 1630 года производились только индивидуальные пожалования, которые однако были несколько расширены - в корпорацию часто зачислялись не только сам пожалованный, но и все члены его семьи ведущие с ним общее хозяйство (братья, сыновья, племянники).
Опасаясь трогать посады правительство обратило внимание на другие источники пополнения - в гостиную сотню продолжали записывать черносошных крестьян, а в 1634 - 1635 годах был произведен массовый набор крестьян патриарших и монастырских (взято 44 семьи). Впрочем, не желая обижать патриарха и монастыри, этих крестьян официально приписали к гостиной сотне временно (до 1639 года, позднее срок был продлен еще на несколько лет).
В 1640-х к практике массовых наборов было вернулись - в 1643 году в гостиную сотню взяли 12 семей из Конюшенных слобод, в 1644-м - 24 семьи из Кадашевской слободы, в 1647 году - 104 семьи из московского и иных посадов. Однако результаты этих наборов уже в 1648 году были аннулированы, а взятые в гостиную сотню возвращены в посад (см. выше).
В итоге численность корпорации к концу 1640-х заметно снизилась. К марту 1647 года по подсчетам Казенного приказа в ней имелось (без учета временно приписанных патриарших / монастырских крестьян) всего 197 мужчин (фактически видимо несколько больше).
В целом, на протяжении 1630 - 1640-х годов в состав гостиной сотни было включено 395 человек. Естественный прирост дал корпорации 191 члена (из 81 семьи), из новых семей было взято 204 человека (126 фамилий) - включая видимо тех кого позднее вернули обратно. Большая часть последних была взята из посадов - московского и иногородних, часть из торговых крестьян, несколько человек - из суконной сотни.
Общее число действовавших членов торговой сотни было выше - в 1630-х годах действовало 240 человек из числа ранее пожалованных, в 1640-х - 255.
Всего в первой половине XVII века в гостиную сотню пожалован был 871 человек, во вторую половину века из этого числа перешло 232 человека.
* Определенное число ремесленников, впрочем, оставалось в гостиной сотне и позднее.
50 - 80-е годы XVII века
После ликвидации белых слобод в 1649 году спокойствие в городах было более-менее восстановлено. Однако в 1650 - 1660-х годах на гостиную сотню обрушились новые беды. В 1654 году Москва тяжело пострадала от эпидемии чумы. Начавшаяся в том же году затяжная война с Польшей привела к к усилению обложения (сборы десятой и пятой деньги и даточных), введению государственной монополии на продажу ряда товаров, дополнившихся вскоре еще и провальной денежной реформой. Все это не способствовало благополучному развитию корпорации.
Как уже отмечалось, из ранее пожалованных во вторую половину века перешло 232 члена гостиной сотни, 93 из них действовало и в 1660-х годах. В 1650 - 1660-х годах к ранее пожалованным добавилось еще 220 человек из 153 фамилий. Естественный прирост дал гостиной сотне 104 новых члена (из 70 фамилий). Еще 116 человек (из 83 фамилий) были набраны на стороне.
К массовым наборам в оставшиеся годы царствования Алексея Михайловича правительство прибегать опасалось и все пожалования производились в индивидуальном порядке. В отдельных случаях торговых людей зачисляли в гостиную сотню по собственной просьбе. Однако, как отмечает автор, многие зажиточные посадские, насмотревшись на ужасы городских восстаний середины века, предпочитали не высовываться и оставаться в посаде, избегая зачисления в гостиную сотню.
Основную массу набранных в гостиную сотню в эти десятилетия составляли посадские люди, большей частью москвичи. Помимо них в гостиную сотню зачислялись посадские Ярославля, Нижнего Новгорода, Новгорода, Казани, Костромы, Калуги, Хлынова и проч. На переезде новопожалованных в столицу власти не настаивали и те перебирались в Москву только по собственному желанию.
Приток в гостиную сотню торговых крестьян сократился - из-за введения крепостного права, но не прекратился вовсе. В корпорацию было взято также несколько членов суконной сотни и даже один архиерейский сын боярский. Осип Палицын, бывший членом двора вологодского митрополита Маркела, женился на дочери тотемского солепромышленника Семена Харламова и, видимо на этой почве, сам увлекся солеварением и где-то между 1655/56 и 1669 годами был записан в гостиную сотню.
В целом, как отмечает автор, качество пополнения 1650 - 1660-х годов было невысоким - торговых людей соответствующих высоким стандартам (1-я статья корпорации) среди него имелось немного.
К середине 1670-х количественный и качественный состав гостиной сотни оставлял желать лучшего и правительство Федора Алексеевича приняло ряд мер по укреплению положения корпорации.
Была возрождена практика массовых наборов - в Кадашевской слободе в 1676 году взяли от 7 до 56 человек, а в 1680 году - еще 12, в Казенной слободе в 1677 - 1680 годах забрали 30 тяглецов. Впервые набор затронул и недавно созданную привилегированную Мещанскую слободу - в 1676 - 1678 годах здесь взяли в гостиную сотню 20 человек. В прочих московских слободах массовых наборов не производили, ограничиваясь индивидуальными пожалованиями.
В других городах массовых наборов также не было (брали одного-двух, иногда трех-четырех человек), однако число городов в которых производились индивидуальные пожалования существенно возросло - среди пожалованных были жители Архангельска, Арзамаса, Вологды, Ельца, Енисейска, Казани, Калуги, Каргополя, Касимова, Каширы, Костромы, Мурома, Мезени, Нижнего Ногорода, Острогожска, Переславля Рязанского, Пскова, Путивля, Серпухова, Симбирска, Смоленска, Свияжска, Соликамска, Тулы, Хлынова, Чебоксар, Ярославля и проч.
Впервые набор был распространен и на приборных служилых людей - в 1676 году было разрешено брать в гостиную сотню пушкарей и воротников южных и юго-западных городов (где посада, как известно, почти не было, а торгово-промышленная деятельность велась в основном приборными людьми). Первые наборы были проведены в Коломне, Путивле, Рыльске и Серпухове. В Коломне в 1678 году в гостиную сотню взяли не менее 6 пушкарей из трех семей, в Рыльске, в 1678 - 1679 годах, в гостиную сотню взяли 9 пушкарей с родственниками (всего не менее 21 человека)*, нескольких человек взяли также в Серпухове и Путивле**.
Помимо этого, в царствование Федора Алексеевича была распущена суконная сотня, а лучшие ее представители включены в состав сотни гостиной. Точное время и детали этого процесса неизвестны.
[При Софье, насколько можно понять, производились индивидуальные пожалования посадских и приборных людей].
Всего в 1670 - 1690 годах в состав гостиной сотни вошел 431 человек. За счет естественного прироста она получила 105 человек из 60 фамилий. Внешние источники дали не менее 326 человек (220 фамилий). Не менее 70 человек было взято из посадов провинциальных городов, более 70 человек - из числа приборных Коломны, Серпухова, Рыльска и Путивля и не менее 47 человек - из распущенной суконной сотни.
В составе гостиной сотни впервые появились этнические поляки (Степан Жигульский из Шклова, с двумя сыновьями), евреи (Матвей Евреинов / Матюшка Григорьев / Матюшка Жидок и др.) и прочие уроженцы Белоруссии - за счет набранных в Мещанской слободе.
Численность гостиной сотни в 1670 - 1680-х существенно возросла, а состав ее в значительной мере обновился. Однако общий качественный уровень корпорации не вырос, а скорее даже понизился - большая часть новых членов пополнила 2-ю и 3-ю статью гостиной сотни.
* Наборы продолжались здесь и позднее и к 1690 году число взятых в гостиную сотню в Рыльске достигло 29 человек (для сравнения, в местном посаде было всего 22 тяглеца).
** К 1696 году в гостиной сотне числилось 14 бывших путивльских пушкарей, с родственниками - 24.
Петровское правление
В 1690-х годах гостиная сотня продолжала пополняться за счет естественного прироста и индивидуальных пожалований. Всего в состав корпорации вошел 281 человек - 139 (81 фамилия) за счет естественного прироста и 142 (94 фамилии) - за счет новых пожалований.
Основным источником пополнения оставался посад разных городов. Продолжали набираться и приборные (пушкари), здесь к прежним городам добавились Брянск и Севск. Встречались и представители других сословных групп - в Переславле-Рязанском в гостиную сотню взяли троих рыбных ловцов дворцовой Выползовой слободы (фактически давно бывших торговыми людьми), в Москве - троих записных обжигальщиков-кирпичников, владевших кирпичными сараями. Несмотря на протесты патриарха Адриана в гостиную сотню были переведены также двое патриарших торговых крестьян.
К гостиной сотне, в отличии от корпорации гостей, петровское правительство особой неприязни видимо не питало и она продолжала пополняться на протяжении всего петровского правления. Однако разнообразные преобразования (введение новых налогов, городская реформа 1699 года и проч.) негативно сказывались и на ней. Резко усилился процесс миграции членов сотни, в основном второй и третьей статей - одни пытались, хотя бы временно, ускользнуть из под контроля властей, избежав назначения на службы и уплаты новых налогов, другие искали более благоприятные условия для ведения дел. Ряд членов корпорации отказался от ведения отъезжего торга, ограничиваясь местной торговлей. Усилилось социальное расслоение внутри самой гостиной сотни - ряд первостатейных членов корпорации существенно расширил свои операции, тогда как другие не в силах были платить и минимального оклада.
О состоянии московской части гостиной сотни можно отчасти судить по окладным книгам 1710 и 1713 годов и переписной книге 1725 года.
Согласно окладной книге денежного сбора с гостей и гостиной сотни 1710 года в столице имелось 212 членов гостиной сотни (с родственниками - не менее 266 человек). Из этих 212 человек 13,2% (28 человек) платили оклады от 20 до 60 рублей; 26,4% (56 человек) - оклады от 10 до 18 рублей; 60,4% (128 человек) - оклады от 25 копеек до 8 рублей. Восемь человек назначенные оклады (от 5 до 50 руб.) платить оказались не в состоянии и они были снижены (недостающие деньги разложены на других членов сотни).
Окладная книга 1713 года (сбора десятой деньги на покрытие расходов турецкой войны) фиксировала ухудшение материального положения членов сотни - 28 (или даже 29) человек оказались неспособны заплатить десятую деньгу. Помимо этого книга 1713 года зафиксировала общую убыль членов корпорации за несколько прошедших лет: в 1705 - 1713 годах по разным причинам выбыло 94 человека - 74 умерло и 20 перешли в иные чины (5 постриглись, 5 попали в солдаты и т. д.).
Переписная книга 1725 года зафиксировала членов сотни выбывших со времени I ревизии - всего 109 человек (86 умерло, 9 отданы в солдаты, 1 сослан на каторгу, 13 пропали без вести).
Таким образом, только по сведениям приводимым в книгах 1713 и 1725 годов корпорация потеряла в 1705 - 1725 годах не менее 203 человек.
Летом 1714 года был издан указ об обязательном переселении в Петербург торговых людей и ремесленников. От Москвы потребовали 90 купцов и 90 ремесленников. Гостиная сотня поначалу делегировала семерых своих членов, позднее добавив еще нескольких человек (всего 11?). Члены корпорации, впрочем, на болота ехать не желали и от переселения всячески уклонялись - проверка, проведенная в 1718 году, выяснила, что в Петербурге реально живут лишь три члена гостиной сотни, еще двое завели здесь дворы, но в них не живут, а шестеро до Петербурга не доехали вовсе. Спасая положение гостиная сотня экстренно записала в свои ряды нескольких бывших тяглецов московских слобод живших в Петербурге.
За первую четверть XVIII века в состав гостиной сотни вошло 914 человек. Большую часть пополнения дал естественный прирост - 566 человек из 208 фамилий. Не менее 324 человек из них (57,2%) были взяты в гостиную сотню в первое десятилетие XVIII века.
Со стороны было взято в гостиную сотню 348 человек из 177 фамилий. Большую часть пополнения, как и прежде, дали посады и местные корпорации пушкарей. Из периферийных городов наибольшее число новых членов дали Симбирск, Серпухов и Переславль-Рязанский.
В целом, за 1691 - 1725 годы в состав гостиной сотни вошло 1 195 человек - 705 за счет естественного прироста и 490 - со стороны. Из числа ранее пожалованных в 1690-е годы перешло не менее 227 человек, повышая общее число действовавших в петровское правление членов гостиной сотни до 1 422 человек.
За все время существования гостиной сотни (XVI - начало XVIII века) в ней состояло не менее 2 781 человека.
Несмотря на активное пополнение состояние корпорации со временем все более ухудшалось, а процессы внутреннего распада усилиливались. Конец ее существованию фактически положили вторая городская реформа и введение подушной подати. Регламент Главного магистрата (январь 1721 года) ввел систему купеческих гильдий, по которым следовало расписать членов гостиной сотни, а уплата подушной подати фактически уравняла членов сотни с прочим податным населением.
Гостиная сотня, впрочем, пыталась сопротивляться нововведениям - часть ее членов отказывалась платить подушную и т. д. Однако 30 июня 1728 года Сенат специальным указом подтвердил фактическую ликвидацию корпораций гостей и гостиной сотни - «гостям и гостиной сотне во всех городах быть в подушном окладе, и в службах с прочими посадскими наряду и верстаться между собой по богатству обще, а не особо».
Суконная сотня
скрытый текст
Точное время создания суконной сотни неизвестно (конец XVI века). Очень мало известно и о ее истории. С корпорацией гостей и гостиной сотней она была связана слабо, большой служебной ценности не представляла, численность ее также видимо была невелика. Члены суконной чаще всего несли малозначительные службы в мелких населенных пунктах - вместе с посадскими людьми. Корпорация, как и гостиная сотня, делилась на три статьи, со штрафами за бесчестье в 15, 10 и 5 рублей соответственно. Таким образом, первая статья суконной сотни приравнивалась ко второй гостиной, а вторая - к третьей статье гостиной. Бесчестье третьей статьи приравнивалось к бесчестью молодших посадских людей (у лучших и середних посадских - 7 и 6 рублей соответственно)*.
Помимо Москвы (ко второй половине 1670-х св. 100 человек), члены суконной сотни имелись и в ряде провинциальных городов - Переславле Рязанском (на 1676 год - 10 членов и 14 их взрослых «детей»), Хлынове, Соликамске, Ярославле, Вологде.
Во второй половине XVII века суконная сотня по своему служебному потенциалу не отличалась от рядовых московских слобод, существенно уступая богатым (Кадашевской, Садовой) и не представляла уже особого интереса для правительства.
Ликвидирована сотня была видимо в царствование Федора Алексеевича, однако ни точное время, ни детали процесса ликвидации также неизвестны.
* [По Судебнику 1550 года посадским полагалось за бесчестье от 1 до 5 рублей, а членам суконной сотни те же 15, 10 и 5 руб. Штрафы за бесчестье посадских были повышены Соборным уложением - до 7, 6 и 5 руб., а для суконной сотни остались теми же. Таким образом, статус членов суконной сотни изначально был выше чем у посадских и понизился уже во второй половине XVII века. См. - Флоря Б. Н. Оценки возмещения за оскорбление дворянской "чести" и "чести" представителей других сословий в памятниках русского законодательства XVI-XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, № 4 (70), 2017]
[За четверть века прошедших со времени издания книги Голиковой сведений о суконной сотне прибавилось мало.
Староста суконной сотни (Третьяк Герасимов сын Косаткин) участвовал в Земском соборе 1598 года, соответственно, при Федоре Ивановиче она уже существовала и, по мнению В. Б. Перхавко, при нем же и была создана.
Согласно жалованной грамоте, полученной старостой суконной сотни Данилой Чуевым в июне 1625 года (взамен старой, сгоревшей в Смуту), членам сотни даровалось право «с черными сотнями никаких дел не делать, и питье про себя держать безвыимочно, и стояльщиков во дворех не ставить, и избы им топить вольно, и подвод у них по ямом и на дороге не имать; и на реках перевозу и на мостех мостовщины и проезжего мыта не имать; а кто их чем обесчестит, а по суду доищутца, и лутчим людем безчестья по пятинадцати рублев, середним по десяти рублев, молотчим по пяти рублев». Размер штрафов за бесчестье был подтвержден указом мая 1645 года и Соборным уложением 1649 года.
Помимо перечисленного члены сотни освобождались от местного воеводского суда. В отличие от гостей и членов гостиной сотни, торговым людям суконной сотни не разрешалось в любое время пользоваться домашними банями («топить мыльни») и свободно ездить за границу.
Алексей Михайлович в 1671 году «пожаловал Суконные сотни торговых людей, где им лучится в отъезде быти самим, или их детям и племянником, и людем их: и бояря наши и воеводы и дьяки и всякие приказные люди ни в чем их не судят; а кому будет в чем до них дело, и их судят на Москве наши бояря, или кому мы великий государь укажем; а где они станут на ком искать, или кому отвечать, в котором Приказе нибудь, а по суду дойдет до крестного целования, и им самим лутчим и середним людям, и их братье и детям креста не целовати, а целовати крест людем их, а молодчим людем крест целовати самим; и с черными сотнями никаких им дел не делати и не тянути ни в чем».
Пожалованные в суконную сотню, как и в случае с гостиной, также вероятно какое-то время переводились в Москву, так, в 1630 году по царскому указу было «велено взять из Чердыни к Москве на житея, в Суконную сотню, посадских людей Ортемья Могильникова с братьями да Федора Свирепова с братьею», однако часть из них от переезда уклонялась - приказной документ от июля 1632 года упоминает членов сотни живущих в Галиче, Свияжске, Сольвычегодске, Дединове и Чердыни.
Основным занятием членов сотни были мелкая торговля и ремесло - годовой оклад их на 1632 год составлял от полуденьги до 13 копеек.
На 1649 год в суконной сотне числилось, по мнению Перхавко, 116 человек [Н. Б. Голикова считала соответствующий окладный список очень неполным в отношении гостей, так что и на счет полноты списка членов суконной сотни нет никакой уверенности]. Челобитную декабря 1653 года, направленную против английской Московской компании, подписало 163 члена сотни.
Мнение Н. Б. Голиковой о ликвидации суконной сотни при Федоре Алексеевиче В. Б. Перхавко не разделяет, приводя сведения о ее существовании и в более позднее время. Так, ответ царей Ивана и Петра на июньскую челобитную 1682 года, поданую стрельцами, гостями, гостиными сотнями и пр., был обращен к «гостям и Гостиные и Суконных сотен, и дворцовых и конюшенных и иных черных слобод посацким людем».
Далее Перхавко, с одной стороны, сообщает, «что после 1682 г. упоминания о [суконной сотне] исчезают из источников», но, с другой - сам же и приводит такие упоминания:
- в «письме» от 7 февраля 1695 года из Приказа Большой казны в Казенный приказ предписывалось «гостям и Гостиной и Суконной сотен и черных слобод людем вместо десятой деньги» поставлять суда и судовые припасы для Азовского похода;
- грамота из Новгородского приказа воеводе Нижнего Новгорода Павлу Федоровичу Леонтьеву об уравнении члена Гостиной сотни Ивана Устинова и крестьянина Печерского монастыря Макара Павлова сына Конищева в платеже налогов за тяглые дворы с нижегородскими посадскими людьми указывала «…так ж впредь и иным
беломесцом Гостиной и Суконной сотен, а дворцовых сел крестьяном и монастырским крестьяном же в Нижнем у посацких людей дворов и лавок, и анбаров покупать и в оклад имать никому не велели».
В целом, по его мнению: «суконная сотня перестала пополняться новыми членами и постепенно захирела... отсутствие упоминаний о ней в документах городской реформы начала 1699 г. позволяет сделать предположение об ее окончательном отмирании между 1696 и 1698 гг... наиболее зажиточные ее представители оказались в составе Гостиной сотни, а малоимущих включили в черные посадские общины».
См. - В. Б. Перхавко. Из истории Суконной сотни: истоки, состав, статус и занятия // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.]
* * *
В опросе тяглецов Мещанской слободы при переписи 1676 года... о своих занятиях в 1672 - 1675 годах он не сообщает, но, видимо, имел какие-то возможности и навыки, которые позволили ему осуществлять самостоятельные торговые операции.
В 1673 году он пришел жить в Мещанскую слободу, причем был принят в ее состав без обычной поручной записи. В 1676 году Иван Исаев имел в Мещанской слободе двор..., где жил с сыновьями и торговал в Шелковом ряду. В том же году он нес службу «на мещанских кружечных дворах у питейной продажи и и кружечного сбора», причем был не простым целовальником, а головой. Должность была весьма выгодной и, несомненно, позволила ему приобрести влияние в слободских кругах, и увеличить свой капитал.
скрытый текстЧерез два года, в 1678 году, он был взят в гостиную сотню... В 1685 - 1691 годах... продолжая оставаться в гостиной сотне, не раз упоминался... как поставщик шелка, серебра, золота и... других товаров царской казне... Его торговые операции вышли далеко за пределы Москвы и включали... Астрахань и Архангельск, Новгород, Брянск... Гостем И. Исаев стал не прозднее 1693 года. Деятельность его в составе купеческого «корабельного кумпанства», а затем выбор одним из четырех бурмистров в 1699 году во вновь создаваемую Бурмистерскую палату говорят, что он, несмотря на... пожилые годы был тогда еще достаточно бодр, энергичен и влиятелен.
...Наиболее удачно сложились судьбы сыновей и внуков гостя Ивана Исаева. Его старший сын Илья, познакомившийся в Архангельске с Петром... сумел понравиться царю и после взятия Риги... получил назначение в президенты Рижского магистрата. После смерти отца, он продолжая службу, сохранил единое хозяйство с братом Семеном и развернул вместе с ним активную торговую деятельность... В 1720 году Илья Исаев получил... назначение в «товарищи» к президенту Главного магистрата Ю. Ю. Трубецкому, а после отставки [того] в 1732 году, занял его место... В 1731 - 1733 годах он был вице-президентом Коммерц-коллегии. Служба его завершилась в 1737 году, а через несколько лет он был пожалован чином действительного статского советника... [дающего]... потомственное дворянство.
Из сыновей Семена Иван... в 40-х годах XVIII века... стал президентом Главного магистрата, а в 1763 году был пожалован чином надворного советника, что... дало ему право на личное дворянство. Сыновья Ивана... вышли из купечества в военную службу, где дослужились: Алексей до полковника, в Яков до бригадира.
Н. Б. Голикова «Привилегированные купеческие корпорации России, XVI - первая четверть XVIII в.»
* * *
Подобные явления встречались довольно часто как среди гостей, так и членов гостиной сотни, причем повсеместно. Ярославские гости Лузины, например, взяли свою фамилию от отца Остафия, получившего прозвище «Луза», тогда как их дед именовался Лютовым. Новгородские гости Микляевы - по деду, иногда назывались Никифоровыми - по отцу. Сыновья черносошного крестьянина Федота Гусельникова предпочли стать Федотовыми, хотя в отдельных случаях пользовались и старой фамилией. В семье Чистых четверо гостей: Иван и три его сына Назар, Иван и Аникей были Чистыми, сын Ивана Ивановича Ерофей, по прозвищу Алмаз, превратился в Ерофея Иванова или Алмаза Иванова, а его сыновья иногда именовались Ерофеевыми, а иногда Алмазовыми.
скрытый текст
...Вязьмичи, слывшие там Дьяконовыми и Антоновыми, после переезда в Москву и пожалования в гости начали именоваться по своему отцу Васильевыми, а сыновья и внуки Матвея васильевича Васильева вернулись к фамилии Антоновы. В разветвленной семье бывших черносошных крестьян Усовых, после того как один из ее членов получил прозвище Грудца, каждый из его потомков, вошедших в гостиную сотню использовал три варианта фамилии: Усов, Усов-Грудцын или Грудцын. Лишь в четвертом поколении одна ветвь стала отдавать предпочтение фамилии Усовы, а другая Грудцыны... Из гостей Хозниковых один брат, живший в Москве, сохранил эту фамилию, а другой, обитавший в Пскове, и его дети приняли вариант Хозины...
Одной из особенностей ономастики являлось существование и параллельное употребление имен, полученных при крещении, и сложившихся в просторечии прозвищ... Так, один из самых крупных гостей первой половины XVII в. Епифаний Андреевич Светешников, за очень редким исключением, фигурировал в документах как Надея Светешников, а его сын Семен носил отчество Надеевич. Братья Константин и Тимофей Судовщиковы именовались соответственно Смирным и Третьяком, а сын Константина Демьян, по прозвищу Герман, встречался в разных источниках то как Герман Смирнович, то как Демьян Смирнович... Гость Софроний Федорович Тараканов был гораздо известнее как Томило Тараканов, а сын гостя Меньшого Семеновича Булгакова Никита, член гостиной сотни, как правило, именовался Рудельфом Булгаковым...
Другой особенностью ономастики было употребление разных вариантов одного и того же имени, например: Вонифатий - Нифантий - Нифонт или Евстафий - Остафий... Практиковалась также замена одного имени другим из-за... созвучия. Так, Савелия могли именовать Саввой, Маркела - Марком, Андрея - Андрианом и наоборот...
Из затрудняющих... учет осложнений... следует отметить обычай давать родовые имена, из-за чего в таких семьях встречались лица, у которых были не только одинаковые имена, но и отчества. В семье Сверчковых было например два Ивана Матвеевича, в семье Чистых три Ивана Ивановича - дед, сын и внук. Среди Климшиных насчитывалось два Ивана и четыре Василия, причем трое последних с одинаковыми отчествами...
Такое же положение складывалось в семьях и тогда, когда братья получали одинаковые имена при крещении. В таких случаях к их именам могли даваться пояснения «Большой» или «Меньшой»... В огромном клане Рюминых, например, были «Большой» и «Меньшой»... Семены, Дмитрии и Филиппы... Встречались и варианты, когда дополнение к имени давалось только одному из братьев. Так, из двух Васильев Климшиных старший брат именовался только Василием, а младший - Василием Меньшим.
К двоюродным братьям подобные пояснения не применялись и поэтому их можно было различить только по отчеству. Среди Юдиных, где в двух ветвях насчитывалось семь Иванов, прозвища Большой и Меньшой получили только два родных брата. В семье Чечкиных четверых Иванов можно было распознать, только зная имена их отцов...
Особенности употребления имен, сохранившиеся и в первой четверти XVIII века, породили ошибку, когда самый богатый московский купец гостиной сотни Матвей Григорьевич Евреинов, именовавшийся и Матвеем Григорьевым, принимался за двух разных людей.
Н. Б. Голикова «Привилегированные купеческие корпорации России, XVI - первая четверть XVIII в.»
* * *
Борьба за Вильно и битва при Верках 1658 г.
Ценная работа, написанная в обычном для автора духе.
скрытый текстГосударев поход 1655 года и взятие Вильны
скрытый текст
Овладев Смоленском в ходе Государева похода 1654 года и видя слабость литовского государства Алексей Михайлович решил развить успех. Целью второго Государева похода стала столица ВКЛ - Вильна.
Несмотря на разразившуюся эпидемию чумы для похода на Вильну была собрана большая армия. Общая численность армии по наряду составляла ок. 40 000 чел.: ок. 20 000 чел. в Государевом полку (Алексей Михайлович, Б. И. Морозов, И. Д. Милославский), более 8 400 чел. - в Большом (кн. Я. К. Черкасский, кн. И. С. Прозоровский, Б. М. Хитрово), более 6 300 чел. - в Передовом (кн. Н. И. Одоевский, кн. Ф. Ю. Хворостинин), более 4 700 чел. - в Сторожевом (кн. Б. А. Репнин, кн. О. И. Щербатов). В ходе самого похода из конных подразделений других полков был сформирован также Ертаул (кн. П. Е. Черкасский и кн. П. С. Прозоровский). В состав армии были включены (по наряду) 3 000 московских чинов (29 сотен), поместная конница, 4 рейтарских полка (4 000 чел.), 2 драгунских полка (2 600 чел.), 15 солдатских полков (24 800 чел.), 11 московских стрелецких приказов (5 600 чел.). «Большой наряд» (Ф. Б. Долматов-Карпин, кн. П. И. Щетинин) включал 30 тяжелых осадных орудий (до Вильны он не дошел, был, за ненадобностью, остановлен в Орше и возвращен в Смоленск).
Помимо этого в походе участвовали присланные Хмельницким малороссийские казаки наказного гетмана И. Золотаренко (Нежинский, Черниговский, Стародубский полки), всего будто бы (по утверждению самого Золотаренко) - 20 000 чел.
Находившаяся в районе Вильны армия обоих литовских гетманов (великого - Януша Радзивилла и польного - Винцента Гонсевского) была невелика - всего ок. 6 000 чел.: примерно 1 500 чел. «национальной» конницы (2 гусарские и 12 казацких хоругвей) и ок. 4 500 пехоты и «иноземной» конницы (2 полка рейтар, 2 полка и хоругвь драгун, 2 полка немецкой пехоты и хоругвь венгерской). Помимо этого гетманы могли расчитывать на собравшиеся под Вильной хоругви посполитого рушения (2 825 чел.).
Я. Радзивилл, видя слабость и своих сил и укреплений Вильны, город оборонять не стал и при приближении русской армии отошел на правый берег Вилии по единственному каменному мосту («Зеленый мост») ниже Вильны по течению. Русская конница, подошедшая к Вильне утром 29 июля (8 августа), обнаружив переправу литвы, атаковала прикрывавшие отход части (немецкая пехота?), однако большая часть литовской армии благополучно переправилась через реку, после чего мост был взорван. Оставшиеся на левом берегу были перебиты или попали в плен. Всего русскими и казаками было взято 8 знамен хоругвей, однако общие потери армии Радзивилла были видимо небольшими.
В тот же день сама Вильна была занята русскими войсками. Взятие столицы ВКЛ имело большое политическое значение и существенно повысило международнй авторитет русского государства.
Начавшийся тем же летом 1655-го «шведский потоп» способствовал установлению затишья на «литовском фронте». С литвой и поляками было заключено перемирие, Алексей Михайлович ввязался в войну со Швецией и борьба за Вильно возобновилась лишь в 1658 году.
Ситуация в ВКЛ весной - летом 1658 года
скрытый текст
К лету 1658 года русское государство теоретически контролировало большую часть Великого княжества. Под контролем литвы оставалась часть юго-западных районов (Брест, Пинск, Слуцк, Мозырь) - здесь, в районе Бреста стоял с войсками (ок. 5 000 чел. на начало марта) великий гетман Павел Сапега и Жмудь - здесь, в районе Биржи и Бауски, находился польный гетман Винцент Гонсевский (ок. 1 000 конных на начало марта).
Часть юго-восточных районов ВКЛ (Старый Быхов, Речица, Гомель, Пропойск, Стародуб) контролировалась малороссийскими казаками.
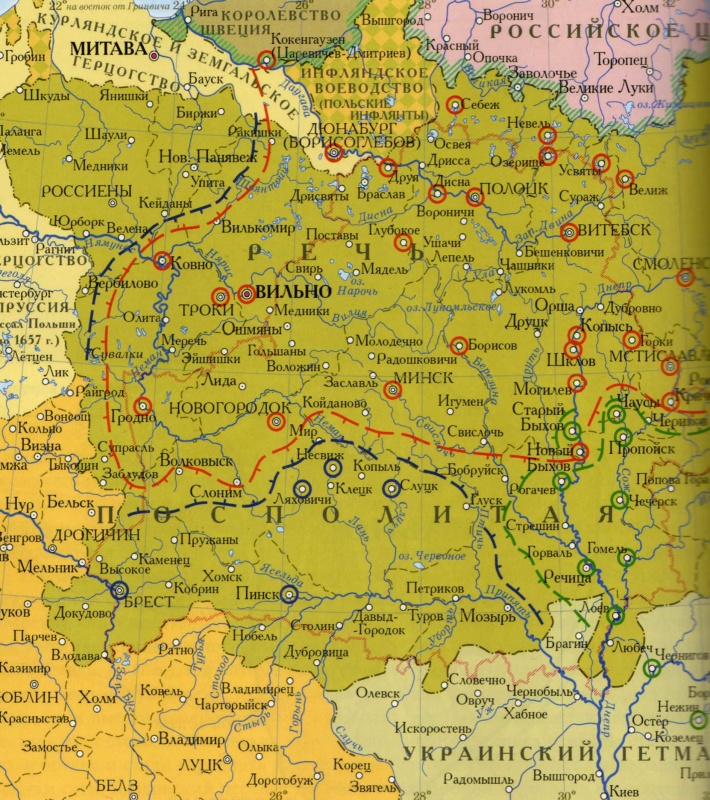
В Вильне после взятия города были оставлены солдатские полки Юрия Инглеса (с ноября 1656 - Федора Отфельдера) и Юрия Англера (мордва, черемисы и русские солдаты из Ефремова), в 1656 году, после Рижского похода, к ним добавился солдатский полк Василия Кунимгана (ранее Германа Фанстадена). Полками Отфельдера и Англера к весне 1658 года фактически командовали подполковники Вилим Шкин и Юрий Дефром, но сами полки в русских документах по-прежнему часто назывались по фамилиям прежних командиров. К 8 мая в полку Отфельдера числилось 311 солдат, в полку Англера - 317, в полку Кунингама - 236, всего - 864 солдата. Часть виленских солдат стояла гарнизонами в других городах.
Воеводой Вильны с 1655 года был кн. Михаил Семенович Шаховской. Состояние укреплений города оставляло желать лучшего. В начале XVI века Вильна была окружена каменной стеной с башнями, однако позднее ни власти ВКЛ, ни сами жители города не демонстрировали особого желания поддерживать его обороноспособность на должном уровне и к середине XVII века укрепления Вильны пришли в полный упадок. Воевода Шаховской позднее (1659 год) рапортовал о проведении значительных работ по укреплению города, однако фактически видимо сделано было немного.
В Троках стояла рота из виленского полка Ю. Англера (численность - ?).
В Новогрудке - 2 роты из виленского полка Ф. Отфельдера (численность - ?).
В Гродно с 1655 года стояло видимо по роте драгун из полков Х. Гундертмарка и М. Кормихеля, в апреле 1658 года туда были посланы дополнительно 2 (сводные?) роты виленских полков (всего в городе на 25 апреля - 425 чел.).
В Ковне стоял гарнизоном солдатский полк Юрия Закса (на 25 апреля - всего 108 чел.). В начале апреля 1658 года Ю. Закса отозвали было в Вильно, назначив на его место подполковника Силу Юрьева из виленского полка В. Кунимгана, однако уже в мае оба были возвращены на прежние места.
В Борисове стоял солдатский полк Томаса Бели (на 25 апреля - 481 чел.в Борисове и 291 чел в Вильне (см. ниже), итого - 772 чел.). Три роты полка стояли гарнизоном в Минске.
В Минске гарнизоном стояли три роты полка Т. Бели (на 25 апреля - 115 чел.).
В Шклове стоял солдатский полк Кашпира Яндера (на 25 апреля - 140 чел. в Шклове и 361 чел. в Вильне, итого - 501 чел.).
В Могилеве - солдатский полк Юрия Кита (на 25 апреля - 360 чел. в Вильне; позднее, на август 1658-го в гарнизоне Могилева имелось 865 чел., из которых солдат - 550, стрельцов - 315).
В Новом Быхове - солдатский полк Адама Гохварта (на 25 апреля - 100? чел. в Н. Быхове и 299 чел. в Вильне, итого - 399 чел.)
В Полоцке с начала 1657 года стоял полк генерал-поручика Томаса Далейля (на 25 апреля - 400 чел. в Полоцке, в Вильно - ?).
Небольшие гарнизоны (одна-две роты) стояли также в Мстиславе (55 чел.), Горах (50 чел.), Копыси, Кричеве, Дисне и Глубоком.
Всего на конец апреля - начало мая 1658 года - не менее 4 049 чел. (без учета Могилева).
Помимо этого, значительный гарнизон имелся в Смоленске - солдатские полки Данилы Краферта (на 25 апреля - 974 чел.), Аврама Лесли и Ефима Франсбекова (в обоих на 25 апреля - 2 616 чел.), всего - 3 590 чел. Полк Д. Краферта в марте ушел в Вильно (см. ниже).
Гарнизоны имелись и в занятых русскими городах шведской Лифляндии - Царевиче-Дмитриеве / Кокенгаузене / Кокнесе (2 025 чел.) и Борисоглебове / Динабурге / Двинске (266 чел.).
Фактически более-менее прочно контролировались лишь города в которых стояли гарнизоны, местности вокруг них оставались под контролем местной шляхты, большей частью присягнувшей русскому государю (т. н. присяжная шляхта) и даже участвовавшей в боевых действиях на стороне русских, но совершенно ненадежной.
Русское правительство, ожидая возобновления боевых действий на «литовском фронте», с начала 1658 года начало собирать войска в Белоруссии. 12 февраля 1658 года боярину и воеводе кн. Юрию Алексеевичу Долгорукову было указано быть с полком в Минске «от литовских людей». Вторым воеводой к нему был назначен стольник кн. Михаил Семенович Волынский (16 февраля), сразу же ударивший челом на боярина. Иск его был отвергнут, сам он послан в тюрьму за бесчестье Долгорукова и смирился с назначением.
Пяти солдатским полкам - Д. Краферта из Смоленска, Ю. Кита из Могилева, Т. Бели из Борисова, К. Яндера из Шклова и А. Гохварта из Нового Быхова было приказано идти в Вильну, куда они и прибыли к 25 марта, оставив часть сил в прежних местах (см. выше). Общую численность виленского гарнизона после прихода подкреплений автор определяет в 5 168 солдат, при этом общая численность пришедших полков, по его же сведениям, составляла 2 285 чел. (на 25 апреля), а численность виленских полков - 864 чел. (на 8 мая), т. е. всего - 3 149 человек.
В мае 1658-го в Вильну пришел и полк Т. Далейля из Полоцка (численность не указана). Виленскому воеводе кн. Шаховскому было приказано передать часть виленских солдат в полки Д. Краферта и Далейля (передано 37 и 100 чел. соответственно), после чего в виленских полках остался 521 чел.
20 июня 1658-го в Вильну прибыли новоприборные солдаты-вятчане - 1 792 чел. (отправлено 2 012 чел.), распределенные по полкам Кита, Яндера, Бели и Гохварта (по 448 чел. в каждый).
Полки Далейля, Краферта, Кита, Яндера, Бели и Гохварта (на 23 июня - 4 656 чел., без начальных людей и сержантов) вошли в состав формирующейся в Вильне армии кн. Ю. А. Долгорукова (пришел в город 23 июня). К ней присоединились также московские стрелецкие приказы Степана Коковинского и Ивана Ендагурова (всего 927 чел.). Шаховскому было также приказано мобилизовать присяжную шляхту виленского и «иных поветов» (по списку - 3 891 чел.). Воевода передал Долгорукову и часть вооружения и припасов виленского арсенала - 11 орудий (9 полковых 2-фунтовых, полуторную пищаль калибром «в полтрети гривенки» и некую «огненную» малую медную пищаль) и проч.
Изначально русское правительство видимо планировало организовать в 1658 году большой поход на запад (помимо русских войск в нем должны были участвовать и казаки Выговского) - для принуждения Речи Посполитой к миру на выгодных Москве условиях. К армии Долгорукова у Вильны должны были добавиться другие силы - на запад приказано было идти и войскам Белгородского разряда - белгородский воевода кн. Ромодановский к 15 июля должен был встать с полками в Гродне. Однако 12 июня, в связи с резким осложнением ситуации в Малороссии, Ромодановскому было приказано к Гродне не ходить, а идти «в черкаские городы». Часть сил разряда (солдатский полк Ягана Краферта, комарицкие драгуны и проч.) все же была отправлена в Белоруссию, войдя в состав полка окольничего кн. Василия Семеновича Волынского, которому было приказано встать в Гродне вместо Ромодановского.
К маю 1658 года планы Москвы были несколько скорректированы. 10 мая в Вильно для переговоров с представителями Речи Посполитой было направлено Великое посольство включавшее боярина кн. Никиту Ивановича Одоевского, боярина кн. Петра Васильевича Шереметева, боярина кн. Федора Федоровича Волконского, думного дьяка Алмаза Иванова и дьяка Ивана Патрикеева.
Посольство сопровождал внушительный военный отряд - 4 сотни московских чинов, рейтарский полк Анца Фанстробеля и московский стрелецкий приказ Андрея Остафьева.
Согласно наказу послы должны были прибыть в Вильну к 22 - 23 июня и ждать там польских комиссаров до 22 июля. Переговоры предписывалось вести под Вильной, не дальше одной-двух верст от города. Армия кн. Ю. А. Долгорукова должна была «оберегать» великих послов, а в случае провала переговоров начать боевые действия.
20 июня русские послы прибыли в Вильну, 23 июня сюда же пришел из Полоцка кн. Ю. А. Долгоруков. Польские «комиссары» были назначены королем еще в конце мая, однако в Вильну не ехали, добравшись лишь до Бреста - поляки тянули время, ведя параллельно переговоры со шведами и Выговским.
3 августа к послам явился кн. Ю. А. Долгоруков и, указав на ухудшающееся положение стоящей без дела армии, потребовал каких-то решений. Послы в итоге решили не ждать поляков и возвращаться в Москву. В тот же день Долгоруков написал в столицу о готовности открыть боевые действия.
5 августа Москва разрешила воеводе выступить в поход. Входивший в состав посольского отряда рейтарский полк Фанстробеля был передан Долгорукову, на случай возможной встречи с польскими «комиссарами» князю оставили дьяка Ивана Патрикеева и служащих Посольского приказа.
7 августа 1658 года кн. Долгоруков выступил из Вильны на Ковну и Кейданы.
Поход на Жмудь и бой у Ковны
скрытый текст
Армия кн. Ю. А. Долгорукова в это время состояла из трех воеводских полков - самого Долгорукова и его товарищей - кн. М. С. Волынского и Осипа Ивановича Сукина.
В состав армии входило 38 московских чинов (на 19 августа), 2 567 дворян, детей боярских, новокрещенов, поместных, беломестных и полковых казаков (на 19 августа), в основном западных, заоцких, украинных и северских городов, 3 рейтарских полка (Дениса Фонвизина и Афанасия Траурнихта - 838 и 1 141 чел. по наряду плюс «посольский» Анца Фанстробеля), 6 солдатских полков (Далейля, Краферта, Кита, Яндера, Бели и Гохварта, на 23 июня - 4 656 чел., без начальных людей и сержантов), возможно темниковские татары (упоминаются с октября, не более 500 чел.), всего примерно 11 000 чел.
Местная присяжная шляхта, которую изначально планировалось мобилизовать, к походу видимо не привлекалась.
Целью похода было занятие Жмуди, что должно было усилить русские переговорные позиции. Армия выступила из Вильны 7 августа. По пути ей встретились едущие на переговоры польские «комиссары», однако попытка последних начать переговоры с Долгоруковым успеха не имела.
Придя к Ковне кн. Долгоруков стоял там лагерем до 20 августа, ожидая опоздавших служилых людей. 20 августа армия двинулась на Жмудь. В тот же день, примерно в 25 верстах от Ковны, было обнаружено скопище неприсяжной шляхты ковенского повета, по требованию Долгорукова шляхта (всего 424 чел.) присягнула русскому государю (22 августа).
25 августа русская армия без боя заняла Кейданы, резиденцию Радзивиллов. Однако 28 августа Долгоруков неожиданно получил указ о прекращении боевых действий - в связи с возобновлением мирных переговоров. Князю было приказано идти обратно к Вильне.
К 30 августа Долгоруков отошел к Ковне, перейдя с основными силами на правый берег Вилии. На левом берегу был оставлен отряд для «бережения... ратных людей» - «ослушников» оставшихся в «загонах» и не пожелавших по приказу выйти «из войны». Отряд включал 3 сотни поместной конницы, 3 роты рейтар полка Фонвизина и солдатский полк Т. Бели (вероятно 4 роты), всего не более 1 000 человек.
Тем временем, гетман В. Гонсевский, ушедший ранее воевать со шведами в Лифляндию и к 21 августа находившийся в районе лифляндской Бауски, узнав о походе Долгорукова спешно вернулся в Литву. 29 августа он был уже у Ковны, встав лагерем в 15 верстах от города, в селе Лапье (Лапю).
По показаниям языков армия гетмана включала 4 гусарских (440 чел.) и 13 казацких (120 - 180 чел. в хоругви) хоругвей, 11 рейтарских (50 - 70 чел. в роте) и 12 драгунских (120 - 180 чел.) рот, 2 хоругви венгерской пехоты (по 100 чел.) и 10 рот пехоты немецкой (50 - 70 чел. в роте), всего - ок. 6 000 чел., а вместе с поветовыми хоругвями Жмуди и проч. - возможно до 8 000 чел.
29 августа «в ночи» Гонсевский послал к Ковне большой конный отряд (8 рейтарских и 4 драгунских роты, 4 казацких хоругви, общей численностью примерно в 1 500 чел.) под общим командованием полковника Жеромского. Утром 30 августа Жеромский атаковал русский отряд на левом берегу Вилии. Русская конница была смята и бежала по мосту на правый берег, причем мост видимо обрушился и какое-то число бегущих утонуло. Русская пехота, напротив, упорно отбивалась, засев сначала в обозе, а позднее в некоем «большом деревянном дворе». Видя происходящее, кн. Долгоруков, перейдя Вилию по другому мосту, «с пешими и конными ратными людьми» сам атаковал литву. Последняя была разбита и бежала к лагерю Гонсевского. Преследующие бегущих русские конные сотни были, в свою очередь, атакованы частями гетмана и бежали назад, к основным силам.
Общие потери русских, по отписке Долгорукова, составили 66 чел. убитыми и утонувшими (в т. ч. 43 конных), 18 пленными и 41 раненым, всего - 125 человек.
Общие потери литвы неизвестны, свидетель из лагеря гетмана писал о более чем 500 убитых (цифра видимо завышена), среди убитых оказались рейтарский полковник Пшипковский и ряд других офицеров. В плен к русским, по отписке Долгорукова, попало 54 человека (семеро умерло от ран, на 47 имеется поименный список).
Бой, таким образом, закончился успешно для русских. Между тем, как указывает автор, в отечественной историографии бой у Ковны по сю пору числится тяжелым поражением Долгорукова - поляки традиционно напобедили москалей в западной печати (1500 убитых русских, 7 потерянных знамен и проч.), сообщения которой были всерьез восприняты в отечестве.
Виленские переговоры
скрытый текст
19 августа покинувшие было литовскую столицу великие послы получили указ «поворотитца назад в Вилну» и вести переговоры с польскими «комиссарами». 29 августа послы вернулись в город, получив в тот же день еще один указ о продолжении переговоров. Долгорукову было приказано боевые действия прекратить и встать у Вильны, вернув послам полк Фанстробеля, дьяка Патрикеева и служащих Посольского приказа.
8 сентября к Вильне пришел полк окольничего кн. В. С. Волынского, направлявшийся к Гродне. В Гродну окольничий разумно не пошел, встав лагерем рядом с Долгоруковым. К этому времени в его полку имелось ок. 1 500 чел. - белгородский солдатский полк Я. Краферта и проч.
Идущий на соединение с Волынским большой отряд кн. Андрея Дашкова (солдатский, два драгунских и половина рейтарского полков из Белгородского разряда) был перехвачен мятежным Нечаем и до окольничего не добрался (см. ниже).
16 сентября, у деревни Немежа, примерно в 8 верстах к юго-востоку от Вильны, начались переговоры с польскими «комиссарами». Практического смысла они по сути не имели - поляки под прикрытием переговоров вовсю готовились к возобновлению боевых действий. Рассылаемые повсюду с лета королевские универсалы призывали шляхту к борьбе с «москалями». Радикально изменилась и обстановка на «малороссийском фронте» - в августе 1658 года гетман Запорожского войска И. Выговский уже открыто выступил против Москвы. 6 (16) сентября гетман подписал с представителями польского короля Гадячский договор, официально возвращавший Малороссию в состав Речи Посполитой. Мятеж Выговского поддержал и Иван Нечай, полковник т. н. Белорусского полка, контролировавший юго-восточные районы ВКЛ.
Оба литовских гетмана к концу сентября - началу октября подтянулись к Вильне, встав южнее и севернее города. В окрестностях Вильны и других занятых русскими городов фактически вовсю шла малая война - солдаты гетманов и местная шляхта систематически нападали на русских фуражиров.
29 сентября шедший на соединение с полком кн. В. С. Волынского драгунский полк Семена Брынка (1 200 новоприборных драгун из Скопина и Романова* и большой груз боеприпасов - 18 бочек пороха, 30 чушек свинца и 300 пудов фитиля), был атакован людьми Сапеги в 25 верстах от Вильны, у замка Медники. Засев в обозе драгуны отбились от литвы, однако оказались блокированы и продолжить путь не могли. Требования послов и воевод пропустить полк Брынка литвой под разными предлогами игнорировались.
* В другом месте названы комарицкими.
Битва при Верках
скрытый текст
9 октября переговоры были окончательно прерваны. Кн. Ю. А. Долгоруков не стал дожидаться пока литовские гетманы дозреют до атаки на Вильну и атаковал первым, обрушившись на более слабого из них - Гонсевского.
Армия кн. Долгорукова в этом сражении включала два воеводских полка - его собственный и кн. М. С. Волынского. Полк Долгорукова состоял из 1 700 чел. сотенной службы, рейтарского полка Д. Фонвизина (800 чел.), солдатских полков Далейля, Д. Краферта, Кита, Яндера, Бели и Гохварта (4 600 чел.) и стрелецких приказов Коковинского и Ендагурова (920). Полк кн. М. С. Волынского - из 300 чел. сотенной службы, рейтарского полка Траурнихта (900), драгунского полка Я. Фанговена (800)* и 2 рот солдатского полка Я. Краферта (200). Всего - 2 000 служилых людей сотенной службы, 1 700 рейтар, 800 драгун, 4 800 солдат и 920 стрельцов, итого 10 220 человек**.
Полки кн. В. С. Волынского (из которого забрали 2 роты полка Я. Краферта, драгун Фанговена и часть? конных сотен) и О. Сукина [в котором вообще непонятно кто остался] остались оборонять Вильну.
Армия гетмана В. Гонсевского, по показаниям языков, включала 8 гусарских хоругвей (от 30 до 50 чел. в каждой), 8 казацких хоругвей (от 100 до 200 чел.), 12 рот рейтар (по 100 - 160 чел.), 12 рот драгун (100 - 180 чел.) плюс 10 рот немецкой пехоты, 2 хоругви пехоты венгерской, рота драгун и 8 пушек, стоявших отдельно за Святой рекой и в битве не участвовавших.
Из 8 гусарских хоругвей четыре были компутовыми, остальные автор считает поветовыми, оценивая их общую численность в 200 чел.
Всего, по мнению автора, Гонсевский имел у Верок примерно 800 гусар (600 компутовых и 200 поветовых), 980 казаков / панцерных, 1 170 рейтар и 1 200 драгун, итого - 4 150 человек. За Святой рекой стояло еще 1 000 чел. немецкой пехоты и 200 чел. венгерской [упоминавшаяся драгунская рота в табличке отсутствует]***. Помимо этого при войске могла находиться и еще какая-то поветовая шляхта, неизвестного состава и численности.
Польско-литовские авторы численность войска Гонсевского оценривают в 1 200 - 1 500 всадников, по мнению автора, зловредно считая лишь гусар и панцерных.
Гонсевский с 27 сентября стоял лагерем у селения Верки, к северу от Вильны, на позиции удобной для обороны и наблюдения за дорогой из города. Нападения гетман не ждал и подход армии Долгорукова, выступившего из Вильны «в ночи» 11 октября, литва проспала. Гонсевский успел все же построить войска для боя, разделив их на три отряда.
Детали произошедшего боя остаются, в общем, неизвестными. Русские источники никаких подробностей не приводят, пристрастный литовский очевидец утверждает, что литовской коннице удалось прорваться на левом фланге русских, однако ее прорыв был остановлен огнем стрелецких приказов, многие польско-литовские / западные источники отмечают также сильнейший огонь русской пехоты и т. д. Так или иначе, через какое-то время конница Гонсевского была смята русскими и бежала на северо-восток. Русская конница преследовала врага 15 верст, до реки Реши, где, у узкой переправы через болотистую речку, литва была окончательно разбита.
Общие потери литвы неизвестны, польско-литовские авторы пишут о 200 убитых и пленных, в западных газетах писали даже о 2 000 убитых, автор оценивает потери врага в 500 убитых и пленных. В отписке Долгорукова перечислено 77 видных пленных, включая рейтарского и драгунского полковника С. Неверовского, рейтарского подполковника Н. Шкутина и проч. Главным трофеем русской армии стал сам гетман Гонсевский, взятый в плен рыльским сыном боярским Андреем Толмачевым (пожалован в рыльские стрелецкие головы вечно и беспеременно).
Потери русской армии также неизвестны, вероятно они были незначительными.
Разгром Гонсевского произвел должное впечатление на врага. Гетман Сапега вскоре ушел от Вильны, отойдя к Бресту и следующие полтора года литва город не беспокоила. Драгуны полка Брынка, сидевшие в осаде у Медников, после ухода Сапеги присоединились к полку кн. В. С. Волынского.
* Комарицкие драгуны из полка кн. В. С. Волынского.
** Так в табличке, в тексте у автора 2 500 людей сотенной службы, 1 500 рейтар, 900 стрельцов, 4 700 солдат и 800 драгун.
*** Так в табличке.
Отход армии Долгорукова
скрытый текст
Несмотря на одержанную победу кн. Долгоруков посчитал опасным оставаться в Вильне, ссылаясь на нехватку хлебных запасов и конских кормов, бегство людей со службы и препятствия чинимые на дорогах литовскими мятежниками. 19 октября 1658 года армия кн. Ю. А. Долгорукова, не дожидаясь соответствующего царского указа, покинула Вильну. В тот же день город покинуло и Великое посольство со своим эскортом.
К 7 ноября Долгоруков встал в Шклове, откуда писал государю, прося дальнейших указаний и сообщая, что в случае нехватки припасов и на новом месте планирует идти дальше, к Смоленску. В Шклове же Долгоруков получил гневное послание Алексея Михайловича. Царь ругал князя за несвоевременное извещение о победе (сеунщики, по каким-то причинам, добрались до Москвы лишь 18 ноября) и самовольный отход от Вильны, однако фактически санкционировал дальнейший отход к Смоленску.
Придя в Смоленск Долгоруков распустил большую часть поместной конницы и 10 декабря 1658 года пошел со стрельцами, Гонсевским и прочей пленной литвой к Москве.
Полки кн. В. С. Волынского (часть поместной конницы и казаков, драгуны полков Я. Фанговена, Ивана Мевса и С. Брынка и солдатский полк Я. Краферта) и О. Сукина (рейтары полков Д. Фонвизина и А. Траурнихта) были оставлены в Смоленске и должны были действовать отсюда против Нечая и мятежной литвы. Однако из-за массового отъезда со службы людей у обоих воевод осталось немного (у Сукина на 13 декабря - 476 чел., у Волынского, примерно на то же время - 920) и серьезной роли они сыграть не смогли.
Часть сил кн. Долгоруков при отходе оставил в местных гарнизонах. В Вильне, в дополнение к виленским полкам, был оставлен новый сборный полк Якова Урвина (1 500 солдат набранных изо всех других солдатских полков). Назад в Борисов был отправлен полк Т. Бели, в Шклов - полк К. Яндера, в Могилев - полк Ю. Кита, в Полоцк - Т. Далейля, в Смоленск - Д. Краферта. Полк А. Гохварта, ранее стоявший в Новом Быхове, был отправлен в Витебск.
Борьба с мятежом Нечая и литвы
скрытый текст
Юго-западные районы ВКЛ были заняты т. н. Белорусским (Чаусским) полком Запорожского войска, с центром в Чаусах. Полк включал 16 территориальных сотен и с 1656 года возглавлялся полковником Иваном Нечаем, сменившим погибшего И. Золотаренко. Полковник поддержал мятеж Выговского, летом 1658 года у него имелось ок. 3 000 казаков. К казакам Нечая присоединились «полковник» Денис Мурашко (примерно 2 000 чел. всякого сброда) и местная присяжная шляхта, ранее с казаками враждовавшая - витебская полковника Самуила Тихоновецкого, оршанская, кричевская, мстиславская.
В сентябре 1658-го казаки Нечая атаковали под Мглином шедший на соединение с полком кн. В. С. Волынского отряд А. Дашкова (см. выше) и вынудили его отойти к Трубчевску. 3 октября Нечай пытался изгоном взять Могилев, но не преуспел.
Мятеж Нечая существенно осложнил стратегическое положение русских войск - коммуникация по Днепру была прервана, под угрозой оказались и коммуникации русской армии в Литве.
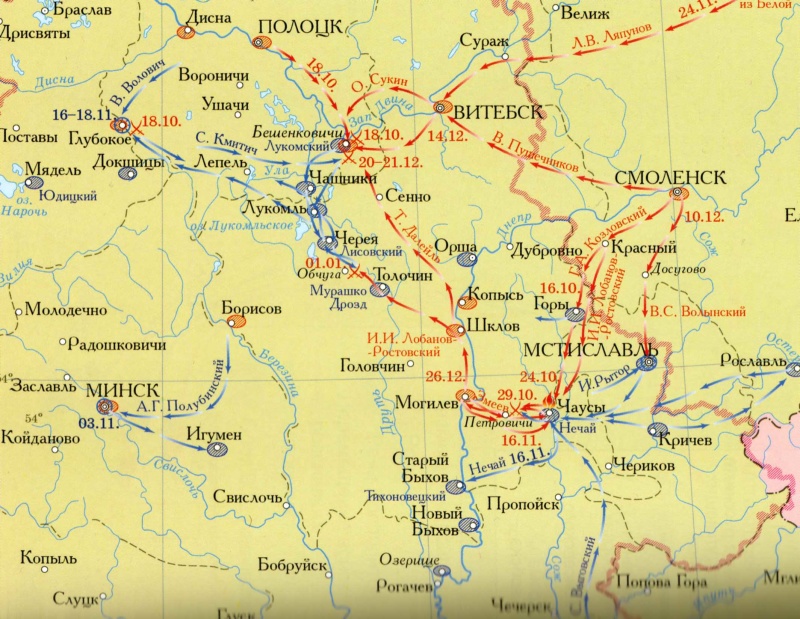
Указом от 21 сентября для борьбы с Нечаем в Могилев был послан полк стольника кн. Григория Афанасьевича Козловского. Козловскому давалось 2 роты московских рейтар, в Смоленске он должен был взять еще 8 рот солдат и местную шляхту и казаков.
1 октября командовать войсками посылаемыми против Нечая был назначен уже кн. И. И. Лобанов-Ростовский, кн. Козловский назначался ему в товарищи. Вместе с Лобановым посылалось 500 жильцов.
16 октября в полк Лобанова-Ростовского были дополнительно назначены дворяне и дети боярские Смоленска, Белой, Ржева, Зубцова, Вязьмы и романовские татары.
К октябрю - ноябрю 1658-го большая часть литовской шляхты вновь сменила ориентацию, вернувшись под власть короля и русские гарнизоны в ВКЛ большей частью оказались в блокаде. На юго-востоке ВКЛ литва действовала в союзе с казаками Нечая. К мятежу примкнула и рославльская шляхта и сам Рославль оказался в руках мятежников. В октябре мятежники взяли штурмом Мстиславль, истребив русский гарнизон. 3 ноября литва (кн. А. Г. Полубинский из армии Сапеги) взяла штурмом Минск. 18 ноября было взято штурмом Глубокое (русский гарнизон отпущен в Полоцк) и т. д.
Русские воеводы с переменным успехом вели боевые действия против мятежников. Так, в декабре 1658 года витебский воевода Н. М. Боборыкин послал против мятежников Витебского уезда присланный ему из Смоленска московский стрелецкий приказ Василия Пушечникова. 20 декабря он был окружен в селе Бешенковичи большими силами литвы (ок. 3 000 чел.) под командованием полковника Самуила Кмитича (хоругви из войска Сапеги и поветовая шляхта). Устроившись обозом стрельцы успешно отбились от литвы, а на следующий день были деблокированы подошедшим отрядом О. Сукина.
Борьба с мятежниками Нечая возлагалась, как уже отмечалось, прежде всего на войско кнн. Лобанова и Козловского. Кн. Г. А. Козловский, не дожидаясь Лобанова, выступил из Смоленска в октябре. Отряд его к этому времени включал 3 роты смоленской шляхты, 5 рот московских выборных солдат, 7 рот смоленских солдат, 130 смоленских донских казаков и 6 полковых пищалей. 16 октября князь был уже в Горах, позднее он соединился с вышедшим против мятежников могилевским воеводой Семеном Змеевым (солдаты из полка Ю. Кита и могилевская присяжная шляхта).
24 октября Козловский и Змеев пришли к Чаусам, где сидел Иван Нечай. Штурмовать город они не решились и встали у Чаусов обозом. К 27 октября Нечай стянул к Чаусам большие подкрепления и воеводы решили отходить к Могилеву. 29 октября Нечай предпринял решительную атаку на переправлявшийся через речку Чернявку русский отряд и... был наголову разбит, потеряв 105 человек пленными, 2 орудия и 6 знамен. Убито было будто бы (по отписке воевод) свыше тысячи «мужиков».
Козловский и Змеев благополучно ушли в Могилев, но уже 16 ноября вернулись к Чаусам. Сразиться с ними мятежники не решились и воеводы выжгли покинутый теми город.
25 ноября под Чаусы из Смоленска пришел кн. И. И. Лобанов-Ростовский и [известный скандалист] Козловский немедленно с ним сцепился, за что был послан на день в могилевскую тюрьму.
До конца года кн. Лобанов-Ростовский успел сходить из Могилева к Лукомлю, где после боя у Бешенковичей стоял С. Кмитич, отогнав полковника дальше на запад.
Борьба с Нечаем в итоге затянулась и продолжалась еще целый год. В марте 1659 года он был разбит под Мстиславлем и укрылся в Старом Быхове. В декабре 1659-го Старый Быхов был взят штурмом войском кн. И. И. Лобанова-Ростовского, полковник со всей местной мятежной старшиной был взят в плен, а контроль русского правительства за соответствующими районами более-менее восстановлен.
* * *
«Кто в море не ходил, тот Богу не маливался». Промысловая колонизация Мурманского берега и Новой Земли крестьянами и монастырями Поморья в XVI - XVIII вв.
Совсем мне не понравилось. Материала вроде бы набрано много, но какой-то ясной картины в общем не создается. Четверть текста историография с источниками. Есть цветные иллюстрации, карт нет. Полиграфия неплохая.
скрытый текстРайоны колонизации и промышленники
скрытый текст
Под Мурманским берегом понимается побережье Кольского полустрова от норвежской границы до мыса Святой Нос. Он располагается в субарктической зоне и входит в тундровую зону, однако благодаря Гольфстриму прибрежные районы берега богаты рыбой - до 150 видов, из которых 20 - промысловые. Из последних основное значение имели треска, пикша, палтус и семга. Рыболовство здесь существовало с древнейших времен, русские рыбные промыслы начали развиваться с XVI века.
Мурманский берег делился на два промысловых района - западный Мурманский конец (от Варангер-фьорда до западного побережья Кольского залива) и восточный Русский конец (от восточного побережья Кольского залива до мыса Святой Нос).
Первые документальные свидетельства существования русских становищ (баз промысловых артелей) на Мурманском конце относятся ко второй половине XVI века. Писцовая книга Кольского уезда 1608 - 1611 годов фиксирует здесь уже 21 становище со 122 избами и 88 скиями (амбарами для хранения соленой рыбы). Большая часть становищ (17 из 21) располагалась на п-ове Рыбачьем, остальные в Мотовском заливе. Число изб в крупнейших становищах доходило до 21, ский - до 13. К крупным становищам (более 5 изб) относилось 9 из 21.
В более поздних документах XVII века встречаются лишь отрывочные сведения о местных промыслах. В таможенных книгах 1703 - 1704 годов упоминаются 14 местных становищ (в т. ч. 7 на п-ове Рыбачьем и 5 в Мотовском заливе). На 1710 год известны 15 становищ (в т. ч. 4 на п-ове Рыбачьем и 11 в Мотовском заливе), на 1760-е годы - 22, на 1796 год - 7.
В целом, в XVI - XVII веках промысловая деятельность концентрировалась в районе п-ова Рыбачий, что было связано с развитием международной торговли, в XVIII веке, с прекращением международной торговли, центр промысловой деятельности смещается ближе к Коле.
Промысловые становища на Русском конце также впервые упоминаются источниками второй половины XVI века. Писцовая книга 1608 - 1611 годов фиксирует здесь 30 становищ (74 избы, 2 скии), но большей частью мелких (только в 4 из 30 имелось по 5 - 6 изб) и рассредоточенных по всему побережью.
Другие сведений за XVII век опять же почти не имеется. В 1706 - 1728 годах в книгах судовых пошлин упоминаются, за вычетом двойных названий, 45 становищ, на 1766 год известны 18, на 1796 год - 26. Характер размещения становищ изменений не претерпел, а общее сокращение их числа к концу XVIII века возможно свидетельствует об упадке промыслов.
Среди северных монастырей первыми собственными промыслами на Мурманском берегу обзавелись местные Троицкий Печенгский и Пречистенский Кандалакшский.
Первое становище Печенгского монастыря упоминается уже в 1556 году. Писцовая книга 1608 - 1611 годов знает уже четыре - три на Рыбачьем и одно на Русском конце. В первой половине XVIII века монастырь владел 4 становищами - двумя на Рыбачьем и двумя на Русском конце.
Кандалакшский монастырь владел становищами с 1590 года, в начале XVII века и в первой половине восемнадцатого столетия также ведя промысел одновременно и на Мурманском и на Русском концах.
Николо-Корельский монастырь хозяйственную деятельность на Мурманском берегу вел со второй половины XVI века, но поначалу ограничивался лишь куплей - продажей рыбы и рыбопродуктов. В XVII веке монастырь начал участвовать в местных промыслах в качестве пайщика холмогорских артелей, а с 1680 года вел промысел самостоятельно (имея, впрочем, обычно лишь одно становище).
Во второй половине 1650-х на Мурманском берегу появился свежеоснованный Крестный Онежский монастырь. Он с ходу получил некие рыбные ловли Антониево-Сийского монастыря в Кольском уезде, затем к нему был приписан Троицкий Печенгский монастырь, а в 1658 году обитель обзавелась уже собственным становищем в районе Териберки (Русский конец).
В 1664/65 промысел на Мурманском берегу начал Соловецкий монастырь, лишившийся ранее части своих промысловых угодий в пользу вышеупомянутого Крестного. В 1665 - 1698/99 годах монастырь получил в виде вкладов ряд становищ на Русском конце, а в XVIII веке вел промысел в основном на Кильдине.
Антониево-Сийский монастырь вел промысел на Русском конце со второй половины XVII века, довольствуясь лишь одним становищем.
Холмогорский архиерейский дом в 1685 году царским указом получил в вотчину Веселкину губу на Русском конце. Помимо самого архиерейского дома здесь вели промысел его приписные монастыри - Спасо-Новоприлуцкий и Михайло-Архангельский. Последний в XVIII веке имел и собственное отдельное становище. К архиерейскому дому в конце XVII века был приписан и Троицкий Печенгский монастырь со всеми его промыслами.
Имеются также сведения об участии в промысле двух небольших северных монастырей - Богословского Сефтренского и Преображенского Пертоминского. Первый еще в начале 1630-х годов упоминается как пайщик промысловой артели, а в 1706 - 1728 годах вел промысел в становище на Русском конце. Второй в 1691 - 1700 годах вел промысел на Русском конце в кооперации с одним из холмогорских промышленников.
О численности и составемурманских промышленников в XVI - XVII веков имеются лишь отрывочные сведения. Ведомости сбора судовых пошлин за 1706 - 1728 годы фиксируют здесь ежегодно от 5 до 158 крестьянских и посадских артелей и от 0 до 7 монастырских и, в общей сложности, от 32 до 328 промысловых судов (128 - 1 312 промышленников, из расчета 4 промышленника на судно). Подавляющее большинство артелей представляли т. н. Поморский берег Белого моря (Кемь, Сумский острог) - 54,2% и Подвинье - 29,2%. Примерно 19% от общего числа артелей участвовали в промысле регулярно, из года в год.
Территориальное распределение промышленников оставалось таким же и позднее - примерно половина промышленников представляла Поморский берег, вместе с жителями Подвинья составляя 80 - 90% промысловиков.
Монастырские промышленники большей частью представляли районы расположения соответствующих монастырей: соловецкие - Поморский берег, николо-корельские и холмогорские архиерейские - Подвинье и т. д.
Определенное участие в промысловой деятельности принимало также русское население Кольского полуострова. [Большая часть полуострова входила в состав Кольского уезда, часть побережья Белого моря - Терский берег, до 1775 года была частью Двинского. На большей части территории региона жили саамы, русское население занимало в это время только Терский и Кандалакшский берега Белого моря и сам город Кола.]
По писцовой книге 1608 - 1611 годов жители Кольского уезда составляли большинство среди владельцев становищ на Мурманском берегу, владея 103 из 155 становищ на Мурманском конце и 21 из 68 - на Русском. Из 124 владельцев 80 были жителями Колы и 35 - Кандалакши. Из 80 кольских владельцев 69 были местными посадскими людьми и девять - стрельцами. Общее число становищ в их собственности, впрочем, было невелико - 11? на Мурманском конце и 8 - на Русском [так в тексте].
К началу XVIII века кольские стрельцы составляли видимо уже большую часть местных промышленников - на 1704 год 92 из 100 кольских судов, промышлявших на Мурманском конце принадлежало местным стрельцам и только 8 - посадским. В том же году на Мурманском конце промышляло и 60 судов крестьян Кандалакшского берега. К концу XVIII века, с ликвидацией местного стрелецкого гарнизона, роль военных в промыслах сошла на нет.
На 1764 год из общего числа жителей уезда (русские волости и посад Колы) в мурманских промыслах участвовало примерно 22% (322 чел. из 1 447 взрослых мужчин и женщин) и 22% дворов (53 из 239). На 1785 год - уже 40% уездных ревизских душ (527 из 1 306), без учета самой Колы.
О возрастном составе промышленников можно судить по реестру выдачи паспортов крестьянам Соловецкого монастыря (1744 - 1757 годы). Большинство (от 48 до 88%) находилось в возрасте 16 - 35 лет, от 1 до 8% промышленников составляли подростки (11 - 15 лет), дети младше 11 лет почти не встречались, мужчины старше 50 лет также встречались редко. Дети и подростки выполняли в основном вспомогательные работы на становищах - распутывал снасти, разделывали рыбу, готовили пищу. Пая своего они не имели и получали вознаграждение либо деньгами (сколько заплатит промышленник), либо в натуральном виде - по рыбине от тюка. Среди организаторов и руководителей промыслов изредка встречались женщины.
Архипелаг Новая Земля располагается в арктической зоне, большей частью покрыт льдом и непригоден для жизни, однако здешние места богаты промысловым зверем - моржом, тюленем, нерпой. Документальные источники фиксируют присутствие здесь русских промышленников со второй половины XVI века. Промысел морского зверя велся в районе острова Южный, севернее промышленники не ходили.
Монастыри в местном промысле участвовали очень скромно. Пинежский Богородицкий Красногорский монастырь вел промысел у Новой земли во второй половине XVII века, отправляя за морским зверем 2 коча в летнее время. В 1701 году один из монастырских кочей разбился, была потеряна вся добыча, понесенные убытки видимо вынудили обитель прекратить новоземельский промысел.
Николо-Корельский монастырь вел промысел у Новой земли в 1690 - 1701 годах, прекратив его по неизвестным причинам (возможно из-за запрета навыход в море из-за начавшейся шведской войны).
Холмогорский архиерейский дом начал промысел здесь лишь в 1694 году, однако уже в 1695 году два из трех кочей дома разбились вместе с добычей, в 1696 году снова разбился один из трех холмогорских кочей, после чего видимо промысел у Новой земли был прекращен.
Определенных сведений о промысловых становищах на Новой Земле не имеется. Численность промышленников участвововавших в новоземельских промыслах неизвестна даже ориентировочно, однако несомненно была много ниже мурманской. О составе новоземельских промышленников в XVI - XVIII веках также полноценных сведений не имеется. Подробные сведения о территориальном происхождении промысловиков имеются лишь для артелей одного из промышленников конца XVIII века (1795, 1797 - 1799). Среди них явно преобладали жители Пинежского, Архангельского и Холмогорского уездов. Так, на 1795 год 48% промышленников представляли Пинежский и 31% - Архангельскийуезды, на 1797 год 24% промышленников представляли Пинежский, 22% Архангельский и 22% Холмогорский уезд и т. д. Монастырские промышленники также в подавляющем большинстве представляли Пинегу и Подвинье.
Инфраструктура промысловой колонизации
скрытый текст
Промысловые становища состояли из жилых и хозяйственных помещений. Жилые включали обычно избу / избы с сенями и поварнями, хозяйственные - скею (амбар для хранения рыбы), сальник - помещение для вытапливания и разливки рыбьего жира, амбары для хранения продуктов, снастей и проч. На части становищ имелись также бани. Монастыри обычно владели становищами единолично, крестьянские / посадские / стрелецкие всегда были в коллективной (паевой) собственности. В межсезонье монастырские становища охранялись нанятыми караульщиками - в основном из местных саамов.
Для промысла на Мурманском берегу использовались небольшие суда - 4-местные карбасы и шнеки. Для доставки припасов на промыслы и вывоза добытой рыбы использовались более крупные суда - лодьи, соймы, кочмары. В 1714 - 1719 годах вышла серия указов требовавших от местных судостроителей строить суда на западный манер и помимо традиционных лодей и пр. здесь появились «новоманерные» яхты, гукоры и донкшоты. Часть местных монастырей (Соловецкий, Кадалакшский Пречистенский) очередную петровскую дурь игнорировала, продолжая пользоваться судами старых типов. Указы 1730 и 1749 годов разрешили местным судостроителям вернуться к строительству прежних типов судов и к концу XVIII века среди крупных судов преобладали те же лодьи и кочмары.
Монастыри и отдельные промышленники имели собственные крупные суда (Соловецкий монстырь в XVIII веке - 8 штук). Промышленники своих крупных судов не имевшие договаривались о доставке припасов, вывозе рыбы и проч. с владельцами таких судов.
К Мурманскому берегу крупные суда обычно ходили два раза в сезон. Первый раз в мае-июне - доставляли на становища припасы и забирали весенний улов. Во второй половине августа - начале сентября они приходили снова - забирали летний улов и самих промышленников.
У монастырей с крупными судами к промыслам ходили монастырские приказчики, осуществлявшие общее руководство и морскими перевозками и промыслами. Приказчики назначались из числа монастырских старцев, монастырских слуг и служебников, архиерейских детей боярских (Холмогорский дом). Приказчики и поверенные могли руководить промыслом и в крестьянских артелях - при отсутствии на промысле хозяина и проч., однако такое случалось нечасто.
К Новой Земле ходили в основном на кочах, одномачтовых парусных судах с округлыми бортами, длиной до 21,3 м и шириной до 6,4 метров. Ближе к концу XVIII века коч видимо вытесняется другими типами судов - лодьей, «новоманерным» гукором и проч. Постоянных становищ на Новой Земле не имелось и все необходимое для промысла бралось с собой. Суда к Новой Земле обычно выходили в мае - июне.
Подготовка к промысловому сезону начиналась с осени - готовились суда, снасти, запасались продукты и соль для засолки рыбы, собирались артели, заключались разнообразные соглашения - о вывозе рыбы и т. д. В монастырях всем этим занимались соответствующие монастырские службы. Снасти, в частности, покупались монастырями у местных производителей.
Промысел велся артелями, хотя сам термин артель в источниках XVI - XVIII века практически не встречается - соответствующий коллектив именовался «промышленниками», «товарищами» или (по району промысла) «мурманщиками» и «новоземельцами».
Артели имелись как малые, соответствующие одной производственной единице (на Мурмане - карбасу), так и большие, включавшие несколько малых. Большие артели могли накануне или во время промысла создавать временные объединения. Так, мурманские артели объединялись в т. н. мойвенные артели для совместного лова мойвы, служившей наживкой для трески и палтуса. В новоземельской практике большие объединения назывались котляной.
Малая мурманская артель обычно состояла из 4 человек: кормщика-руководителя, тяглеца (отвечал за метание и вытягивание основной рыболовной снасти - яруса), весельщика (греб веслами во время забрасывания снасти) и наживотчика (наживлял крюки наживкой и снимал с них пойманную рыбу). К ним добавлялись упомянутые выше мальчики-зуйки, выполнявшие вспомогательные обязанности.
Малая новоземельская артель включала гарпунщика (обычно организатор артели или назначенное им лицо), носошников (помощников гарпунщика), забочешников (следили за ремнями которыми крепился гарпун и привязанными к ним поплавками-бочешками), кормщика и его помощников - полукормщика и полууженика.
Руководителем артели всегда был кормщик (иногда называвшийся карбасником), рядовые промышленники именовались обычно покручениками или «товарищами». У них имелась своя иерархия отражавшаяся и на размере пая: тяглец - весельщик - наживотчик.
В больших мурманских артелях на конец XVIII века обычно имелось не более 20 промышленников. Так, на 1796 год 48% артелей включали до 10, а 38% - до 20 промышленников. Из числа монастырских наиболее крупными были соловецкие - во второй половине XVII века монастырь отправлял на весенний лов от 16 до 32 промышленников, а в XVIII веке - по 16 - 24.
Новоземельские артели были крупнее, обычно включая более 10 промышленников на одном судне. Численность больших артелей могла доходить до полусотни человек. Так, поверенный Выгорецкого старообрядческого общежития С. А. Пушко в 1797 году отправил на промысел 49 промышленников на трех судах, Холмогорский дом в 1696 году послал на промысел 45 промышленников и т. д.
По форме организации артели могли быть единоличными (с одним хозяином-организатором) и складническими (несколько хозяев на паях). Помимо этого имелись артели организованные несколькими отдельными промышленниками, на равных участвовавшими в промысле своим трудом и средствами производства (судами и снастями). Артели такого типа встречались в основном у жителей Колы. Для новоземельских артелей характерно было присутствие в составе коллектива уженника - пайщика, лично участвовавшего в промысле.
Единоличные и складнические артели комплектовались в основном вольным наймом. Соловецкий и Крестный Онежский монастырь использовали также свои вотчинные ресурсы понуждая крестьян выставлять («избирать») промышленников из своей среды. «Избранные», впрочем, могли и отказаться идти на промысел, но обязаны были предложить вместо себя другие кандидатуры. Договорные отношения в крестьянских артелях оформлялись в основном устно, у монастырей - в письменной форме.
Расчет с артелью происходил по окончании промысла. Принцип распределения доходов был видимо общим для крестьянских и монастырских артелей - организатор получал 2/3, артель - 1/3 дохода. Внутри артели доход распределялся в зависимости от статуса ее конкретного члена. Этот основной доход промышленника именовался обычно покрутом или паем.
Помимо этого промышленники получали другие выплаты, известные в основном по документам местных монастырей. Так, перед началом промысла (а при необходимости - и во время) кормщику и покрученикам давались беспроцентные ссуды (в натуральном или денежном виде) и задатки, вычитавшиеся из их дохода по окончании сезона.
Еще одной распространенной выплатой являлся свершонок. В большинстве случаев он выдавался только кормщикам, в одних случаях - после окончания промысла, в качестве дополнительного вознаграждения, в других - перед выходом на промысел (Соловецкий и Крестный Онежский монастыри). Монастыри Поморья и Холмогорский дом свершонок выдавали перед промыслом и кормщику и покрученикам - в качестве оплаты дорожных расходов. При любом варианте выплаты свершонок являлся безвозмездной наградой и возврату не подлежал.
Соловецкий и Крестный Онежский монастыри практиковали также выплату кормщикам полового (половинного покрута) - в конце промыслового сезона.
Практиковались также разовые безвозмездные выплаты для поощрения кормщиков или всей артели - поискание и потешение (встречаются в документах Николо-Корельского и Крестного Онежского монастырей). Они могли выдаваться как перед промыслом, так и после.
Во второй половине XVII века кормщики мурманских монастырских промыслов получали от 1 до 3 рублей свершонка, покрученики (Холмогорский дом и Николо-Корельский монастырь) - от 0,6 до 0,75 руб, в первой половине XVIII века - от 1,5 до 3 руб. и от 0,7 до 1,2 руб. соответственно. Во второй половине XVIII века промысел на Мурмане сохранялся только у Соловецкого монастыря, платившего своим кормщикам к концу столетия уже по 5 рублей свершонка.
Размер ссуд выдаваемых промышленникам был невелик. Николо-Корельский монастырь в конце XVII века давал кормщикам от 0,3 до 1,5 руб., покрученикам - от 0,2 до 0,6 руб. Холмогорский дом в конце XVII века давал кормщикам 0,4 - 0,5 руб., покрученикам - от 0,15 до 0,39 руб., в середине XVIII века - до 4 и 2 руб. соответственно.
Соловецкий монастырь в 1670 - 1690-х годах давал покрученикам ссуды в размере 1 руб., в 1754 - 1756 годах задатков кормщикам - по 4 руб., покрученикам - по 3,5 руб., в 1761 - 1763 годах, и тем, и другим - по 5 руб.
В крестьянских мурманских артелях также практиковалась выплата свершонка кормщику - к концу XVIII века до 3 - 5 рублей «смотря по старанию» (и видимо в конце сезона). Кормщики могли получать также и половое.
Поискание / потешение, нерегулярно выплачиваемое кормщикам Крестным Онежским монастырем, на 1671 год составляло всего 0,4 руб., на 1672 год - 0,10 руб.
Новоземельские монастырские артели получали перед выходом на промысел безвозмездные дачи на обувь (небольшие - от 0,03 до 0,75 руб.) и возмездные ссуды (размер которых неизвестен).
Основной доход, как уже отмечалось, обычно делился между хозяином и артелью в пропорции примерно 2 к 1. При сохранении общего принципа на практике могли применяться разные схемы разделения доходов.
Так, в крестьянских артелях Поморского и Карельского берега на 1743 год весенний улов делился пополам между хозяином и артелью, 3/4 летнего шло хозяину и 1/4 - артели (в целом хозяин получал 1,25, а артель 0,75 общего дохода). Каждый член артели получал равную долю основного дохода, однако кормщику дополнительно выплачивались свершонок и половое. В артели Алексея Елизарова (1743 год) при применении описанной схемы каждый промышленник получил по 14,5 руб. (11,5 руб. из весеннего и 3,5 руб. из летнего улова), а кормщик - 20? руб. (14,5 + 3,5 полового и 2,5 свершонка). Аналогичную схему оплаты применял в первой половине XVIII века Соловецкий монастырь. В новоземельских артелях использовалась сложная схема распределения дохода по паям.
Размер общих доходов крестьянских артелей неизвестен.
Артели Соловецкого монастыря в последней трети XVII века ежегодно получали от 19,27 до 286,5 руб. дохода, в первой половине XVIII века - от 200 до 1 032 руб., во второй - от 305 до 2 096 руб. Для XVIII века известно и соотношение доходов монастыря и артели, в разные годы оно составляло от 59 до 67% (монастырь) и от 33 до 41% (артель).
Известны также и доходы промышленников монастыря в XVIII веке. В 1710 - 1717 годах покрученик получал от 4,45 до примерно 8,64 руб., кормщик - от примерно 5,66 до примерно 10,45 руб. (покрут + половое, свершонок не учтен). В 1746 - 1793 годах покрученик получал от 7,29 до примерно 43 руб., кормщик - от примерно 13,3 до примерно 69,17 руб. (покрут + половое + от 2 до 5 руб. свершонка). В среднем, доход покрученика составлял в это время примерно 60% дохода кормщика.
В Крестном Онежском монастыре в 1660 - 1686 годах доход артели (после вычетов в пользу монастыря) колебался от 2,93 до 75,4 руб., доход кормщика - от 0,29 до 9,43 руб, покрученика - от 3,5 копеек до 3,14 руб.
Артели Холмогорского дома в 1716 году получили дохода на 43,6 руб. Покрученики (только за весенний сезон) получили почти 0,94 руб., кормщики - почти по 2,37 руб. (т. е. примерно в 1,5 раза больше). В 1750 году артель дома получила 111,4 руб. общего дохода, кормщики - по 1,18 руб., покрученики - по 0,59 руб.
Артель Николо-Корельского монастыря на 1681 год получила доход в 18,08 руб., на 1683 год - 44,49 руб. Кормщики монастыря в 1680 - 1696 годах получали от 2,25 до 9 руб., покрученики - от 1,5 до 2,5 руб., на 1697 год, соответственно, 4,22 руб. и 1,69 руб.
Новоземельская артель Красногорского монастыря в 1668 году получила доход в 90,65 руб., кормщик - 2,8 руб., покрученики - от 0,88 до 0,96 руб. На 1681 год общий доход артели составил 75,18 руб., на 1682 год - 116,02 руб.
Новоземельский промысел был, в целом, более доходным, но более рискованным и требовавшим больших вложений. Доход новоземельских покручеников мало отличался от дохода мурманских, доход кормщиков был существенно выше (на 1682 год - в 7-13 раз). Еще более доходным он (на бумаге) был для уженников - пайщиков, непосредственно участвовавших в промысле. Однако последние, как отмечается, сами вкладывались в предприятие и окупал ли получаемый доход понесенные ими затраты неизвестно.
Технология промысла и объемы добычи
скрытый текст
На Мурманском береге, как уже отмечалось промысел вели на небольших 4-местных судах - карбасах и шнеках. Промысловую рыбу ловили с помощью яруса - веревочной снасти с крюками, с насаженной на них наживкой. Ярус удерживался на поверхности поплавками-кубусами, крепясь ко дну якорями, ставился на несколько часов, после чего вытягивался назад на судно. В качестве наживки использовалась в основном мойва. Последнюю ловили обычно большим неводом сразу с нескольких карбасов, что часто требовало кооперации нескольких артелей. Невод имелся не во всех артелях, не имевшие своего невода артели платили владельцам за его использование.
Выловленная рыба разделывалась и обрабатывалась на берегу - отделялись головы, вынимались внутренности - без удаления хребтины. Добытую весной до Николина дня (9 мая) треску сушили на ветру. После Николина дня сушили только мелкую треску, а крупную засаливали. Засолка производилась традиционным способом, сохранявшимся до XX века - рыбу раскладывали на полу амбара и посыпали солью, затем вывозимую лодьей рыбу снова солили уже разложив на полу трюма, после прибытия на место ее солили в третий раз. Качество такой засолки по отзывам авторов XIX - XX веков оставляло желать и сильно уступало засолке в бочках. Во второй половине XVIII века иногда использовались и более продвинутые методы засолки (в бочках и с удалением хребтины) - обычно для рыбы предназначавшейся для неких значимых лиц.
Тресковые головы сушились и в дальнейшем также шли на продажу. Из печени трески вытапливался жир, разливавшийся затем по бочкам. Тресковые языки солились в бочках, вязигу сушили.
Разделкой и обработкой рыбы занимались сами члены артели.
Сведения об объемах добычи сохранились лишь для монастырей. Выловленную рыбу до начала XVIII века считали поштучно, позднее ее стали взвешивать и учитывать в весовых категориях, однако параллельно сохранялся и поштучный учет. Мелкую рыбу, солимую промышленниками на свой обиход или для монастыря, иногда считали и бочками.
Сушеную, вяленую рыбу и тресовые головы могли считать связками, пучками, кулями, тюками и проч. Тресковое сало, визига и проч. считались пудами и фунтами (сало могло также считаться емкостями - бочками и проч.).
В качестве промысловых пород рассматривались треска, палтус и пикша. Последняя вылавливалась в незначительном количестве. Соотношение улова трески и палтуса многократно и резко менялось, что имеющимися источниками никак не объясняется.
Соловецкий монастырь в 1710 - 1793 годах, по неполным данным, получал от 415,3 до 4 933,4 пудов (6,8 - 80,8 тонн) рыбы и рыбопродуктов (головы, сало, визига и проч.) в год, в т. ч. трески - от 265 до 3 733 пудов, палтуса - от 82 до 1978,3 пудов. Пикши вылавливалось не более 100 пудов, трескового сала получалось не более 254 пудов, вязиги - не более 3,3 пудов.
Крестный Онежский монастырь в 1660 - 1755 годах, по неполным данным, получал от 79 до 1 753 пудов (1,3 - 28,7 тонн) рыбы и рыбопродуктов в год, в т. ч. трески - от 3 до 1 044 пудов, палтуса - от 8,5 до 1 025 пудов. Пикши вылавливалось не более 32 пудов, трескового сала получалось не более 109 пудов.
Николо-Корельский монастырь в 1683 - 1753 годах, по неполным данным, получал от 327 до 1 198,1 пудов (5,4 - 19,5 тонн) рыбы и рыбопродуктов в год, в т. ч. трески - от 115 до 1 100 пудов, палтуса - от 29 до 688 пудов (в обоих случаях - без сушеной рыбы, которой, впрочем, больше 105 пудов в год никогда не делали). Пикши вылавливалось не более 55 пудов, тресковых голов получалось не более 16 пудов, трескового сала - не более 50 пудов, вязиги - не более 2,3 пудов.
Холмогорский дом в 1691 - 1696 годах получал от 700 до 1 568,2 пудов (11,5 - 25,7 тонн) рыбы, в т. ч. от 168,39 до 432,19 пудов трески и от 350 до 1 103,1 пуда палтуса. В 1750 - 1757 годах он получал от 434 до 1 742 пудов (7,1 - 28,5 тонн) рыбы и рыбопродуктов, в т. ч. от 304 до 1 509 пудов трески (не считая сушеной) и от 98 до 193 пудов палтуса. Пикши ловили не более 10 пудов, голов тресковых получали не более 8 пудов, вязиги - не более 5 пудов и трескового сала - не более 54,3 пудов.
Сведений о крестьянских промыслах сохранилось очень мало однако общие объемы добычи крестьянских артелей предположительно намного превосходили монастырские. Так, в 1727 году артель одного промышленника Сумского острога Андрея Елизарова добыла 645,2 пудов (10,6 тонн) рыбы - Николо-Корельский монастырь в том же году добыл, например, 750,2 пуда. В 1753 году на судне того же Николо-Корельского монастыря помимо его собственной рыбы (939,2 пуда) вывозилась добыча 11 кладчиков (покручеников, договорившихся с монастырем о вывозе рыбы) - 566,34 пуда (от 2 до 77 пудов на каждого). По (неполным) сведениям архангельской таможни в 1730 - начале 1740-х монастыри и Холмогорский дом поставляли лишь от 1 до 4% рыбы реализуемой на рынке Архангельска - остальное приходилось на крестьянские артели.
Для значительной части крестьян Поморья рыбный промысел был основой благосостояния. У монастырей большая часть рыбы шла на внутренние нужды и меньшая - на продажу. Так, Крестный Онежский монастырь в 1697 - 1749 годах в течении года расходовал от 41 до 99% получаемой рыбы. Большая часть рыбы (от 29 до 78%) раздавалась по службам монастыря (монастырские села, мельницы, усолье и проч.), на содержание братии и работников тратилось не более 12%, на раздачи и подношения - не более 11%. На продажу шло от 9 до 49% рыбы.
В Николо-Корельском монастыре в 1735 - 1737 годах на содержание служб шло 20 - 32% рыбы, братии и работникам - 21%, на раздачи и подношения 4 - 5% (сведений о продаже нет).
На Новой Земле добывали моржей, тюленей, нерп, белух. В воде зверя били гарпуном, на суше и на льду спицами (тонкими пиками) или из винтовок. Белух загоняли в заливы и узости и ловили крупным неводом. Артели приходили к Новой Земле в кочах, но промысел вели с тех же карбасов (к месту промысла они шли на буксире за крупными судами). Постоянных становищ здесь видимо не было, однако какие-то временные все же устраивались.
Туши убитых животных сваливали в кучу, разбирая и частично обрабатывая в конце промысла. С них сдирали шкуры, выдирали бивни, снимали жир - последний, не обрабатывая, набивали в бочки (вытопка сала производилась после возвращения домой). При богатой добыче часть ее оставлялась на месте боя и брошенное могли беспрепятственно забирать другие промышленники.
Об объемах новоземельского промысла известно мало. По данным Архангельской таможни в 1768 - 1785 годах только в Амстердам, Гамбург, Бремен и Брест было вывезено 4 814 моржовых кож и 641 пуд 39 фунтов моржовой кости (без учета вывезенной в 1782 - 1783 годах - посчитана в штуках (2 364), без указания веса).
Промысловая колонизация и государство
скрытый текст
На Мурманском берегу уже к концу XVI века существовала налаженная система сбора пошлин. С приходивших на промысел промышленников брались явочные деньги - 2 деньги с человека, к 1608 году - уже по 4 деньги. С рыболовных судов бралась судовая пошлина - по 1 алтыну (поначалу только на Мурманском конце), к 1608 году - по 2 алтына (по всему берегу), с добытых рыбы и сала - десятое (1/10 часть добычи).
Сбором пошлин занималась таможня Колы, имевшая ряд местных отделений, присудов, по всему берегу - к началу XVII века известны 5 присудов (три на Мурманском и два на Русском концах). Присуды размещались в становищах. Таможенные целовальники набирались из посада Колы.
К концу XVII века с промышленников брали уже по 1 алтыну 4 деньги за явку и 6 алтын 4 деньги судовой пошлины, однако неясно было ли это официальной практикой или самодеятельностью местных воевод.
Помимо явки, судовой пошлины и десятого промышленники платили писчее таможенникам - за оформление выписок об уплате пошлин.
Разнообразным официальным лицам в почесть давались также разнообразные «подарки». По книгам Крестного Онежского монастыря на 1673 - 1675 год размер почести колебался от 13 алтынов 4 денег до 1 рубля 3 денег. В 1709 году таможенному сборщику в чине капитана было дано в почесть 3 пуда соли, в 1712 году - 2,5 пуда соли и т. д.
В XVIII веке с промышленников продолжали брать явочные деньги (на 1711 и 1719 годы по 2 деньги), судовую пошлину и десятое, а также некую порублевую пошлину [рублевую? вместо десятого? неясно].
Промышленники выходившие на промысел из Колы дополнительно платили судовой оброк - 1 алтын.
Новоземельские промышленники платили только десятое - по возвращении с промысла, в таможнях Холмогор, Усть-Пинеги и Мезени. Промышленники выходившие из Пустозерска платили еще и явку - 2 деньги.
Занимавшиеся промыслом монастыри большей частью имели налоговые привилегии, сводившиеся в основном к освобождению от уплаты десятого.
Троицкий Печенгский монастырь в 1591 году был освобожден от уплаты десятого с добываемой морской, речной и озерной рыбы. Грамота 1606 года дополнительно освобождала его от уплаты десятого с трескового и китового сала. Прежние пожалования были подтверждены грамотой 1675 года.
Пречистенский Кандалакшский монастырь также был освобожден от уплаты десятого (грамоты 1615 и 1624 годов, неоднократно подтверждавшиеся вплоть до 1684 года).
Соловецкий монастырь грамотами 1540/41 и 1620/21 годов был освобожден от уплаты десятого с добытых семги и ворвани, а грамотой 1666 года - и с остальных рыбных промыслов (трески, палтуса и трескового сала).
Антониево-Сийский монастырь был освобожден от уплаты десятого грамотами 1671, 1678, 1682 годов и 1684 годов.
Николо-Корельский монастырь аналогичную привилегию получил вероятно в 1678 году (подтвержена в 1681), а Спасо-Прилуцкий и Михайло-Архангельский - в 1681 - 1682 годах.
Крестный Онежский монастырь был освобожден от уплаты десятого грамотами 1680 и 1684 годов.
Объемы необлагаемого десятым промысла теоретически ограничивались. Так, самый маленький Спасо-Прилуцкий монастырь мог беспошлинно добывать по 870 пудов в год (330 пудов трески, 525 палтуса и 15 рыбьего сала), а крупнейшие Соловецкий монастырь и Холмогорский дом по 5 200 (5000 пудов трески и палтуса и 200 пудов сала) и 5 400 (3850 + 1300 + 250) пудов соответственно. [Однако эти квоты вероятно с лихвой покрывали весь монастырский промысел.]
Помимо освобождения от десятого монастыри и Холмогорский дом имели ряд других льгот.
Красногорский монастырь, отправлявший артели на Новую Землю, в 1653 году также добился освобождения от уплаты десятого в Архангельске и Мезени (грамота подтверждена в 1684 году).
В 1704 году местные промыслы оказались затронуты петровской секуляризацией. По инициативе холмогорского архиерейского сына боярского Михаила Окулова промыслы Холмогорского дома, Троицкого Печенгского и Пречистенского Кандалакшского монастырей были фактически отписаны на государя и переданы в управление самому Окулову и присланному в Колу стольнику П. А. Кондыреву.
Образовавшиеся таким образом государевы промыслы в 1705 году выслали в море 29 судов со 120 промышленниками, добыв более 2 000 пудов (52 930 штук) трески и 229 пудов трескового сала. Добыча оказалась значительно меньше чем обещал Окулов (в своем проекте расписывавший радужные перспективы подобных промыслов), возникли и другие проблемы и уже в марте 1706 года Окулов и Кондырев были отстранены от дела и попали под следствие. [О дальнейшей судьбе этих промыслов автор ничего не пишет, если судить по приводимым им в других местах сведениям, по крайней мере Холмогорский дом свои промыслы себе вскоре вернул].
Повседневная жизнь промышленников
скрытый текст
В крестьянских артелях устный сговор о найме промышленника закреплялся выдачей небольшой денежной суммы - запивного. Для отправлявашейся на промысел артели и частными хозяевами и монастырями устаивалось щедрое застолье, артельщикам давались подарки (сукно на вачаги - рабочие руковицы, хлеб и пр.).
Для выхода на промысел [в XVIII веке?] требовалось разрешение общины - отпускное (прокормежное) письмо, служившее основанием для получения паспорта.
На весенний промысел артели шли сухопутным путем, на лыжах и с небольшими санями-кережами, запрягавшимися собаками или самими промышленниками. Монастырские артели часть пути могли преодолевать на нанимаемых для них подводах (стоимость найма затем вычиталась из добычи). В путь артели выходили в феврале-марте и шли через Кандалакшу в Колу или на Русский конец [каким образом на Мурманский берег попадали промысловые суда и где они находились между промыслами автор не указывает.]
Работники летнего промысла видимо прибывали морем, вместе с приходившими в мае - июне лодьями / крупнотоннажными судами, забиравшими весенний улов. Новоземельские артели шли на промысел морем.
Промысловый сезон продолжался примерно 4,5 месяца. Артель на промысле (в идеале) практически беспрерывно работала на суше и на море, изредка отдыхая по церковным праздникам и в случае совсем уж скверной погоды. Так, артель Соловецкого монастыря в 1761 году была на промысле 139 дней (11 апреля - 29 августа) из которых на море работала 48 дней, на суше - 62, на суше и на море - 22, нерабочих дней - 8. В 1763 году та же артель была на промысле 137 дней (15 апреля - 29 августа), на море - 45, на суше - 78, на море и на суше - 13, нерабочий - 1 [так у автора].
Каждая соловецкая шнека на промысле в 1763 - 1791 годах выходила в море от 5 до 22 раз за сезон. Один выход в море мог занимать 18 - 36 часов.
Основу питания промышленников составляли ржаной хлеб, крупы, рыба и квас. Ржаной муки за сезон расходовалось по 10 - 14 пудов на человека. Овощи использовались редко (репа, капуста). Алкоголь был формально запрещен и в монастырских, и в крестьянских артелях, однако фактически эти запреты не соблюдались и промышленники нередко прилично закладывали, что приводило ко всяким безобразиям, а иногда и к срыву промысла.
* * *
Северский поход и осада Чернигова. Боевые действия на юго-западном порубежье Московского государства и Речи Посполитой в период Смоленской войны (1632-34 гг.)
Книжка полезная, но очень уж сумбурная.
скрытый текстПеред походом

В соответствии с условиями Деулинского перемирия 1618 года северские города (Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб и проч.) остались за Речью Посполитой.
Значительную часть русских войск действовавших на северском направлении составили дети боярские этих «отдаточных» городов. Численность крупнейших местных корпораций на 1617 год была следующей. По Новгороду-Северскому служило 85 человек, по Стародубу - 116. Черниговские дети боярские к этому времени, видимо из-за разорения города поляками в 1611 году, служили уже по Путивлю (124 человека) и Новгороду-Северскому (36 человек).
После Деулинского перемирия большая часть корпораций отданных полякам городов ушла в Россию. Дети боярские Новгорода-Северского были переведены в Рыльск, Чернигова - в Путивль (где и так уже служили), Почепа и смоленского Рославля - в Брянск. В Брянск же, видимо, перевели и стародубцев.
В 1621 году 222 стародубца и рославца были переведены далеко на восток - в Алатырь, а некоторое число - в Карачев.
На 1623 год по Брянску служило 29 стародубцев, 62 почепца и 75 рославцев, по Рыльску - 91? черниговец, по Путивлю - 152 черниговца. Сведений о детях боярских Новгорода-Северского нет.
Часть детей боярских «отдаточных» городов осталась на старом месте и служила польскому королю. Более всего таковых имелось в Стародубе - 44 человека, в Почепе осталось около 10 чел., несколько человек осталось видимо в Рославле, черниговские и новгородские дети боярские ушли в Россию видимо практически в полном составе. В Трубчевске имелся т. н. «двор» князей Трубецких - беглого изменника кн. Ю. Н. Трубецкого* и его сыновей, всего ок. 25 детей боярских.
В ходе Смоленской войны русское правительство пыталось отвоевать потерянные в Смуту земли, включая и северские города. Руководить походом в Северскую землю назначены были Федор Кириллович Плещеев-Смердов** и Баим Болтин.
По росписи с ними было назначено служить 1 065 человек детей боярских Чернигова, Брянска, Карачева, Болхова, Рыльска, Рославля, Стародуба, Почепа, а также казаков и атаманов из Новгорода-Северского, Рыльска и Путивля (последних - 157 человек). В большинстве случаев видимо на службу с воеводами посылалась половина соответствующей корпорации, другая половина оставлялась на месте.
Автор приводит таблички с росписью детей боярских и казаков по воеводским полкам. С Плещеевым должны были служить дети боярские Болхова - 154 чел., Рыльска - 142, Путивля - 142, Чернигова - 123, Карачева - 92, Брянска - 72, Почепа - 21, Стародуба - 17, всего 763 человека.
С Болтиным - дети боярские Чернигова - 123 человека, Рославля - 42, Стародуба - 18, казаков и атаманов Новгорода-Северского, Рыльска и Путивля - 157, всего - 363 человека.
[В табличках смущают черниговцы, расписанные по обоим полкам в равном числе и посчитанные и там и там. В тексте это никак не поясняется.]
Боеспособность этих детей боярских отчасти можно оценить по приводимым автором результатам смотра служилых городов Болхова и Карачева (14 октября 1632 года).
Болховичей на смотре присутствовало 148 (по росписи назначено 154) - 14 выборных, 35 дворовых, 84 городовых, 15 новиков 131 (1631/32) года. Отсутствовало трое (двое умерло, один болен).
Из 148 присутствовавших «на коне с саадаком и саблей» явилось 95 человек, «на коне с пищалью и саблей» - 47 человек, прочих - 6 человек («на коне с саадаком» - 1, «на коне с рогатиной и саблей» - 2, «на мерине с саадаком и саблей» - 1, «на мерине с пищалью и саблей» - 2).
«Людей боярских» за болховичами было 54 человека. Из них «на мерине с простым конем» - 43 человека, «на коне с простым конем» - 1, с каким либо вооружением - 10 («на коне с пищалью и саблей» - 1, «на мерине с пищалью и саблей» - 1, «на коне с саблей» - 1, «на коне с пищалью» - 7).
Карачевцев явилось 82 человека (по росписи - 92) - 13 выборных, 21 дворовый, 38 городовых, 10 новиков. Отсутствовало 5 человек (трое умерли, один убит татарами под Ельцом, один служил стрелецким головой).
Из 82 присутствовавших «на коне с саадаком и саблей» явился 61 человек, «на коне с пищалью и саблей» - 19 человек, прочих - 2 человека (оба «на мерине с саадаком и саблей»).
«Людей боярских» имелось 43 человека. Из них «на мерине с простым конем» было всего 10 человек (+ 1 «на коне с простым конем»), а остальные тридцать два были вооружены - 11 «на коне с пищалью и саблей», 4 «на коне с саадаком и саблей», 5 «на мерине с пищалью и саблей», 7 «на коне с пищалью», 4 «на мерине с пищалью» (плюс один «на мерине с пищалью, с простым конем»).
Таким образом, большая часть и болховичей и карачевцев продолжала выходить на службу в классическом виде - лук + сабля. Полноценных боевых холопов у болховичей практически не было, а у карачевцев, наоборот, было, для провинциальной корпорации, достаточно много.
Уже осенью (10 ноября?) 1632-го Плещееву и Болтину дополнительно придали 100 севских и рыльских стрельцов и предписали набрать на месте, в Рыльске, Путивле и Комарицкой волости, 500 охочих людей-казаков, пообещав им жалованье в 4 рубля.
К 24? ноября 1632 года отряд Плещеева и Болтина включал 927 дворян и детей боярских (171 рылянин, 154 болховича, 146 путивлян, 131 черниговец, 92 карачевца, 88 северских новгородцев, 64 брянчанина, 40 рославцев, 25 почепцев, 19 стародубцев), 400 московских, путивльских и черниговских стрельцов и казаков и 109 новгород-северских и рыльских казаков и атаманов, всего 1 556 человек. [Судя по числу болховичей и карачевцев численность списочная, а не фактическая].
Из Москвы Плещеев и Болтин выехали 15 августа 1632 года, 10 сентября прибыв в Севск, где и должны были собирать войска. Отношения с севским воеводой Михаилом Еропкиным у Плещеева и Болтина, мягко говоря, не сложились и последний гадил им чем мог.
Сбор войск сопровождался традиционными проблемами - собиравшиеся дети боярские грабили население и т. д. На границе почти сразу же развернулась традиционная малая война. Несмотря на заявленное намерение правительства привлечь на свою сторону русское население Северщины русские служилые люди принялись ходить в грабительские рейды за кордон, население северских земель отвечало им тем же.
10 ноября 1632-го Плещеев и Болтин получили указ: «...смотря по вестем и по людем и собрався со всеми ратными людьми идти к Нову городку Северскому». 24 ноября войска выступили было в поход, однако он едва не был прерван внезапной кончиной Федора Плещеева. 27 ноября на его место был назначен Иван Еропкин (брат севского воеводы), срочно высланный из Москвы.
Силы и укрепления противника к началу войны выглядели следующим образом.
В Новгороде-Северском имелся скверный деревянный острог (без обламов, полноценных башен и проч.) с довольно приличным нарядом - 20? медных пушек (12 медных литых, 7 фальконетов, 1 4-фунтовая «полуторная медная сороковая») и 15 затинных пищалей (5 медных и 12 железных). Людей имелось ок. 280 чел. (50 чел. шляхты, ок. 100 пахоликов, 90 казаков, 40 гайдуков) + 150 мещан (русских посадских - ок. 50, литовских мещан - ок. 100) и 60 - 100 черкас [последние видимо тоже были служилыми людьми, хотя из текста это и не ясно].
В Стародубе имелось ок. 100 чел. шляхты и пахоликов, 44 стародубских сына боярских, 10 почепских детей боярских, 50 казаков, 130 гайдуков, всего примерно 384 человека + 180 литовских мещан и будников (работников селитрянных, поташных и пр. «заводов») и 200 русских посадских людей. Наряд крепости включал 7 медных орудий (2-пудовая проломная пушка, 6-фунтовая полуторная пищаль, 5 1-фунтовых полковых пушек) и 13 железных затинных пищалей «в ложах».
В Трубчевске имелась деревянная крепость с тремя башнями и нарядом в 1 пушку (полуфунтовый железный фальконет), 4 затинными пищалями и неким «большим мушкетом».
Людей имелось около сотни (91 - 96 чел. - 33 чел. поляков и литвы и некий венгр, 14 пахоликов, 28 людей Трубецких, 15 - 20 казаков) + 84 мещанина (55 русских посадских и 29 - литвы).
В Почепе имелся недоделанный деревянный острог без наряда, с гарнизоном примерно в 30 казаков. Мещан в городе жило, по разным сведениям, от 30 (20 русских посадских и 10 литовских мещан) до 180 (те же + 150 «белорусцев», бежавших при подходе русских войск). Почепские дети боярские к началу войны были в Стародубе.
Сведений о Чернигове не имеется.
[* Князь Юрий Никитич Трубецкой, стольник царей Федора и Бориса, Лжедмитрия и Василия Шуйского, в 1608 году по подозрению в измене был сослан в Тотьму, бежал к Вору, от которого получил чин боярина, позднее служил Сигизмунду. В 1611 году выехал в Польшу вместе с тестем М. Г. Салтыковым, перешел в католичество. В 1621 году получил от Сигизмунда во владение Трубчевск и прежние родовые земли Трубецких в уезде. После смерти Ю. Н. Трубецкого (1634) ими владели его сыновья Александр и Петр. Сын последнего, Юрий Петрович, в 1657 году вернулся на русскую службу, от него пошли все поздние русские Трубецкие.]
** О Плещееве см. здесь - https://ericmackay.dreamwidth.org/306785.html
Северский поход
Не дожидаясь прибытия нового первого воеводы (Иван Еропкин доехал до войска только 22 декабря) Баим Болтин двинулся к Новгороду-Северскому, выйдя к городу в последних числах ноября. После затяжного боя на посаде гарнизон был оттеснен в крепость, сам посад в результате боя выгорел. 30? ноября был взят штурмом католический костел [видимо находившийся вне городских стен], защищавшийся сотней черкас с 2 затинными пищалями.
Артиллерии Болтин, судя по всему, не имел и пытался взять город осадой, устроив вокруг него острожки. У Москвы была запрошена осадная артиллерия - проломная пищаль и верховые пушки. 18 декабря из столицы Болтину были высланы 2 мортиры с 4 пушкарями и 80 ядрами, однако до взятия города они прибыть не успели.
Видя неуспех осады (отнять воду у осажденных не удалось, они часто ходили на вылазки и проч.) и получая постоянные предупреждения о возможном подходе подкреплений к врагу Болтин решился на штурм города. 20 декабря на совете «со всеми ратными людьми» было принято решение взять Новгород-Северский приступом. Вечером 21 декабря войска пошли «приступом со все стороны» и после длившегося до полуночи боя овладели городом. Почти весь гарнизон, вместе с урядником Яном Кунинским и прочими «знатными поляками», попал в плен. Всего в Москву было отправлено 405 пленных - 74? шляхтича и 331 пахолик, гайдук, казак и черкас.
Подожженная в ходе боя крепость полностью выгорела, наряд, по одной версии, сняли с башен, по другой - он, вместе с пороховым погребом, сгорел. На пепелище Болтин 28 декабря устроил острог с нарядом (полуторная пушка, 5 фальконетов и 5 затинных пищалей [- надо полагать, трофейные, т. е. наряд если и погорел, то не весь]).
22 декабря в Новгород-Северский прибыл первый воевода Иван Еропкин, немедленно сцепившийся с Болтиным. Оба воеводы с этого времени были в ссоре и фактически действовали раздельно.
Помимо основных сил Болтина на Северщине действовали и другие русские отряды.
14 ноября 1632-го из Брянска к Почепу и Стародубу вышел второй воевода Брянска Никита Оладьин. Небольшой отряд воеводы включал 3 сборных дворянских сотни (135 дворян и детей боярских Брянска, Стародуба, Почепа и Рославля), 200 брянских, стародубских и рославльских стрельцов, 100 стрельцов брянского приказа Опая Анбаева и 100 московских стрельцов, всего 536 человек. [Численность, надо полагать, тоже списочная]. В самом Брянске с первым воеводой, кн. Василием Ромодановским, осталось 20 детей боярских, 200 стрельцов приказа Анбаева и 200 московских стрельцов.
17 ноября Оладьин пришел к Почепу. После небольшой стычки с русскими местный урядник Ян Лапинский бежал в Стародуб, а его люди укрылись было в остроге, но позднее в тот же день сдались Оладьину.
18 ноября под город явился польско-литовский отряд ротмистра Яна Дроздовского (ок. 300 человек) и попытался отбить Почеп. Выйдя из острога Оладьин бился с врагом на посаде и разбил Дроздовского, бежавшего к Стародубу. Вражеский отряд [надо полагать, по отписке воеводы] потерял 93 человек убитыми и 63 человека пленными, а также знамена и литавры.
Фактическая численность отряда Оладьина [неясно, до боя с Дроздовским или после] после взятия Почепа составляла 477 человек (99 детей боярских, 77 московских и 271 брянский стрелец).
Заняв Почеп Оладьин принял меры по укреплению его обороны. Так, уже 23 ноября из Брянска были доставлен наряд (дробовой медный тюфяк и пушка), свинец и порох.
Вскоре после падения Почепа русскими отрядами был взят и Трубчевск. Здесь действовала сборная солянка, включавшая отряды пришедшие из разных мест.
16 ноября севский воевода Михаил Еропкин получил указ направить под Трубчевск отряд даточных комарицких казаков (500 человек)*. Во главе отряда были поставлены местные подьячии Григорий Ферапонтов и Афанасий Никитин.
18 ноября литва (ок. 200 чел.) совершила набег на Карачевский уезд. Карачевский воевода Григорий Квашнин выслал в погоню за налетчиками отряд во главе с атаманом Ильей Горячкиным (стародубские дети боярские, карачевские казаки и стрельцы). В пути к нему пристал отряд стародубского сына боярского Семена Веревкина** (400? охочих людей).
20 ноября на сакме, оставленной литовскими людьми, карачевцы сошлись с отрядом Ферапонтова и Никитина и 21 ноября вышли к Трубчевску, решив осадить город.
23 ноября к ним присоединился пришедший из Брянска отряд головы Андрея Зиновьева (15 брянских детей боярских и 100 московских стрельцов), а 24 ноября еще один отряд посланный севским воеводой - головы Григория Бакшеева (400 севских стрельцов и казаков, 2 полковых пищали).
Автор приводит табличку в которой помимо перечисленных присутствуют и другие отряды, в тексте не указанные, общая их численность, согласно показаниям очевидцев, составляла более 1 715 чел. Самому автору численность этих отрядов представляется завышенной, однако под Трубчевском, по его мнению, собралось видимо все же не менее 1 000 разнокалиберных бойцов.
Гарнизон города героизма проявлять не пожелал и уже 5 декабря сдался. Часть сдавшихся сразу же целовала крест царю Михаилу, перейдя на русскую службу. Остальных решили было с почетом отпустить в Литву, однако в итоге ограбили. Воеводой Трубчевска стал сначала Григорий Бакшеев, вскоре его сменил Андрей Зиновьев.
Укрепив оборону Почепа и оставив здесь воеводой Григория Тухачевского Никита Оладьин 28 декабря 1632-го двинулся к Стародубу. Осада города была начата 3 января. Гарнизон Стародуба (см. выше) успел к этому времени усилиться какими-то подкреплениями, однако их состав и численность неизвестны.
7 января 1633-го к осаждающим подошли подкрепления - 400 детей боярских и новокрещен, с немецким полковником Анцем Фуцем и головой Петром Гурьевым из Рославля (занят русскими войсками 14 ноября 1632) и отряд Матвея Износкова и Федора Ширкова из Рыльска (численность его неизвестна).
8 января под город пришел и Иван Еропкин, приведший из Новгорода-Северского отряд в 1 100 человек (600 детей боярских, 200 немцев, 100 севских стрельцов, 200 охочих людей из Карачева и Трубчевска), с 4 полковыми пушками. Баим Болтин под Стародуб идти отказался, оставшись со своими людьми в Новгороде-Северском.
Подход подкреплений позволил плотно обложить город и уже 20 января стародубский гарнизон решил сдаться.
Успех был омрачен появлением пресловутых «балашовцев» - под город явился сам атаман Иван Балаш с большим отрядом (по разным оценкам - от 500-700 до 2 000 чел.). Балаш, утверждая, что действует по приказу рославльского воеводы Богдана Нагого, попытался захватить и разграбить уже сдавшийся город, однако был отбит силами Еропкина и Оладьина и ушел в Почепский уезд, встав лагерем в 5-10 верстах от Почепа. Оладьин, опасаясь захвата балашовцами Почепа, двинулся было к городу, однако его люди не горели желанием драться с превосходящими силами квазимятежников и по пути большей частью разбежались (с воеводой осталось 40 детей боярских и 77 московских стрельцов). Балашовцы, впрочем, Почеп не тронули и вскоре ушли в грабительский поход к Чернигову и «черкасским городам». На этом Северский поход фактически завершился.
Таким образом, в ходе зимней кампании 1632 - 1633 годов русское государство сравнительно небольшими силами отбило у поляков и литвы большую часть потерянных ранее северских городов.
Участвовавшие в походе воеводы были щедро награждены - Баим Болтин получил золотную атласную шубу на соболях (108 рублей) и серебряный кубок (2 гривенки 26 золотников), 100 четей к поместному окладу (был 900 четей) и 50 рублей к денежному (был 130); Иван Еропкин (за «стародубскую службу») - зеленую атласную шубу на соболях (90 рублей), серебряный кубок (2 гривенки) и 40 рублей к окладу (был 101)***; Никита Оладьин - шубу на соболях (90 рублей), серебряный кубок (2 гривенки), 100 четей к поместному (был 900) и 40 рублей к денежному (был 65) окладам.
* С началом войны в Комарицкой волости из местных дворцовых крестьян было набрано несколько сотен даточных (по одному с пищалью с выти), служивших отрядами под началом детей боярских и есаулов из числа самих даточных.
** Веревкин «с братьей» должен был идти в поход с Болтиным на Новгород-Северский, однако в войско не явился, предпочтя самостоятельно воевать под Трубчевском. После взятия последнего он поучаствовал в грабеже литвы, затем отметился каким-то злоупотреблением при раздаче соляных и хлебных запасов и, в конце концов, обратил на себя внимание Москвы. Последняя припомнила ему еще и службу Сигизмунду в 1610-1612 годах и приказала арестовать - задержан в Карачеве в январе 1633 года.
*** Поместный оклад оставлен тот же - 1000 четей.
Северские города в 1632 - 1633 годах
Воеводой Новгорода-Северского вскоре после взятия города был назначен Иван Бобрищев-Пушкин (прибыл 18 января 1633). С ним на службе Разряд указал быть 179 новгород-северским детям боярским, 91 новгородскому поместному и кормовому казаку, 100 новгородским стрельцам, 100 курским детям боярским (явилось 56) и 100 курским и севским стрельцам (явилось 95), итого, по списку - 570 служилым людям [у автора - 670].
Помимо этого в городе оставался отряд Баима Болтина - 380 человек (100 жилых казаков?, 100 путивльских и по 90 рыльских и севских стрельцов), а также (временно) отряд карачевских служилых людей Ивана Буцнева (240 человек) и 100 брянских стрельцов.
Местный наряд составляли 2 пищали присланные с Бобрищевым-Пушкиным из Москвы (прежний наряд Иван Еропкин забрал под Стародуб), обслуживаемые 5 пушкарями (бывшими литовскими).
Всего, таким образом, в Новгороде-Северском должно было быть 1 295 человек [у автора 1 398] - явно по списку и неясно на какое время.
На конец октября 1633 года фактическая численность гарнизона составляла 360 человек.
После взятия Стародуба жившие здесь под литвой русские дети боярские целовали крест государю и вернулись на русскую службу. Местные военные силы включали 44 (по другим сведениям - 60) детей боярских «которые были в Стародубе при Литве», две сотни московских стрельцов (194 человека), 30 новоприбранных казаков и 13 пушкарей и затинщиков, всего 280 - 296 человек [на какое время не указано]. Помимо этого, в осаду могли сесть местные посадские люди - 348 человек (60 с пищалями и 288 - с рогатинами).
В сентябре 1633 года в Стародуб было переведены из Алатыря 55 (в другом месте у автора - 65) детей боярских - прежних стародубцев (см. выше), пожалованных своими прежними поместьями.
Фактически, на конец октября 1633-го на службе находилось 45 «алатырских» стародубцев и 180 московских стрельцов.
В Трубчевске на русской службе остался (в каком качестве неясно) прежний «двор» Трубецких (28 человек). Здесь же приказано было прибрать из охочих людей 100 стрельцов*, однако набрать требуемое число видимо не удалось. Позднее сюда на службу были назначены 100 московских стрельцов (служили переменяясь) и 25 севских полковых казаков (переменялись помесячно). В марте 1633 года на временную службу было прислано также 92 поместных атамана и беломестных казака и 5 пушкарей из Воронежа. На местном посаде жило 39 посадских и 9 бобылей.
В Почепе после февраля 1633 года со стрелецким и казачьим головой Григорием Тухачевским оставалось 10 детей боярских (ранее служивших литве), 100 стрельцов, 2 орудия (тюфяк и пушка, ранее присланные из Брянска, см. выше) и 2 затинных пищали (трофейные стародубские).
Обе стороны продолжали активно вести «малую войну». Так, уже в конце января 1633 года большой русский отряд посланный из Стародуба сжег посады Гомеля, Пропойска и Чечерска, спалив также немало сел и деревень и побив и угнав в полон «уездных многих людей». Литва, в свою очередь, совершала регулярные рейды на территорию Стародубского, Рославльского и иных уездов.
Противник предпринимал также попытки отбить северские города. В конце марта 1633-го большой отряд литвы (будто бы до 3 тысяч человек) приходил под Стародуб, попытавшись взять и сам город (26 марта). В июне литва (снова «три тысячи») пыталась отбить уже Почеп (14 июня), но также не преуспела. 31 августа 1633-го литва пыталась взять Рославль - вновь неудачно.
Русские воеводы, в свою очередь, в августе 1633-го пытались взять Кричев (сожжен посад?). В декабре 1633 года соединенные силы брянского, стародубского и трубчевского воевод взяли и сожгли Пропойск, захватив и вывезя местный наряд и опустошив окрестности города.
* Жалованье им положив по образцу брянских - 3 рубля и 6 четей ржи и овса рядовому, 3,5 рубля и 6 четей с осьминою - десятнику и 4 рубля и 8 четей - пятидесятнику.
«Черниговский поход»
К началу 1633 года королю Владиславу удалось перетянуть на свою сторону колеблющихся запорожских казаков, на сотрудничество с которыми в Москве до войны возлагали большие надежды. Это позволило значительно увеличить местные силы Речи Посполитой. Уже в феврале 1633-го поляки (А. Песочинский и Н. Мочарский) и черкасы, всего будто бы до 5 000 чел., приходили под Путивль, пытаясь взять его штурмом (27 февраля). В марте отряд черкас под командованием Якова Острянина сжег Валуйки (23 марта).
В апреле 1633 года Владислав приказал А. Песочинскому идти со своими людьми к Смоленску, однако черкасы уговорили того совершить еще одно нападение на Путивль. 14 мая 1633-го поляки (Песочинский и отряды Иеремии Вишневецкого) и черкасы (всего будто бы от 20 до 50 тысяч человек) пришли к Путивлю. Безуспешная осада города продолжалась до 9 июня.
В июне 1633-го упоминавшийся Я. Острянин (будто бы с 5 000 черкас) вновь разорил Валуйки, а затем осадил Белгород, безуспешно его штурмовав (20 июля).
Узнав об осаде Путивля Москва направила в помощь городу войско (указ от 25 мая) во главе со стольником Федором Матвеевичем Бутурлиным и московским дворянином Григорием Андреевичем Алябьевым. С ними по росписи посылалось из Москвы 500 человек (100 московских дворян, 200 жильцов и 200 неких дворцовых служителей). На службу с воеводами были назначены также болховские и карачевские дети боярские (те же списочные 154 и 92 чел.) и служившие по Карачеву стародубцы (40 чел.), всего - 286 человек. Прибыв в Карачев воеводы должны были собрать стрельцов, казаков и атаманов украинных и северских городов (не конкретизируется), набрать на месте охочих людей и затем идти к Путивлю.
Помогать Путивлю не понадобилось и к 16 августа Бутурлин и Алябьев пришли с московскими чинами в Новгород-Северский (болховичей, карачевцев и стародубцев с ними не было, возможно были оставлены в своих городах). Пополнившись местными служилыми людьми, отряд Алябьева (до 800 чел.) 18 - 19 августа двинулся к Чернигову (Бутурлин остался в Новгороде-Северском). Целью похода вероятно было отвлечение местных польских сил и черкас от Смоленска. Об укреплениях и гарнизоне Чернигова почти ничего не известно, вероятно город обороняло не более 300 человек.
Придя к Чернигову Алябьев встал возле Елецкого Успенского монастыря и в ночь с 22 на 23 августа попытался взять город штурмом, но был отброшен. На следующую ночь штурм был повторен - вновь неудачно. 24 августа, получив сведения о подходе к городу польских подкреплений, Алябьев снял осаду и ушел к Новгороду-Северскому.
На рубеже сентября-октября 1633-го отряд Алябьева, усиленный местными контингентами, совершил еще один глубокий рейд - на этот раз к Миргороду, разорив город и его окрестности. Вскоре (указ от 18 сентября), в связи с резким ухудшением обстановки на главном направлении, Бутурлин и Алябьев были отозваны под Смоленск. За черниговскую и миргородскую службы московские чины из отряда Алябьева получили прибавки к окладам - по 50 четей и от 2 до 8 рублей.
Поход Алябьева вынудил поляков существенно усилить гарнизон Чернигова - в сентябре 1633-го в город из Киева прибыло несколько сотен бойцов, а в октябре - св. 1 300 конных и пеших воинов с 2 пушками, под общим командованием брестского воеводы Тышкевича. 30 октября Тышкевич, с отрядом примерно в 1,5 тысячи конных людей, пытался взять изгоном Новгород-Северский, но был отбит.
Окончание войны
Зимой-весной 1634 года поляки и черкасы развернули настоящее наступление на окраины русского государства. 13 - 15 января 1634 года отряд поляков и черкас (500? человек) пытался взять Курск. 1 марта большое войско И. Вишневецкого (будто бы св. 9 000 чел.) осадило Севск, защищаемый небольшим (675 стрельцов, городовых и даточных комарицких казаков), но, после почти трехнедельной осады отступило (20 марта). Позднее Вишневецкий пытался взять Карачев (23 марта), но также неудачно.
20 апреля 1634 года стороны начали мирные переговоры. По условиям подписанного 4 июня 1634 года Поляновского мира русское правительство возвращало подлякам почти все занятые города, включая Новгород-Северский, Стародуб, Трубчевск, Почеп и Рославль. В начале июля соответствующие города были переданы полякам.
Дети боярские северских городов вернулись на прежние места службы. Большая часть из остававшихся под поляками после 1618 года также видимо теперь ушла в Россию.
К прежним местам службы детей боярских северских городов добавился Севск - на 1635 год по городу служило 125 стародубцев и рославцев, на 1636 год - 111 стародубцев и 53 рославца. Среди стародубцев служивших по Севску 25 человек ранее (1618 - 1632) служило польскому королю, помимо этого бывшие «польские» стародубцы служили также по Серпейску и Карачеву.
В 1640-х годах часть черниговцев, новгородцев, стародубцев и рославцев служивших по Рыльску и Севску была переведена в новопостроенный Хотмыжск. После 1647 году в новопостроенную Олешню было переведено из Севска 100 стародубцев, а в 1651 году в новопостроенный Каменный - 64 рославца и 27 стародубцев из Севска и неизвестное число черниговцев и новгородцев из Рыльска.

* * *
Русско-турецкая война 1686–1700 годов
Первое полноценное описание соответствующей войны. Крымские походы освещены очень подробно, Азовские очень бегло. Есть цветные карты. В целом, очень полезный труд.
скрытый текстПредпосылки войны
скрытый текст
Пользуясь переходом правобережного гетмана Дорошенко в османское подданство и разгоревшейся польско-турецкой войной русское правительство в первой половине - середине 1670-х годов предприняло попытку пересмотреть итоги Тринадцатилетней войны, подчинив себе Правобережную Малороссию. Это привело к прямому столкновению с Османской империей, конфликт с которой закончился поражением русского государства. Подписанные по итогам войны 1672 - 1681 года мирные соглашения с Крымом и Османской империей не несли России особых выгод.
После трудных переговоров в январе 1681 года крымский хан Мурад-Гирей одобрил проект мирного соглашения. В соответствии с ним перемирие заключалось на 20 лет, границей между Портой и Россией объявлялся Днепр, на правом берегу за царем признавался Киев с пригородами и земли Запорожской Сечи. При этом хану и султану запрещалось строить города и заселять (в т. ч. за счет перебежчиков с левого берега) территории между Днепром и Южным Бугом и разрешались вольные промыслы запорожских казаков. Восстанавливалась и уплата «поминков», прерванная в 1658 году.
После консультаций со Стамбулом, крымцы переписали текст согласованной грамоты «с убавкой» - были удалены пункты о вольных промыслах для казаков, условие сохранения пустой территории между Бугом и Днепром трансформировалось в обязательство обеих сторон «на Днепре по обоих сторон городов и городков не делать».
4 марта 1681 года Мурад-Гирей присягнул этой, урезанной, грамоте. Русские послы стольник Василий Тяпкин и дьяк Никита Зотов, поначалу отказывавшиеся брать новую грамоту, в конце концов вынуждены были ее принять. Им вручили также грамоту великого везира Кара-Мустафы с одобрением условий мира, при этом в грамоте везира отсутствовало еще и признание за русскими власти над Сечью.
Отправленные в июле 1681 года в Стамбул послы - окольничий Илья Чириков и дьяк Прокофий Возницын, должны были добиваться сохранения за царем Сечи и хотя бы части Правобережья, однако успеха не добились - в султанской «утвердительной грамоте», врученной Возницыну в 1682 году (Чириков к этому времени умер), за Москвой признавались Левобережье и Киев с окрестностями. Обеим сторонам запрещалось строить новые города вдоль Днепра и препятствовать переходу жителей с одного берега на другой, казацкие промыслы допускались при условии уплаты пошлин.
Новые попытки русского правительства пересмотреть условия мира успеха также не имели, при этом русские дипломаты подверглись оскорблениям. Посланного в Стамбул с извещением о новом посольстве подьячего Михаила Тарасова к султану не пустили, посольство принимать отказались, а с самим подьячим обращались подчеркнуто пренебрежительно.
Еще хуже пришлось русским послам в Крыму - в конце декабря 1682 года стольника Никиту Тараканова и подьячего Петра Бурцова ограбили, избили и подвергли пыткам. Оскорблениям подверглись и следующие годовые послы, Иван Протопопов и Дмитрий Парфеньев.
С началом Великой турецкой войны (1683 - 1699) внешнеполитические позиции России существенно укрепились - терпевшие поражения турки опасались ее присоединения к антитурецкой коалиции и лишний раз злить не хотели. Пересматривать условия Бахчисарайского мира османы по-прежнему не желали, однако пошли на некоторые уступки в других вопросах — в 1685 - 1686 годах турецкое правительство санкционировало переход Киевской митрополии под власть патриарха московского.
Пользуясь открывшимся миролюбием Стамбула Москва ужесточила подход к Крыму. В январе 1685 года, при традиционном размене русских и крымских послов (проходившем теперь в Переволочной, сотенном центре Полтавского полка), руководивший «разменой» с русской стороны Леонтий Неплюев объявил татарам, что русские годовые послы в Крым больше посылаться не будут. Не будут больше приниматься и крымские послы. От уплаты поминок Москва, впрочем, не отказывалась, но передавать их готова была только в месте размена.
Объявление Неплюева вызвало среди татар замешательство и последние в итоге покинули место размена даже не взяв поминок. На крымское правительство этот акт также произвел сильное впечатление - новый хан Селим-Гирей в отправленной в Москву грамоте даже принес извинения за насилия над русскими послами, возложив, впрочем, всю вину за них на своего предшественника.
В октябре 1685 года, в той же Переволочной, Л. Неплюев передал крымцам поминки за два года, попутно добившись ряда дипломатических успехов - крымская делегация подписалась под обязательством не заселять Правобережье и не перезывать туда людей с левого берега и проч. Переданные в 1685 году поминки оказались последними в истории русско-крымских отношений.
Оформившаяся в 1684 году в очередную Священную лигу антитурецкая коалиция (Габсбурги, Польша, Венеция, папа) стремилась вовлечь Россию в войну на своей стороне. Однако русское правительство не желало вступать в войну с турками до заключения полноценного мира с Польшей, гарантирующего приобретения Тринадцатилетней войны - на что, в свою очередь не готово было пойти правительство польское. Неудачи на турецком фронте и давление габсбургской и папской дипломатии вскоре вынудили поляков смягчить позицию. В феврале 1686 года в Москву, для переговоров о мире и союзе, прибыло польское великое посольство во главе с познанским воеводой К. Гжимултовским и литовским канцлером М. Огинским. Напряженные переговоры продолжались несколько месяцев, закончившись заключением Вечного мира (26 апреля 1686-го утвержден юными царями Иваном и Петром).
Договор закреплял за Россией все приобретения Тринадцатилетней войны. Сечь признавалась владением России (а не совместным, как в Андрусове), заключался оборонительный союз против Крыма и Турции - навечно, и наступательный - до конца войны.
Россия, таким образом, присоединялась к Священной лиге, но не напрямую, а через союз с Речью Посполитой, что обеспечивало ей определенную свободу рук - позволяло на равных участвовать в будущих переговорах с османами, имея при этом обязательства только перед Польшей.
Кампания 1686 года
скрытый текст
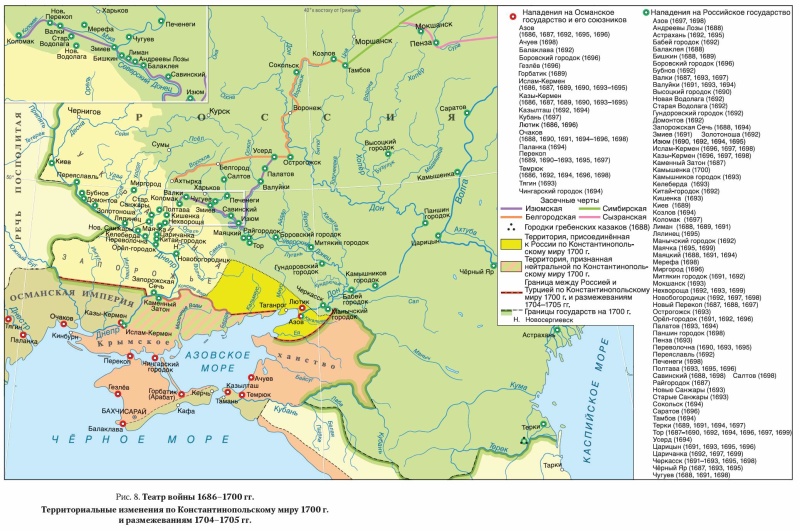
По договору о Вечном мире Москва обещала начать войну уже в 1686 году, перекрыв татарские переправы через Днепр и послав против татар донских казаков. В 1687 году должен был состояться поход «многими силами» на Крым.
Объявлять Крыму войну Москва, впрочем, не спешила. Прибывшие весной 1686 года крымские гонцы 7 июня были отпущены безо всяких официальных заявлений на этот счет. Более того, сопровождавший их толмач Василий Козлов вез в Крым грамоту в которой подтверждалось намерение царей пребывать с ханом «в дружбе». Лишь 21 августа 1686 года новому крымскому гонцу Мубарекше-мурзе Сулешеву было объявлено, что «ныне с ханом и с крымским юртом война», однако сам он был задержан в русской столице.
До конца лета 1686 года русское правительство скрывало от Бахчисарая фактическое присоединение к антиосманской коалиции и даже пыталось (при посредничестве гетмана Самойловича) передать хану Селим-Гирею предложения о переоде под протекторат русских царей.
Летом 1686 года к Запорожью был послан корпус генерал-поручика Григория Косагова. Указ о сборе войск в Колонтаеве Косагов получил уже в первых числах мая, вскоре после заключения Вечного мира. В состав его отряда вошли части Белгородского разряда - рейтарский полк Ивана Гопта (по наряду - 1 032 чел.), солдатские полки Якова Эрнеста (958) и Ивана Гранковского (1 324), новоприборный солдатский полк из Москвы (1 180, фактически 1 014 чел.), белгородские донские, яицкие и орешковские казаки (230) и калмыки-новокрещены (19), 20 пушкарей и 1 500 слободских казаков (по 500 чел. от Сумского, Ахтырского и Острогожского полков), всего - 6 278 человек и 13 пушек.
К 20 июля на службу явилось 5 569 чел., т. е. почти 90% наряда.
25 июля Косагов пришел к Запорожью и вскоре встал в Каменном Затоне, на левом, «крымском», берегу Днепра, напротив Сечи, устроив здесь земляную крепость. Активных действий он не вел, ограничиваясь разведкой и обустройством крепости. Корпус остался зимовать в Каменном Затоне, страдая от дезертирства и болезней (цинги и проч.). К 11 марта 1687 года в нем оставалось 4 696 чел., из которых здоровы были лишь 3 570.
Донские казаки в 1686 году опустошили окрестности Темрюка (800 чел. с атаманом Фомой Голодным), а затем безуспешно осаждали Лютик в районе Азова. Пройти обратно на Дон мимо Азова этот отряд не смог и отошел к реке Миус, откуда часть казаков ушла на Дон сухопутным путем. Позднее, получив подкрепления с Дона, казаки разорили окрестности Азова и беспрепятственно вернулись домой.
По сообщению донского атамана Фрола Минаева, в том же году 30 казацких судов были отправлены на промысел к берегам Турции.
В июле 1686 года отряд запорожцев (ок. 400 чел.), усиленный донцами и калмыками (ок. 100 чел.), ходил к Казы-Кермену, где был наголову разбит, потеряв полторы сотни человек убитыми (в т. ч. примерно 30 донцов и одного калмыка) и 250 пленными (в основном из числа запорожцев).
В ноябре 1686 года крымского гонца Мубарекшу-мурзу Сулешева официально отпустили из Москвы, предписав однако гетману Самойловичу задержать его до Рождества - дабы не дать Селим-Гирею упредить готовящийся поход на Крым набегом. Сам Селим-Гирей, впрочем, уже в октябре прислал в Москву грамоту, в которой извещал, что знает о «зачавшейся» войне и «недружбе» и о посылке Косагова в Запорожье и казаков к Азову. В ответной русской грамоте о войне ничего определенного не сообщалось, а хану предлагалось помириться с Польшей. На это предложение Селим-Гирей ничего не ответил, однако выразил готовность замириться с Москвой - на прежних условиях. Русское правительство, в свою очередь, в начале января 1687 года предложило хану обсудить спорные проблемы на пограничном съезде - между Запорожьем и Казикерменем.
В целом, как отмечают авторы, в 1686 - начале 1687 года русское правительство «вполне сознательно избегало резкого разрыва мирных отношений с ханом, стремясь, с одной стороны, дезориентировать его относительно своих истинных военных планов на будущий год, а с другой — воспользоваться ситуацией, чтобы прозондировать настроения в Бахчисарае касательно перехода под верховную власть царей». При этом «Москва всеми силами стремилась создать впечатление у своего польского союзника, что она полностью выполняет положения договора о союзе...».
Сами поляки летом-осенью 1686 года безуспешно ходили в Молдавию. Неудача похода породила некоторое недовольство заключенным с Москвой союзом, тем более что отдельные крымские отряды дошли в этой кампании до Молдавии и Венгрии.
Прибывшие в Польшу для принятия королевской присяги на Вечном мире русские послы Б. П. Шереметев и И. И. Чаадаев в ответ на польские претензии заявили, что сам крымский хан в этом году оставался в Крыму, а появившиеся в Молдавии татарские отряды прошли туда еще до заключения мира. Полякам сообщили также о подготовке похода на Крым в следующем году, огласив роспись разрядных полков. Претворение этих планов в жизнь послы ставили в зависимость от ратификации Вечного мира и Ян Собеский, после некоторых колебаний, утвердил договор.
Новые разногласия возникли при согласовании планов кампании 1687 года. Русская сторона, опираясь на текст союзного договора, требовала от поляков выступить в поход на Белгородскую орду в марте 1687 года. Коронные и литовские дипломаты, в свою очередь, предлагали русским в начале кампании овладеть крепостями в низовьях Днепра, а оттуда наступать на Крым, синхронно с ударом Речи Посполитой по Белгородской орде. Согласовать позиции сторон не удалось.
В конце декабря 1686-го Ян Собеский предложил свой план кампании уже непосредственно Москве. В соответствии с этим планом, на первом этапе русские должны были основными силами взять турецкие крепости в низовьях Днепра (часть сил направив в район Азова), на втором этапе поляки, усиленные 20-30 тысячами русских служилых людей и казаков, должны были, в свою очередь, разгромить Белгородскую орду, на третьем этапе главные силы русских, усиленные вернувшимися после разгрома орды русскими отрядами и польскими контингентами, должны были наступать на Крым.
Русская сторона отвергла и этот план, соглашаясь атаковать днепровские крепости лишь после окончания похода на Крым и вновь требуя от поляков наступления на Белгородскую орду весной.
Планы кампании 1687 года, таким образом, согласовать не удалось и стороны действовали в ней совершенно обособленно.
Крымский поход 1687 года
скрытый текст
Подготовка и обеспечение похода
1) Сбор служилых людей
19 сентября 1686 года в города были посланы окружные грамоты с распоряжением готовиться к кампании - в связи с намерением крымского хана прийти войной к «государским украинным и малороссийским городам». Сроки и места сбора войск обещалось объявить позднее. 7 октября грамоты были посланы повторно.
22 октября был объявлен указ о составе войск и местах их сосредоточения - для последующего направления в малороссийские города, с целью «береженья и поиску над неприятелскими людми» (см. ниже). Время сбора обещалось объявить дополнительно. 25 октября грамоты с соответствующей информацией были посланы в города. 9 ноября роспись полков была отправлена Яну Собескому (см. выше).
28 ноября с Постельного крыльца были объявлены даты сбора войск - 25 февраля, крайний срок - 1 марта 1687 года, для Белгородского полка - 15 марта для «дальних» и 25 марта для «ближних» городов. 1 декабря соответствующие грамоты были разосланы в города. В уезды для сбора войск были посланы стольники и дворяне с денежным жалованьем.
Люди собирались медленно, в том числе, видимо и из-за установленных сроков сбора*. Так, в Рязанском полку на 23-24 марта имелось лишь 6 895 человек - менее половины наряда.
Правительство реагировало традиционно. Указ от 28 февраля грозил московским чинам, не едущим в полки, опалой и отпиской поместий на государя. Грамота от 13 марта предписывала кн. В. В. Голицыну и другим воеводам «похвалять» и отпускать к Москве стольников и дворян хорошо проведших мобилизацию и не уличенных во взятках и вычетах, не справившихся с мобилизацией оставлять в полках, написав в чины и сотни, а уличенных во взятках, бив кнутом и доправив на них взятое, писать в службу с городом.
29 марта 1687 года, по инициативе Голицына, был издан указ меняющий организацию службы московских чинов (теперь они расписывались по ротам) вызвавший брожение среди знати и местнический скандал.
Указом от 22 октября Большой полк поручался боярину князю В. В. Голицыну и его товарищам - боярину князю К. О. Щербатову, окольничему В. А. Змееву, думному генералу А. А. Шепелеву, думному дьяку Е. И. Украинцеву, дьякам Перфилию Оловенникову, Михаилу Воинову, Григорию Протопопову. Новгородским полком командовал боярин А. С. Шеин, в товарищах у него значились князь Д. А. Барятинский, дьяки Еремей Полянский и Андрей Юдин.
Рязанский полк возглавил боярин князь В. Д. Долгоруков с товарищами - окольничим П. Д. Скуратовым, дьяками Львом Протопоповым и Автомоном (Автономом) Ивановым.
Севским полком командовал окольничий Л. Р. Неплюев, с дьяком Михаилом Жаденовым, Низовым полком - стольник (с 20 февраля 1687-го - думный дворянин) И. Ю. Леонтьев и дьяк Артемий Волков.
Воеводами у большого (так в тексте) наряда были назначены стольники, отец и сын Михаил Петрович и Иван Михайлович Беклемишевы.
Севский и Низовой полки были подчинены кн. Голицыну и фактически оперативных соединений имелось три - Большой, Новгородский и Рязанский полки. В состав Большого, помимо замосковных и проч. формирований фактически вошла и большая часть Белгородского полка, в качестве самостоятельного формирования в этой кампании не выступавшего.
Большой полк собирался в Ахтырке. Здесь же изначально должен был собираться Низовой (позднее место сбора было перенесено в Чугуев).
Новгородский полк собирался в Сумах, Рязанский - в Хотмыжске, Севский полк - в Севске, затем переходя в Красный Кут.
Авторы публикуют также наряд собиравшейся армии.
Большой полк: московские чины и приравненные к ним новокрещены и кормовые иноземцы; дворяне и дети боярские Замосковных, Заоцких, Украинных городов и Белгородского разряда; 2 полка копейщиков; 8 рейтарских полков; 2 выборных полка; 6 стрелецких полков; 8 солдатских полков; слободские казаки Сумского, Харьковского и Ахтырского полков.
Всего:
— 3 926 московских чинов (1 105 стольников, 730 стряпчих, 1 036 дворян, 1 055 жильцов)
— 386 новокрещенов и кормовых иноземцев (в т. ч. 18 стольников, 7 стряпчих, 35 дворян, 36 жильцов, 3 мурзы, 31 романовский и 236 ярославских татар)
— 742 чел. полка смоленской шляхты (смоленская, рославльская, бельская шляхта и проч.)
— 705 дворян и детей боярских Замосковных (228), Украинных (61), Заоцких (10) городов и городов Белгородского разряда (406)
— 3 021 копейщик полков Мартина Болмана ( 1 493, везде с начальными людьми) и Тобиаса Колбрехта (1 526)
— 7 909 рейтар полков генерала Ивана Лукина (1 304), Петра Рыдара (912), Андрея Гулица (1 023), Николая Фанвердина (1 073), Данилы Пулста (1 064), Ягана Фанфеника (907), Ицыхеля Булирта (796)
— 10 390 выборных солдат полков думного генерала А. А. Шепелева (6 893, без самого Шепелева) и генерал-поручика П. Гордона (3 497, с самим Гордоном)
— 5 114 стрельцов московских полков Ивана Цыклера (1 010), Бориса Щербачева (716), Бориса Головнина (811), Семена Резанова (921), Сергея Сергеева (850) и белгородского полка Данилы Юдина (795)
— 13 023 солдата полков генерал-майора графа Давида фон Граама / Давыда Вилгеймона (2 607), Михаила Вестова (1 795), Юрия Фамендина (1 517), Елизария Кро (1 623), Михаила Горезина ( 1340), Петра Эрланта (1 233), Александра Ливенстона (1 274), Гаврилы Фанторнера (1 158) + 467 солдат по полкам не расписанных
— 14 005 слободских казаков Сумского (6 000), Харьковского (4 000) и Ахтырского (4 000) полков
Итого: 59 221 человек (в т. ч. 31 144 чел. конницы (включая слободских казаков) и 28 527 чел. пехоты)
Севский полк: московские чины; дворяне и дети боярские Северских городов; 2 полка копейного и рейтарского строя; 3 солдатских полка.
Всего:
— 18 московских чинов (стольник, жилец и 16 дворян)
— 1 097 дворян и детей боярских Северских городов
— 2 607 копейщиков и рейтар полков генерал-майора Андрея Цея (1 147) и Томаса Юнгора (1 458)
— 4 091 солдат полков Тимофея Фандервидена (1 220), Франца Фангольстена (1 782) и Юрия Шкота (1 086)
Итого: 7 813 человек (в т. ч. 3 722 чел. конницы и 4 091 чел. пехоты)
Низовой полк: дети боярские, стрельцы, казаки, служилые иноземцы и новокрещены Низовых городов, гребенские и яицкие казаки и проч.
Всего:
— 126 детей боярских (вместе с уфимскими стрелецкими сотниками)
— 166 иноземцев и новокрещенов (90 + 76)
— 750 конных стрельцов (500 астраханских, по 100 из Саратова и Уфы и 50 самарских)
— 100 конных уфимских казаков
— 200 гребенских и 300 яицких казаков
— 205 прочих - терских окоченов (75) и узденей (80) и астраханских ногайских мурз и табунных голов (50)
Итого: 1 847 человек (по городам: Астрахань - 568, Терки - 430, Саратов - 119, Самара - 420, Уфа - 305, Царицын - 5).
Новгородский полк: московские чины; дворяне и дети боярские городов Новгородского разряда; гусарский полк и полк копейщиков; 6 рейтарских полков; 2 стрелецких полка; 7 солдатских полков.
Всего:
— 141 московский чин (45 стольников, 10 стряпчих, 54 дворянина, 32 жильца)
— 1 109 дворян и детей боярских городов Новгородского разряда (в т. ч. 138 новгородских новокрещенов и кормовых черкас)
— 994 гусара и копейщика гусарского полка Михаила Челищева ( 479) и копейного Ивана Лопухина (513)
— 5 809 рейтар полков генерал-поручика Афанасия Траурнихта (1 338), Михаила Зыкова (1 177), Карлуса Ригимана (975), Данилы Цея (731), Ивана Вуда (700), Ивана Барова (882)
— 1 679 стрельцов полков Родиона Остафьева (757) и Ильи Дурова (918)
— 9 563 солдата полков Владислава Сербина (1 108), Якова Ловзина (1 047), Артемия Росформа (1 627), Николая Фливерка (1 699 + 921 смоленский стрелец), Варфоломея Ронорта (1 620), два полка Павла Менезия (1 535)
Итого: 19 295 человек (в т. ч. 8 053 чел. конницы и 11 242 чел. пехоты)
Рязанский полк: московские чины; дворяне и дети боярские городов Рязанского разряда и Казани, казанские служилые иноземцы и новокрещены; 5 рейтарских полков; 2 стрелецких полка; 6 солдатских полков.
Всего:
— 68 московских чинов (9 стольников, 15 стряпчих, 18 дворян, 26 жильцов)
— 681 дворянин и сын боярский городов Рязанского разряда и Казани (в т. ч. 500 казанских детей боярских, иноземцев старого и нового выездов и новокрещенов)
— 4 828 рейтар полков Ягана Фанговена (1 125), кн. Никифора Мещерского (1 135), Федора Коха (835), Христофора Ригимана (992) и Ивана Кулика Дорогомира (736)
— 1 697 стрельцов полков Сергея Головцына (976) и Василия Боркова (717)
— 9 048 солдат полков Василия Кунингама (2 026), Ивана Францбекова (1 177), Ивана Девсона (1 067), Николая Балка (1 658), Мартина Болдвина (1 726), Петра Бансыря (1 389)
Итого: 16 322 человека (в т. ч. 5 577 чел. конницы и 10 745 чел. пехоты)
Всего, таким образом, помимо поместной конницы, в состав армии входило 25 конных (гусарский, 3 копейных, 2 рейтарских и копейных и 19 рейтарских), 2 выборных, 21 солдатский и 10 стрелецких полков.
Общая численность армии по наряду достигала почти 105 000 человек (св. 50 000 конницы и ок. 54 000 пехоты). Отдельно в наряд были включены корпус Г. Косагова (6 085 чел.) и стрелецкие полки Петра Борисова и Андрея Нармацкого, находившиеся при Самойловиче (св. 2 000 чел.). С ними общая численность войск доходила до 113 000 чел.
Более половины войск входило в состав Большого полка, с учетом Севского и Низового кн. В. Голицыну подчинялось почти две трети армии.
Численность войск гетмана Самойловича неизвестна и традиционно оценивается примерно в 50 000 чел.
В армию были направлены также медики и дипломаты / переводчики. В феврале 1687 года из Аптекарского приказа на службу были «наряжены» доктор Захарий ван дер Гульст; аптекарь Юрий Госен; лекари-иноземцы Яган Термонт, Андрей Бекер («в полку гетмана Ивана Самойловича»), Адольф Евенгаген, Яков Вульф, Александр Квилон, Яган Фолт, Петр Рабкеев, Карлус Еленгузен; русские лекари Артемий Петров, Яков Починской, Василей Подуруев, Кузьма Семенов, Федор Чаранда, Иван Венедихтов, Андрей Харитонов, Данила Либедев; 13 «лекарского дела учеников» и отдельно — ученик и сторож для заведования «лекарственной казной» - всего 33 человека.
Посольский приказ делегировал в Большой полк Ивана Тяжкогорского (переводчик c «полского, латинского и цесарского языков»), переводчиков «с турского и татарского» Сулеймана Тонкачова (Тонкачеева) и Петра Татаринова и толмачей «татарского языку» Полуекта Кучумова, Петра Хивинца и Василия Козлова.
16 мая был проведен общий смотр армии.
Большой полк кн. В. В. Голицына был разделен на 3 воеводских полка - самого Голицына и его товарищей, генерала В. А. Змеева и кн. К. О. Щербатова.
В воеводском полку Голицына по списку имелось:
— 3 389 московских чинов
— 353 кормовщика московского чина (см. выше)
— 638 чел. смоленской шляхты
— 3 032 копейщика (в 2 полках)
— 3 984? рейтар (в 4? полках)
— 11 941 выборный солдат (обоих полков)
— 6 135 солдат (3 полка)
— 4 077 стрельцов (4 полка)
— 4 028 слободских казаков (Сумский полк)
Всего: 38 079 человек (15 926 конницы и 22 153 пехоты)
В воеводском полку В. А. Змеева имелось:
— 308 чел. сотенной службы (54 завоеводчика, 28 есаулов, 226 прочих)
— 1 761 рейтар (2 полка)
— 4 407 солдат (3 полка)
— 4 569 слободских казаков (Харьковский полк)
Всего: 11 045 человек (6 638 конницы и 4 407 пехоты)
В воеводском полку кн. К. О. Щербатова имелось:
— 112 московских чинов
— 313 городовых дворян и детей боярских
— 1 950 рейтар (в 2 полках)
— 2 667 солдат
— 709 стрельцов (1 московский полк)
Всего: 5 751 человек (2 375 конницы и 3 376 пехоты)
Всего в Большом полку:
— 3 501 московский чин
— 353 кормовщика московского чина (см. выше)
— 638 чел. смоленской шляхты
— 621 городовой дворянин и сын боярский
— 3 032 копейщика
— 7 695? рейтар
— 11 941 выборный солдат
— 12 809 солдат
— 4 786 стрельцов
— 8 597 слободских казаков
Итого: 54 875 человек (24 939 конницы и 29 936 пехоты).
В Севском полку имелось:
— 11 московских чинов
— 975 городовых дворян и детей боярских
— 2 670 копейщиков и рейтар (382 + 2 288, без начальных людей)
— 3 971 солдат (без начальных людей)
— 153 чел. начальных людей полков нового строя
— 422 чел. севских казаков и людей пушкарского чина (все - у наряда)**
Всего: 8 207 человек (3 809 конницы и 4 398 пехоты).
В Низовом полку полку имелось 1 211 человек:
— 123 чел. городовых дворян и детей боярских + 6 сотников
— 110 иноземцев и новокрещенов (с ротмистром и прапорщиком)
— 731 конный стрелец
— 199 казаков
— 42 чел. юртовских мурз, табунных голов и сотников татарских
В Новгородском полку имелось:
— 163 московских чина
— 939 городовых дворян и детей боярских
— 635 гусар и копейщиков (257 + 378, без начальных людей)
— 4 824 рейтара (без начальных людей)
— 4 426 солдат (без начальных людей)
— 321 чел. начальных людей полков нового строя
— 2 315 стрельцов
Всего: 13 623 человека (6 882 конницы и 6 741 пехоты).
В Рязанском полку имелось:
— 81 московский чин
— 480 городовых дворян, детей боярских, служилых иноземцев и новокрещенов
— 5 288 рейтар
— 5 497 солдат
— 1 638 стрельцов
Всего: 13 122 человека (5 987 конницы и 7 135 пехоты).
Всего в главной армии имелось 91 038 человек (42 828 человек конницы, 48 210 пехоты). В целом, как отмечают авторы, явка оказалась высокой - на службу явилось почти 90% служилых людей. Однако сбор войск был закончен на два месяца позднее, чем предполагалось - к концу апреля, вместо конца февраля.
[* Обычно указ о мобилизации объявлялся в конце декабря - начале января, а сроком сбора назначалось начало мая].
** Больше пушкари нигде не упоминаются.
2) Оружие, знамена и проч.
Оружие и снаряжение для армии посылалось из Москвы, Киева, городов Белгородского и Севского разрядов и проч. Так, уже в сентябре 1686-го из Москвы в Белгород было отправлено 3 270 «карабинов с курки и с перевезми» и 4 370 «пар пистолей с олстры» для копейщиков и рейтар и 2 595 мушкетов для солдатских полков. В Севск выслали 2 861 карабин и 4 436 пар пистолетов в ольстрах для рейтар и копейщиков, 1 753 мушкета для солдат и по 2 000 пудов ружейного и пушечного пороха.
8 декабря было приказано свозить полковые припасы, знамена, полковые пушки, ядра и гранаты, огнестрельное оружие, порох, свинец, фитиль и проч. из мест хранения в пункты сосредоточения полков.
В Большой полк (в Ахтырку) следовало доставить оружие и снаряжение из Белгорода, Курска, Суджи, Тамбова и Козлова, Нового Оскола; в Новгородский разряд (в Сумы) - из Путивля, Рыльска, Переяславля-Рязанского (из последнего - солдатские знамена); в Рязанский разряд (в Хотмыжск) - также из Путивля и Рыльска и дополнительно из Севска и Ряжска.
1 марта в Большой полк были отправлены знамена для посыльных воевод и сотенные знамена, большой полковой (разрядный) шатер, а также «полковые припасы» для нужд шатра (свечи, бумага, щипцы, стулья, чернила и проч.).
3) Продовольствие и фураж
Для обеспечения войск провиантом 10 августа 1686 года был введен чрезвычайный налог, запросный сбор хлеба - по полуосьмине ржаной муки (20 кг) и по четверти четверика овсяных круп и толокна (по 2,5 кг) с двора. С 60 000 дворов Белгородского разряда вместо указанного бралось по осьмине сухарей. Дворы участников похода от сбора освобождались.
22 августа «хлебный збор» было поручено ведать думном дворянину и печатнику Д. М. Башмакову в Печатном приказе.
28 августа по городам были отправлены грамоты (позднее рассылка неоднократно повторялась) с приказом собирать стрелецкий и запросный хлеб вместе и отвозить в назначенные пункты «с великим поспешанием». Пунктами сбора были назначены Ахтырка, Сумы, Хотмыжск, Смоленск и Брянск. Из Смоленска и Брянска провиант позднее планировалось спускать по Днепру и Десне к Сечи.
Для приема хлеба в соответствующие города были посланы эмиссары в чине стольника. Не сдавшим хлеб вовремя грозили батогами, соответствующие распоряжения были разосланы городовым воеводам.
Несмотря на это хлеб собирался медленно и правительство в специальном указе, оглашенном 13 февраля, грозило землевладельцам, чьи крестьяне не сдали хлеб, отпиской поместий и вотчин, а их приказчикам торговой казнью и ссылкой в Сибирь.
Необходимый расход хлеба на три месяца был определен в 42 500 четвертей (3 400 тонн)* - 30 000 четей сухарей, 5 000 четей муки, 7 500 четей круп и толокна. Для перевозки запаса в походе требовалось 11 667 подвод.
Общие цифры нарядов, как пишут авторы, неоднократно менялись, по последнему планировалось собрать в общей сложности 155 911 четей с осьминой хлебных запасов. Фактически было собрано более 135 000 четей (почти 11 000 тонн), т. е. почти 90% наряженного.
В Смоленске на 25 июня 1687 года общий запас достигал 30 674 четей муки и 9 628 четей круп и толокна; в Брянске (дата в росписи не указана) - 20 341 четей муки, 2 618 четей круп и 2 636 четей толокна; в Сумах на 10 апреля - 9 403 четей муки, 2 934 четей круп и толокна, 10 245 четей сухарей; в Ахтырке на 24 марта - 5 124 четей муки, 2 122 четей овсяных круп, толченого проса и толокна, 15 428 четей сухарей; в Хотмыжске на 10 апреля - 9 528 четей муки, 4 719 четей круп и толокна, 9 897 четей сухарей.
Для сплава хлеба водным путем в Смоленске и Брянске было указано делать струги (грузоподъемностью до 200 четей). Соответствующая повинность была возложена на население близлежащих городов (в обмен на освобождение от хлебного сбора) - Брянска, Белева, Болхова, Карачева, Орла и проч. Из Брянска в Киев 26 апреля на 127 стругах было отправлено 25 145 четей хлебных припасов, а из Смоленска 25 мая - 29 376 четей (на 177 стругах).
В целом, хлебных запасов было собрано с избытком и часть из них была использована во Втором Крымском походе.
В войска отправлялись и другие продовольственные припасы. Так, 27 января 1687 года в Ахтырку на жалованье служилым людям Большого полка (55 000 чел.) было отправлено 5 626 пудов соли, доставленной ранее из Нижнего Новгорода.
23 февраля в Ахтырку отправлено св. 1 863 пудов коровьего масла и 961 пуд снетков, в Сумы - св. 1 863 пудов коровьего масла, св. 1 007 пудов рыбьего жира, 664 пуда снетков и св. 449 пудов рыбьего кавардаку.
В Севске было приказано сделать по 1 000 ведер сбитня и уксуса, перец и солод для которых (по 10 пудов) высылались из Москвы, а мед (200 пудов) брался с местных дворцовых ухожаев и т. д.
Помимо продовольствия в полки собирались и другие припасы. Так, в марте 1687 года для Большого полка в городах Белгородского разряда было указано собрать деготь - по 8-вершковому (в Коротояке - 7-вершковому) ведру с 10 дворов и пеньку - по разным нормам. Всего было собрано почти 423 ведра дегтя и св. 237 пудов пеньки. Еще 133 ведра дегтя и 50 пудов конопляного холста было прислано харьковским воеводой.
Для обозных лошадей «которые бывают под шатровою казною и под нарядом и подо всякими припасы» в городах Белгородского и Севского полков было указано заготавливать сено - по два «зимних воза» с двора. Всего было заготовлено 140 817 возов** сена (116 427 в Белгородском и 24 390 в Севском полках).
Для организации торговли в полки направлялись члены Гостиной сотни. Так, в Большом полку «для купецких дел» велели быть Ивану Молявке.
* Четверть везде принимается 5 пудовая.
** Как отмечают авторы, неясно были ли эти возы реальными или являлись лишь некой счетной единицей.
4) Обоз
Под хлебные запасы Разряда и «под пушки и под полковые припасы, и под церковную утварь» Иноземского приказа 16 июля 1686 года было приказано мобилизовать лошадей «с телеги и с хомуты, и с узды, и с возжи, и с ужищи».
Лошади и телеги для Иноземского приказа закупались на деньги собранные «с татарских и с черемиских, и всяких ясачных людей, которые ведомы в Казанском приказе» - по 6 алтын 4 деньги (20 копеек) с каждого из 53 211 дворов. Всего было собрано 30 200 рублей, на которые приобретено ок. 4 300 подвод (считая по 6 руб. за лошадь и рубль за подводу).
Лошади и телеги для Разряда собирались за счет натурального сбора. 24 августа 1686 года подводной податью (лошадь с телегой с 5 дворов) были обложены служилые? люди отдельных городов (Тамбов, Верхний и Нижний Ломов и проч.) 19 сентября аналогичной податью (лошадь с телегой и подводчиком с 5 дворов) были обложены города Белгородского и Севского полков. Всего было собрано 11 311 подвод.
Вместе с подводами служилых людей и прочими походный обоз первого Крымского похода включал видимо не менее 20 000 повозок.
5) Деньги
Для обеспечения жалованьем участников похода 20 сентября 1686 года был объявлен единовременный денежный сбор. Исходя из предполагаемой численности участников похода (20 000 рейтар и копейщиков и 40 000 солдат и стрельцов) требовалось собрать от 560 до 700 тыс. рублей [100 тыс. начальным людям и на мелкие расходы, 300 или 400 тыс. на рейтар (при окладе в 15 или 20 руб. соответственно) и 160 или 200 тыс. на солдат и стрельцов при окладе в 4 или 5 руб. соответственно, см. ПСЗ)]. По указу со всех крестьянских и бобыльских дворов нужно было взять по рублю, с посадских - по полтине. С именитых людей Строгановых бралось 20 тыс. руб, а с торговых иноземцев - 2 тыс. руб.
Правительство пыталось добыть деньги и другими способами. Был организован обмен золотых на широко распространенные в Малороссии серебряные польские полтораки* (чехи, как они тут назывались) - к апрелю 1687 года выменяно 12,5 тыс. полтораков. Помимо этого, в Севске был налажен выпуск т. н. севских чехов - по образцу польских, [но с русским гербом и именами русских царей].
Общие результаты вышеуказанных мероприятий неизвестны, однако известны суммы направлявшиеся на жалованье участникам похода.
27 февраля 1687 года на жалованье служилым людям Севского и Белгородского полков, «которые должны быть в Большом полку, Новгородском и Рязанском разрядах» было выдано 80 000 руб. (53 000 из Новгородской чети и 27 000 из Печатного приказа).
10 марта на жалованье служилым людям выдано 32 000 руб. (19 000 из Большой казны и 13 000 из Печатного приказа).
17 апреля на жалованье служилым людям выдано 30 000 руб. (26 700 из Большой казны и 3 300 из Печатного приказа).
Помимо этого «на полковые расходы» кн. В. В. Голицыну в марте было послано 1 900 руб. и соболей на 1 000 руб.
Копейщикам и рейтарам перед походом была выдана половина жалованья (по 10 руб.), другую половину обещали дать «в полкех». Однако до конца похода денег больше не поступало и обещанных рейтарам денег не давали (как и кормовых денег начальным людям и солдатам).
Лишь 5 июля было приказано оправить в армию св. 62 361 руб. Фактически удалось собрать только 55 361 руб. с мелочью (Большая казна - 32 199,62 руб. и чехов на 271 руб., Новгородская четь - 10 000 руб., Большой дворец - 5 000 руб., Казанский дворец - 3 361,16 руб., Печатный приказ - 3 000, Сибирский - 1 000 руб.). Недостающие деньги было приказано добрать на местах - из Калуги и иных городов - 1 000 руб. и из Севска - чехов на 6 000 руб.
Всего в Большой полк за время кампании, по сохранившимся сведениям, было выслано ок. 200 000 рублей (почти 198 100 руб. и чехами на 1 100 руб.** с небольшим).
* У авторов - полугрошевики. Низкопробная серебряная монета достоинством в 1,5 гроша, примерно равная копейке.
** Так у авторов.
6) Сбор информации о маршруте
В процессе подготовки похода собиралась информация о его предполагаемом маршруте. Так, гетман Самойлович по просьбе Москвы прислал подробное описание пути на Крым, с указанием переправ и расстояний между пунктами - «Путь шествия в Крым». В нем особо отмечалось отсутствие между Ислам-Керменом и Перекопом и далее - между Перекопом и Ак-Мечетью (Симферополем) и Карасубазаром значимых источников воды и древесины.
Помимо этого в Москве имелось немало других описаний пути в Крым. Так, статейный список В. Тяпкина и Н. Зотова (1681 год) содержал не только подробное описание пути на полуостров, но и рекомендации военного характера.
Как отмечают авторы «русское правительство должно было прекрасно представлять себе трудности пути, которые могли ожидать войско, характер будущих боевых действий и могло по крайней мере частично к ним подготовиться».
Поход 1687 года
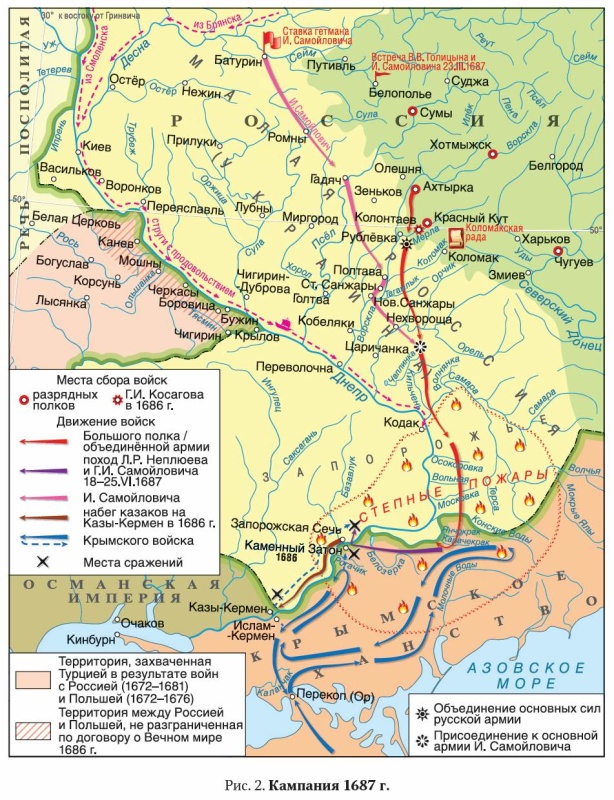
Официально целью войны объявлялось искоренение «басурманского гнезда», распространялись также слухи о намерении создать в крыму вассальное государство во главе с беглым имеретинским царем Арчилом. В реальности русское правительство похоже всерьез рассчитывало, что устрашенный грандиозной военной демонстрацией крымский хан пойдет на переговоры о мире с Россией и Польшей и даже перейдет в русское подданство.
Условия договоренностей с ханом должен был определить главнокомандующий, кн. В. В. Голицын, которому были предоставлены фактически неограниченные полномочия. Вопреки традиции, на отпуске у царей 20 февраля князь не получил даже официального наказа. Сложившаяся ситуация, впрочем, видимо смущала и самого князя и правительство и позднее Голицын все-таки получил сначала «тайный» (28 февраля)*, а затем и официальный (28 марта) правительственный наказ.
16 марта выехавший к войскам кн. В. В. Голицын встретился в Белополье (сотенный город Сумского полка) с гетманом Самойловичем. После совещания с гетманом датой выступления в поход было назначено 23 апреля. К крымскому хану решено было отправить посланца с обвинениями в нарушении мира и с предложением «исправиться» - заключив мир с царями и польским королем.
Как и планировалось, 23 апреля 1687 года передовые части Большого полка вышли в поход из Ахтырки. В тот же день из Батурина выступил гетман Самойлович. Полки русской армии должны были сойтись друг с другом у реки Мерло (Мерла), а с Самойловичем - дальше к югу.
2 мая из строя выбыл второй воевода Рязанского полка окольничий П. Д. Скуратов - упав с лошади, сломал бедро (несколько дней спустя скончался). На его место был назначен кн. Б. Е. Мышецкий.
9 мая Большой полк соединился с Новгородским и Рязанским южнее реки Мерло (по другим сведениям кн. Долгоруков соединился Голицыным еще седьмого числа). 16 мая был проведен смотр армии.
Армия двигалась в целом не быстро. Дополнительно замедлила ее марш царевна Софья, решившая поддержать главнокомандующего отправкой христианских святынь и символических даров. 8 мая в армию с Донской иконой Божией Матери и мощами св. Георгия был послан окольничий кн. В. Ф. Жирово-Засекин. Помимо иконы и мощей он вез также освященный «меч болшой»для В. В. Голицына и аналогичные мечи, палаши и сабли для гетмана Самойловича и прочих военачальников. В ожидании «посылки» Голицын вынужден был сдерживать продвижение войск, о чем неоднократно раздраженно писал в Москву. 27 мая кн. В. Ф. Жирово-Засекин наконец добрался до армии и 30 мая Голицын соединился с Самойловичем у реки Чаплинки.
4 - 7 июня соединенная армия переправилась через реку Самара. Переправа ознаменовалась скандалом - перешедшие речку первыми казаки Самойловича зачем-то сожгли мосты, замедлив продвижение войск и русские воеводы не преминули высказать претензии** гетману. У Самары же обнаружились и первые трудности с водой - войскам приходилось копать колодцы.
Противник все это время никак себя не проявлял. Лишь 3 июня шедшие на соединение с армией донцы и калмыки разбили у Овечьих вод большой разведывательный отряд крымцев (около 1 000 чел.), перебив будто бы 500 татар и взяв в полон 50. Два языка были доставлены к Голицыну. Позднее на Днепре люди Косагова, совместно с запорожцами, захватили 2 турецких ушкола, также взяв языков.
5 июня из лагеря на Самаре к хану с посланием был отправлен вышеупомянутый толмач Петр Хивинец. Послание содержало обвинения в нарушении мира, мучительстве послов и проч. При этом хану предлагали замириться, «наградив» Россию за «помянутые досады». 11 июня П. Хивинец наехал на передовые отряды татар у Перекопа. Встречен посланец был недружелюбно - к хану его не пустили, продержали под арестом до 6 июля и отпустили с ответным посланием лишь узнав об отходе русской армии.
Условия похода, тем временем, становились все более тяжелыми. 11 - 12 июня армия вышла к реке Конские Воды. Здесь обнаружилось, что степи южнее речки выжжены татарами. После бурного и бестолкового военного совета (по свидетельству Гордона «было много прений и мало здравомыслия») решили все же двигаться дальше.
15 - 16 июня страдающая от жары, пыли, нехватки воды и конских кормов армия вышла к реке Карачекрак. Произведенные разведки показали, что степь выжжена на десятки верст вокруг. Более того, догонявшие армию с севера свидетельствовали, что выжжены и значительные территории позади нее.
На новом военном совете, собранном 17 июня, было решено отвести армию севернее, в «места, где обыщутца конские кормы» и далее действовать по обстановке. Часть войск - усиленный другими частями Севский полк Л. Р. Неплюева и часть полков гетмана во главе с его сыном, Григорием Самойловичем, решено было послать к Каменному Затону. Соединившись с Косаговым Неплюев и Самойлович-младший должны были «промышлять» над
днепровскими крепостями «сухим и водяным путем».
В состав Севского полка Леонтия Неплюева к этому времени входило 11 московских чинов, 981 городовой дворянин и сын боярский, 401 копейщик, 2 734 рейтара, 4 216 солдат, 154 начальных людей полков нового строя и 502 севских казака и пушкаря (8 999 чел.). Он был усилен 2 солдатскими полками (5 130 чел.) и слободскими казаками (2 000 сумских, 1 500 харьковских и 500 ахтырских), вместе с которыми общая численность отряда достигала 18 129 человек.
С черниговским полковником Григорием Самойловичем были отправлены Черниговский, Переяславский, Миргородский и Прилуцкий полки, 2 полка сердюков, конный охотный полк И. Новицкого, глуховская сотня, «в которой бол-
ши 1 000 человек добрых», компания Г. Пашковского (500 человек), всего ок. 20 000 чел.
Вместе с отрядом Косагова (примерно 5 000 чел.) корпус Неплюева - Самойловича насчитывал св. 43 000 человек. Корпус сопровождал большой обоз с припасами - 554 подводы (6 296 четей сухарей, муки и круп - при месячной потребности примерно в 5 000 четей).
Выступив с Карачекрака 18 июня Неплюев и Самойлович в двадцатых числах июня с большим трудом добрались по выжженой степи до Каменного Затона. Здесь окончательно выяснилось, что план наступления на нижнеднепровские крепости невыполним - берега Днепра выжжены пожарами, а из плавсредств у Косагова имеются лишь небольшие лодки. Однако Голицын не желал отказываться от иллюзорной надежды добиться хоть какого-то успеха в ходе кампании и категорически требовал от воевод исполнения поставленной перед ними задачи.
Понукаемый Голицыным Неплюев в первых числах июля переправил большую часть сил на правый берег Днепра, оставив с Косаговым 5 солдатских и один рейтарский полк. В этот момент на сцене, наконец, появились татары.
Несмотря на отсутствие официального объявления войны крымский хан уже с зимы 1686 - 1687 гг. активно готовился к обороне, укрепляя Перекоп и собирая войска. К концу мая 1687 года Селим-Гирей стоял с армией у Перекопа, в июне откочевал на северо-восток, встав на Молочных водах и собираясь видимо дать бой Голицыну. Узнав об разделении русской армии и уходе части ее сил к Запорожью хан отошел к низовьям Днепра и 4 июля отправил к Каменному Затону большой отряд под командованием нураддина Азамат-Гирея (около 6 000 чел.). На рассвете 5 июля татары атаковали части Косагова, однако после затяжного боя были отбиты и отступили.
Отбившись от татар, Неплюев, Косагов и Самойлович встали лагерем на правой стороне Днепра, выше Сечи. Состояние их войск было скверным - они страдали от голода, болезней, конской бескормицы и растущего дезертирства. Так, по отписке Косагова, на 1 июля у него имелось 3 046 здоровых служилых людей, 794 человека были больны, 1 363 дезертировало, а 1 300 умерло.
Крымский нураддин Азамат-Гирей (с которым на этот раз было примерно 8 000 - 10 000 татар), тем временем, перевезся на правый берег Днепра у Ислам-Кермена и 17 июля вновь атаковал силы Неплюева-Самойловича - уже на правом берегу. До серьезного боя дело, впрочем, не дошло - все свелось к «травле» (стычкам небольших групп охотников). Русские потеряли убитым одного копейщика, татары возможно одного-двух человек. Крымцы при этом пытались агитировать против Москвы сечевиков и казаков Самойловича (последним стрелой послали подметный лист).
После боя нураддин отошел к Казы-Кермену и перевезся обратно на левый берег, а Селим-Гирей позднее ушел в Крым.
К концу июля упорствующий Голицын достиг, наконец, стадии принятия, 29 июля разрешив Неплюеву, Самойловичу и Косагову отойти к Кодаку***, а оттуда в Малороссию, где и распустить войска. Однако организованного отступления не получилось. Самойлович-младший, узнав о смещении отца, бежал с казаками на север, Неплюев бросился за ним, временно оставив Косагова у Запорожья. Однако люди Косагова, узнав о приказе Голицына, оставаться не захотели, взбунтовались и ушли самовольно (по результатам последовавшего розыска 167 человек было бито кнутом, а семерых вкинули в тюрьму в Путивле).
Тем временем, главные силы армии, начав отход 18-го числа, к 20 июню вышли к Конским Водам, где несколько дней стояли запасаясь конскими кормами. Затем отход был продолжен, 1 июля армия пришла на р. Самара и встала напротив Кодака, позднее отойдя к р. Орель, где были хорошие запасы травы, воды и леса.
12 июля в лагерь на Самаре явился с ответным посланием отпущенный крымцами Петр Хивинец. В переговоры с Голицыным (см. выше), на фоне фактического провала русского похода, крымцы вступать ожидаемо отказались, соглашась, впрочем, замириться на прежних условиях (поминки, годовые послы и проч.).
В Москву отписка Голицына с сообщением об отходе армии пришла 28 июня. 3 июля в армию был срочно отправлен один из ближайших помощников Софьи - Ф. Л. Шакловитый. Последний должен был «похвалять» Голицына, воевод и служилых людей за участие в походе, а также обсудить с главнокомандующим варианты дальнейших действий. Шакловитый прибыл в армию 13 июля и уже 16-го отправился обратно в столицу. Предлагавшиеся Москвой варианты продолжения кампании (снова идти к Перекопу, строить крепости на Самаре и Орели и проч.) Голицын отверг и после возвращения Шакловитого в столицу Москва официально признала неудачу экспедиции и санкционировала роспуск армии.
8 августа был проведен финальный смотр армии, а 15 августа она была официально распущена.
Боевых столкновений с противником армия в ходе кампании почти не имела (а основные ее силы не имели вовсе) и боевые потери были ничтожными. Потери небоевые (от жары, болезней и проч.) неизвестны, однако, по свидетельству участников похода были достаточно велики и могли составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Значительными были потери в конском составе.
Главным политическим итогом похода стало падение гетмана Самойловича, сделанного козлом отпущения за неудачу похода. 25 июля 1687 года Самойлович был смещен на собранной в Коломаке раде, новым левобережным гетманом стал пресловутый Иван Мазепа.
Для защиты границы на случай возможных крымских набегов кн. Голицыну было предписано после роспуска основных сил армии оставить часть войск на рубеже реки Мерло. Здесь была оставлена часть сил Рязанского полка кн. В. Д. Долгорукова (три рейтарских и три солдатских полка), вместе с опоздавшими на службу московскими и городовыми дворянами. Рейтарам за дополнительную службу было указано дать по 2 рубля, солдатам - рубль и хлебные запасы помесячно.
Корпус Долгорукова оставался на службе в августе-сентябре? и на 18 августа включал: 131 московского чина (89 из Большого полка и 42 из Новгородского), 183 городовых дворян (123 Большого полка, 60 - Рязанского), 2 709 рейтар и 2 249 солдат (в обоих случаях с начальными людьми), всего - 5 272 человека.
На время похода главной армии на Крым на Черте также были оставлены дополнительные силы для защиты от татарских набегов. Они включали остатки формирований Белгородского разряда и слободских казаков не ушедшие в поход с В. В. Голицыным, а позднее были усилены подкреплениями из Москвы и Низовых городов.
Всего в трех воеводских полках - белгородского воеводы кн. М. А. Голицына и его товарищей, боярина кн. М. Г. Ромодановского и думного дворянина А. И. Хитрово, предполагалось собрать до 21 000 служилых людей.
Служилые люди в полки кн. М. А. Голицына (Чугуев, по наряду ок. 10,5 тыс. чел.), кн. М. Г. Ромодановского (Царев-Борисов, позднее Маяцкий, по наряду ок. 7 тыс. чел.) и А. И. Хитрово (Валки, позднее Коломак, по наряду ок. 3,5 тыс. чел.) собирались медленно и плохо. Так, в полку Хитрового ко 2 августа имелось 2 087 чел. (включая отставших от главной армии В. В. Голицына), в полку кн. Ромодановского на момент роспуска (18 октября) - 4 837 чел. (бежавших со службы числилось 1 902).
Участвовать в боевых действиях этим войскам, впрочем, почти не пришлось. Татары беспокоили черту лишь в мае - июне, полностью разорив Райгородок и частично Черкасский городок на Изюмской черте и захватив полон и скот у Нового Перекопа и Валок.
Опосредованное вступление в Священную лигу и первый Крымский поход способствовали оживлению международных связей русского государства. В Пруссию, Англию, Голландию и Флоренцию отправились дипломаты с объявлением о Вечном мире и союзе с Речью Посполитой, призывом к борьбе с османами и просьбами о материальной поддержке. Русские послы были направлены в Вену и Венецию, Россия обменялась постоянными резидентами с Речью Посполитой и проч.
* Текст его в архивах не найден и известен по сообщению А. Х. Востокова.
** Как жаловался позднее сам Самойлович, первый воевода Новгородского полка боярин А. С. Шеин его «зело бесчестил» и даже называл изменником.
*** Здесь на острове посреди Днепра еще в начале лета? была устроена большая продовольственная база. Провиант со стругов (св. 26 000 кулей хлебных припасов и проч.), не имевших возможности преодолеть днепровские пороги, был перенесен в укрепленные городовой стеной амбары, охраняемые совместно русскими служилыми людьми и малороссийскими казаками. Летом 1688 года припасы были перевезены в новопостроенный Новобогородицк, а база ликвидирована.
Кампания 1688 года
скрытый текст
Русское правительство ожидало, что татары ответят на поход Голицына зимним набегом и зимой 1687 - 1688 годов воеводам Белгородского и Севского разряда было приказано вновь собрать войска.
Возглавлявший Белгородский разряд Б. П. Шереметев получил грамоту о сборе войск 7 января и уже 22 января выступил с собранными силами из Белгорода. Впрочем, уже 3 февраля, «уведомясь подлинно, что воинских людей в ближних местех нет и приходу их ныне под государевы украинные городы не будет» Шереметев вернулся в Белгород и 21 февраля распустил войска.
А. И. Хитрово 17 декабря 1687 года было приказано собирать войска в Хотмыжске. В Путивле собирал войска Севского разряда Л. Р. Неплюев (полки Хитрово и Неплюева также были распущены в конце февраля).
Как и летом, люди собирались медленно и плохо. У Шереметева к моменту роспуска было ок. 7,5 тысяч, к Хитрово явилось ок. 2,5 тысяч, к Неплюеву на 11 февраля - всего 1 341 человек.
Мазепа на случай татарского набега отправил на пограничье наемные полки, приказав быть в готовности городовым Миргородскому, Полтавскому, Переяславскому и Гадячскому.
Татары в итоге так и не явились и все эти хлопоты оказались напрасными.
Относительно планов кампании 1688 года в верхах видимо велись какие-то дискуссии, отголоски которых долетали до иностранных
Детально обсуждался другой план - наступления на нижнеднепровские крепости, по поводу чего велись переговоры и обширная переписка с Мазепой. Однако в итоге от наступательных операций было решено отказаться вовсе, ограничившись строительством на реке Самара новой русской крепости, Новобогородицка, опорного пункта для будущего наступления на Крым.
В поход к Самаре были отправлены Севский полк Л. Неплюева ( 4 рейтарских, 10 солдатских полков и слободские казаки Харьковского и Ахтырского полков, всего ок. 15 000 человек) и казаки Мазепы (выборные казаки Черниговского, Нежинского, Лубенского, Гадячского, Стародубского, Прилуцкого и Миргородского полков, а также конные и пешие наемные полки, всего св. 20 000 человек). Мазепе «для обережения» были посланы также два полка московских стрельцов.
23 мая 1688 года Неплюев выступил в поход из Рыльска. Мазепа, оправдываясь поздним приходом стрелецких полков, вышел из Батурина только 14 июня. 4 июля войска соединились на реке Коломак и двинулись к Самаре. Придя на место 12 июля, воеводы уже на следующий день приступили к строительству крепости, к 1 августа устроив земляные укрепления, а к 27-му августа - разнообразные внутренние постройки (избы для служилых людей, церковь, погреба и проч.). Строительство велось совместно силами русских служилых людей и казаков Мазепы.
Воеводой Новобогородицка был назначен боярин И. Ф. Волынский (до его прибытия гарнизоном командовал Г. Косагов). В крепости был оставлен гарнизон - по наряду августа 1688 года он должен был включать 4 491 человека (547 копейщиков и рейтар и 3944 солдат). Фактически имелось 4 014 человек (499 рейтар и 3 515 солдат) из севских солдатских полков полковника Юрия Шкота, подполковника Калистрата Данилова и полковника Федора Стремоухова и рейтарского полк Кашпира Гулица. К 1 декабря 1688 года численность гарнизона сократилась до 3 463 человек (489 рейтар и 2 974 солдата).
В Новобогородицке были собраны значительные запасы провианта. К 28 тысячам кулей перевезенным из Кодака (см. выше), в октябре добавилось 10 тысяч четей спущенных из Киева по Днепру и к концу года в крепости имелось более 37,4 тыс. четей хлебных запасов. Позднее предполагалось прислать в Новобогородицк еще 25 тыс. четвертей сухарей.
С октября 1688-го началось заселение посада Новобогородицка «охочими людьми». На жительство сюда назывались казаки и мещане Малороссии (жителей Слобожанщины принимать запрещалось), жившие, в целом, на правах обитателей слободских городов Белгородского разряда - как «в великоросийских слобоцких городех жители пребывают».
Отправляясь на Самару Мазепа, на случай возможных татарских набегов, мобилизовал Киевский, Миргородский, Переяславский и часть Стародубского полка прикрыв ими рубеж вдоль Днепра. По просьбе гетмана в Переяславль в июле был послан также полк С. П. Неплюева (1,5 тыс. служилых людей Севского разряда), простоявший в городе до конца августа.
Татары, в начале 1688 года границы почти не беспокоившие, к началу лета объявились на Изюмской черте, значительными силами (от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) атакуя ее городки. В связи с этим вновь был объявлен сбор войск Белгородского разряда. По наряду в трех полках разряда должно было быть собрано ок. 13 тыс. человек - 5 125 чел. в полку Б. П. Шереметева, 5 130 чел. - в полку А. И. Хитрово и 2 780 чел. в полку С. Б. Ловчикова.
Люди, как и зимой, собирались плохо и медленно. У Шереметева ко времени выступления из Белгорода (23 июля) было всего 2 036 чел., к 5 августа, на реке Коломак - 3 626 человек. В полк Хитрово (вышел из Курска 13 июля, встав в Хотмыжске, а позднее - в Валках) явилось всего 2 620 человек. В полку С. Б. Ловчикова (Чугуев) на момент роспуска (20 сентября) имелось чуть больше 1 200 человек.
Никакого участия в борьбе с татарами эти силы не приняли. Ничего не сделали для этого и стоявшие на Самаре Неплюев с Мазепой (видимо не желая привлекать внимания татар к строящемуся Новобогородицку) и вся тяжесть обороны черты легла на плечи харьковских и изюмских слободских казаков.
В июне - августе 1688 года татарами были разорены Бишкин и Савинский городки, Андреевы Лозы, Балаклея, нападениям подверглись Мерефа, Соколов, Змиев и проч.
Осенью 1688 года, видимо по рекомендации Москвы, желавшей продемонстрировать полякам исполнение союзных обязательств, Мазепой был организован набег на Очаков. В набег пошли 3 000 казаков Переяславского и 1 000 казаков Миргородского полка, усиленные наемными частями - 2 конными охотницкими и 2 пехотными полками.
Придя к Очакову в двадцатых числах октября казаки Мазепы сожгли городские предместья, разгромили вернувшийся из польско-венгерских земель ногайский загон, освободив 100-150 полонянников и благополучно вернулись домой.
Планировавшийся на ноябрь-декабрь набег в район Перекопа не состоялся из-за саботажа сечевиков.
Кампания 1688 года была для России «одновременно и передышкой после затратного и неудачного похода на Крым в предыдущем году, и временем подготовки к попытке нового броска на Перекоп в начале следующего».
Польские союзники, взаимодействие с которыми по-прежнему было почти нулевым и в этом году никаких успехов не добились, малоудачно действуя в Подолии.
На западном фронте австрийцы очистили от османов Венгрию и взяли Белград, а венецианцы овладели Мореей и Афинами. Однако осенью 1688 года Франция вторглась в Пфальц, начав войну за Пфальцское наследство (она же война Аугсбургской лиги и проч.) и в феврале 1689 года Габсбурги вынуждены были начать переговоры о мире с турками (к успеху, впрочем, не приведшие).
Узнав о начале переговоров, Москва направила своего представителя в Вену - для участия в переговорах. Официально Россия собиралась добиваться присоединения Крымского полуострова и Азова к России, выселения всех татар, а также обитателей Азова и окрестностей в Турцию, разрушения османских крепостей в низовьях Днепра и Очакова, освобождения всех русских пленных и контрибуции размером в 2 млн золотых. Программа-минимум была куда скромнее и включала лишь отмену поминок, прекращение татарских набегов, возобновление права свободной рыбной ловли и добычи соли запорожскими казаками в низовьях Днепра.
Крымский поход 1689 года
скрытый текст
Подготовка похода
1) Сбор войск
Царский указ о втором походе на Крым был объявлен с Постельного крыльца 19 сентября 1688 года. 20 сентября в Разряд и другие приказы были посланы памяти о сборе войск - «против наряду 195-го году опричь тех, которые в прошлом во 196-м году и в нынешнем во 197-м году были на их великих государей службе в Белегороде и в походе на Коломку в полку з боярином и воеводами з Борисом Петровичем Шереметевым с товарыщи, с околничим
и воеводами с Леонтьем Романовичем Неплюевым с товарыщи».
28 сентября грамоты с объявлением о походе были разосланы в города.
28 - 29 октября были утверждены воеводы разрядных полков и установлены места и сроки сбора войск. Большой полк на этот раз должен был собираться в Сумах, Новгородский - в Рыльске, Рязанский - в Обояни, Севский - в Межириче, Низовой - в Чугуеве (позднее - в Харькове). Сроками сбора назначались 1 и 10 февраля (так в тексте), последним сроком - 20 февраля.
Сроки сбора войск на Белгородской черте (позднее Казанского полка) устанавливались отдельно и несколько раз менялись. 21 ноября служилым людям было приказано собраться к 1 мая (последний срок - 9 мая). 12 января 1689 года для сбора были указаны общие февральские сроки и т. д.
1 декабря в города были отправлены «высыльщики» - дворяне и стольники с денежным жалованьем.
10? февраля кн. В. В. Голицыну был дан наказ, составленный в целом в духе предыдущего и наделяющий князя широчайшими полномочиями.
Командование большой армии в финальном варианте выглядело следующим образом:
— Большой полк: боярин кн. В. В. Голицын, стольник кн. Я. Ф. Долгоруков, окольничий В. А. Змеев, думный дьяк Е. И. Украинцев, дьяки Е. Полянский, К. Алексеев, Г. Посников, Е. Чорной;
— Новгородский полк: боярин А. С. Шеин, стольник кн. Ф. Ю. Барятинский, дьяки А. Яцкий и Г. Молчанов;
— Рязанский полк: боярин кн. В. Д. Долгоруков, стольник В. Я. Хитрово, дьяки В. Макарьев и А. Хрущов;
— Севский полк: боярин Л. Р. Неплюев, думный дворянин Г. И. Косагов, дьяк П. Исаков;
— Низовой полк: окольничий И. Ю. Леонтьев (19 февраля сменен стольником В. М. Дмитриевым-Мамоновым), дьяк П. Тютчев;
— Казанский полк: боярин Б. П. Шереметев, думный дворянин А. И. Хитрово, дьяк Л. Судейкин.
Воеводами у большого наряда были те же М. П. и И. М. Беклемишевы.
Воеводы прочих разрядных полков писались «сходными товарищами» главнокомандующего кн. В. В. Голицына. «В сходе» с ним писались и воеводы южных городов - Новобогородицка (И. Ф. Волынский), Киева (кн. М. Г. Ромодановский), прочих малороссийских городов и городов Белгородского разряда.
Авторы приводят также наряд армии направлявшейся во второй поход (видимо на 10 февраля 1689) - исправленный вариант опубликованного Н. Г. Устряловым. Из-за повреждений текста источников цифры местами условные и бьются не везде.
Большой полк: московские чины и приравненные к ним новокрещены и кормовые иноземцы; дворяне и дети боярские Замосковных, Заоцких, Украинных городов и Белгородского разряда; 2 полка копейщиков; 9 рейтарских полков; 2 выборных полка; 6 стрелецких полков; 11 солдатских полков; слободские казаки Сумского, Харьковского и Ахтырского полков.
1) Воеводский полк кн. В. В. Голицына:
— 3 274 московских чина (1 068 стольников, 645 стряпчих, 760 дворян, 801 жилец)
— 100 новокрещенов и кормовых иноземцев
— 673 чел. полка смоленской шляхты (смоленская, рославльская, бельская шляхта)
— 2 921 копейщик Московского полка Григория Шишкова ( 1 408) и Белгородского полка Василия Братцева (1 513)
— 4 024 рейтар Московского полка генерал-поручика Ивана Лукина (1 405), Тульского полка Петра Рыдара (905), Ярославского полка Андрея Гулица (964), и Cмоленского полка Богдана Корсака (750)
— 10 375 выборных солдат полков думного генерала А. А. Шепелева? - в наказе не указан (7 132) и генерал-поручика П. Гордона (3 243)
— 4 305 стрельцов московских полков Ивана Цыклера (1 000), Бориса Головнина (803), Семена Резанова (914), Сергея Сергеева (802) и белгородского полка [в тексте - приказа] Данилы Юдина (786)
— 4 022 солдата Белгородского полка генерал-майора графа Давида фон Граама / Давыда Вилгелма (1 277), Яблоновского полка Вилима Фанзалена (890), Курского полка Александра Ливенстона (1 855)
— 6 000 слободских казаков Сумского полка А. Кондратьева (из 8 800 имевшихся в полку)
Всего: 35 694 человека
2) Воеводский полк кн. Я. Ф. Долгорукова:
— 311 городовых дворян и детей боярских Замосковных, Заокских и Украинных городов
— 1 882 рейтара Можайского полка Николая Фанвердина (965) и Мценского полка Ицыхеля Буларта (917)
— 709 стрельцов московского полка Бориса Щербачева
— 3 824 солдата Ефремовского полка Юрия Фамендина (1 464), Добринского полка Александра Форота (1 267) и Мценского полка Петра Эрланта (1 093)
— 4 000 слободских казаков Ахтырского полка полковника И. Перекрестова (из 5 096 имевшихся в полку)
Всего: 10 726 человек
3) Воеводский полк В. А. Змеева:
— 289 городовых дворян и детей боярских городов Белгородского разряда (50 завоеводчиков, 40 есаулов и 199 полковой службы)
— 1 703 рейтара Белгородского полка Данилы Пулста (1 023) и Лихвинского полка Ивана Фанфеникбира (680)
— 4 464 солдата Ливенского полка Андрея Шарфа (1 571), Елецкого полка Франца Лефорта (1 796) и Усманского полка Гаврилы Фантурнера (1 097)
— 4 000 слободских казаков Харьковского полка Г. и К. Донцов (из 7 557 имевшихся в полку)
Всего: 10 456 человек
4) Воеводский полк Г. И. Косагова:
— 915 рейтар Курского полка Ивана Гопта
— 21 курский калмык-новокрещен
— 2 462 солдата Старооскольского полка Петра Гасениуса (1 292) и Хотмыжского полка Якова Эрнеста (1 170)
Всего: 3 398 человек
Всего в Большом полку:
— 3 274 московских чина
— 100 новокрещенов и кормовых иноземцев
— 673 чел. полка смоленской шляхты
— 621 городовой дворянин (включая курских новокрещенов)
— 2 921 копейщик
— 8 524 рейтара
— 10 375 выборных солдат
— 5 014 стрельцов
— 14 772 солдата
— 14 000 слободских казаков
Итого: 60 274 человека
Севский полк: московские чины; дворяне и дети боярские Северских городов; донские казаки Белгородского разряда и севские казаки и пушкари; копейная шквадрона и 2 рейтарских полка; 5 солдатских полков
Всего:
— 13 московских чинов (стольник, жилец и 11 дворян)
—861 дворянин и сын боярский Северских городов
— 2 959 копейщиков и рейтар копейной шквадроны майора Григория Веревкина (393), Брянского полка генерал-майора Андрея Цея (1 285) и Белевского полка Томаса Юнгора (1 281)
— 3 422 солдата Рыльского полка Федора Стремоухова (622), Белевского полка Франца Фангольстена (668), Путивльского полка Юрия Шкота (745), Орловского полка Константина Малеева (625) и Брянского полка Тимофея Фандервидена (762)
— 386 прочих (361 севский полковой казак, 24 пушкаря и кузнеца и некий белевец)
— 223 донских казака Белгородского разряда
— 424 белгородских солдата (которые в 1688 году в полку Л. Р. Неплюева в Новобогородицке «не были, а были в домех», ныне им велено быть в Севском разряде)
Итого: 11 288 человек
Низовой полк: дети боярские, стрельцы, казаки, служилые иноземцы и новокрещены Низовых городов, гребенские и яицкие казаки и проч.
Всего:
— 124 чел. дворян и детей боярских (вместе с уфимскими стрелецкими сотниками)
— 118 иноземцев и новокрещенов (83 + 35)
— 734 конных стрельца (492 астраханских, 96 из Саратова, 97 из Уфы и 49 самарских)
— 101 конный уфимский казак
— 98 гребенских и 150 яицких казаков
— 122 прочих - терских окоченов (16) и узденей (13), астраханских ногайских мурз и табунных голов (43) и уфимских мещерян (50)
Итого: 1 447 человек (по городам: Астрахань - 552, Уфа - 352, Терки - 313, Cаратов - 108, Самара - 117, Царицын - 5).
Новгородский полк: московские чины и кормовщики; дворяне и дети боярские рязанских городов; гусарский полк и полк копейщиков; 6 рейтарских полков; 2 московских и 2 смоленских стрелецких полка; 6 солдатских полков.
1) Воеводский полк А. С. Шеина:
— 79 московских чинов (7 стольников, 8 стряпчих, 47 дворян, 17 жильцов)
— 561 гусар и копейщик гусарского полка Михаила Челищева (247) и копейного Ивана Лопухина (314)
— 4 307 рейтар Новгородского полка генерал-поручика Афанасия Траурнихта (1 477), Псковского полка Михаила Зыкова (967), Великолуцкого полка Вилима Лексина (860) и Обоянского полка Ивана Барова (733)
— 1 609 московских стрельцов полков Родиона Остафьева (700) и Ильи Дурова (909)
— 3 453 солдата и стрельца Новгородского полка Михаила Вестова (642), Псковского полка Федора Зборовского (832), Владимирского полка Варфоломея Ронорта (1 009) и двух полков смоленских стрельцов (по 485, полковники не указаны)
— 262 московских кормовщика из Большого полка
— 952 «москвич» [московских чинов?] написанных «вместо новгородцов и иных городов полковые службы»
Всего: 10 983 человека
2) Воеводский полк кн. Ф. Ю. Барятинского:
— 144 чел. дворян и детей боярских «резанских городов»
— 1 601 рейтар Казанского полка Захария Кро (849, в т. ч. 105 копейщиков) и елецкого полка Ивана Гулица (752)
— 3 378 солдат и стрельцов Великолуцкого полка Христофора Кро (872), Костромского полка Матвея Фливерка (1 119) и Смоленского полка Павла Менезия (1 387)
Всего: 5 123 человека
Всего в Новгородском полку:
— 1 031? московский чин (79 + 952)
— 262 московских кормовщика
— 144 чел. городовых дворян и детей боярских
— 561 гусар и копейщик (с казанскими - 666)
— 5 908 рейтар (без казанских копейщиков - 5 803)
— 1 609 стрельцов (со смоленскими - 2 579)
— 6 831 солдат (без смоленских стрельцов - 5 861)
Итого: 16 106 человек
Рязанский полк: дворяне и дети боярские Низовых городов и Рязани, казанские служилые иноземцы и новокрещены; 5 рейтарских полков; 2 стрелецких полка; 6 солдатских полков.
1) Воеводский полк кн. В. Д. Долгорукова:
— 682 чел. дворян и детей боярских Низовых городов (523) и Рязани (159)
— 2 673 рейтара Рязанских полков Федора Коха (966) и Ягана Вреда (1 040) и Ряжского полка Дорофея Траурнихта (667)
— 1 677 стрельцов полков Сергея Головцына (967) и Василия Боркова (710)
— 3 876 солдат Рязанского полка Василия Нилсона (669), Ряжского полка Николая Балка (1 900) и Козловского полка Мартина Болдвина (1 307)
Всего: 8 908 человек
2) Воеводский полк А. И. Хитрово:
— 266 казанских иноземцев старого и нового выезда и новокрещен
— 2 224 рейтара Нижегородского полка Ивана Кулика Дорогомира (641) и некоего (текст источника поврежден) полка Белгородского? разряда (1 583)
— 3 110 солдат Тульских полков Ивана Францбекова (618) и Григория Буйнова (711) и Касимовского полка Якова Ловзына / Ловзина (1 781)
Всего: 5 600 человек
Всего в Рязанском полку:
— 948 городовых дворян, детей боярских, иноземцев и новокрещенов
— 4 897 рейтар
— 1 677 стрельцов
— 6 986 солдат
Итого: 14 508 человек
Всего в армии по наряду: 103 623 человека.
Часть войск предполагалось оставить на Белгородской черте для защиты от татар. По «Росписи рейтарских и салдацких полков и иных чинов ратным людем, которых ныне велено выслать на службу великих государей на черту» от 28 декабря 1688 года, с белгородским воеводой Б. П. Шереметевым должны были остаться 4 рейтарских (М. Болмана, Д. Цея, И. Гопта, Христофора Ригимона) и 5 солдатских (Я. Ловзына, Ю. Литензона, Е. Липстрома, А. Девсона и П. Гасениуса) полков.
Позднее большую часть войск Шереметева было решено также отправить в поход на Крым и на их основе был создан новый Казанский разрядный полк. Первым воеводой полка стал Б. П. Шереметев, вторым - переведенный из Рязанского полка А. И. Хитрово. Состав Казанского полка известен по перечневой росписи на момент выступления из Белгорода (конец марта 1689 года). Он включал:
— 5 московских чинов (2 стряпчих, 3 жильца)
— 153? чел. казанских дворян, детей боярских и иноземцев
— 3 128 рейтар в полках М. Болмана (703), Д. Цея (597), И. Гопта (1023) и Х. Ригимона (805)
— 928 солдат в полках Я. Ловзина (3 начальных человека), Ю. Литензона (5 начальных людей), Ефимия Липстрома (7 начальных людей), А. Девсона (278) и П. Гасениуса (635)
— 786 чел. «очередной» половины солдат и драгун белгородских городов
Всего: 5 009 человек
Не явилось к этому времени на службу 9 815 человек, в т. ч. 531 московский чин (114 стольников, 163 стряпчих, 9 дворян, 245 жильцов), 1 941 чел. городовых дворян и детей боярских «розных городов» и стрелецкий полк Семена Кровкова (620 человек) - из Батурина. Таким образом, общая численность полка по наряду должна была составлять 14 824 человека.
Позднее фактическая численность полка видимо выросла за счет подтянувшихся опоздавших, а в состав его были видимо включены новые части - в списках потерь полка по итогам кампании, помимо указанных (включая стрелецкий полк Кровкова) фигурируют еще и солдатский полк Б. Беника и копейная шквадрона Александра Шарфа.
Создание Казанского полка привело к ликвидации воеводского полка Г. И. Косагова, у которого забрали большую часть людей. Сам Косагов позднее значился товарищем Л. Р. Неплюева, первого воеводы Севского полка.
Общую нарядную численность армии Голицына авторы определяют в 117 532 человека, прибавив к числу людей в других разрядных полках число людей Казанского, с вычетом из него полка И. Гопта (915 человек) «который уже учтен в составе воеводского полка Г. И. Косагова».
[Непонятно почему при этом не вычтены также полки Петра Гасениуса (1 292) и
Якова Ловзына / Ловзина (1 781) уже учтенные по Большому (с Косаговым) и Рязанскому (с Хитрово) полкам. Без них общая численность армии составит 114 459 человек].
Артиллерия главной армии насчитывала ок. 350 орудий.
Фактическая численность армии кн. В. В. Голицына неизвестна - ее перечневые росписи в архивах не найдены. Известны лишь отрывочные данные по московским чинам и перечневая роспись Новгородского полка.
Новгородский полк по итогам смотра 24 апреля 1689 года включал:
— 594 московских чинов (33 ротмистра, поручика и хорунжих, 92 стольника, 167 стряпчих, 91 дворянин, 211 жильцов)
— 542 гусара и копейщика (232 + 310)
— 4 521 рейтара
— 189 начальных людей гусарского, копейного и рейтарского строя
— 1 618 московских стрельцов (с 22 начальными людьми)
— 999 смоленских стрельцов (с 15 начальными людьми)
— 5 589 солдат (со 173 начальными людьми)
Всего: 14 052 человека (недобор - 13%).
Московских чинов по росписи от 17 марта 1689 года имелось, в Большом полку - 3 486 (1 211 стольников, 611 стряпчих, 695 дворян, 969 жильцов), в Новгородском полку - 892 (168 стольников, 254 стряпчих, 120 дворян, 350 жильцов), в Рязанском полку - 63 (14 стольников, 22 стряпчих,
12 дворян, 15 жильцов), итого - 4 441 человек (еще 653 московских чина оставались на черте).
Как указывают авторы, по изначальному наряду в Большом полку должно было служить 3 274 московских чина (с Севским полком - 3 287) и в Новгородском - 79, т. е. явка сильно превысила план. [С учетом 952 «москвич» (если под ними подразумевались московские чины), по наряду Новгородского полка заменяющих в нем новгородцев общий наряд возрастает до 4 318 человек и превышение наряда становится уже не столь значительным].
Позднее, как указывается, цифры наряда по московским чинам были увеличены, для Большого полка составив 4 139 чел. (1 209 стольников, 740 стряпчих,
1 034 дворян, 1 156 жильцов) и, следовательно, на 17 марта имелся даже недобор примерно в 15%. При этом на службу явилось много людей сверх списка - не менее 652 человек.
В целом, как отмечают авторы, можно «осторожно предположить, что неявка на службу была вполне сравнима с первым Крымским походом, и общая численность выступившей против ханских войск армии более-менее соответствовала количеству тех войск, которые отправились в поход два года назад».
8 февраля в Разряд были присланы назначенные в поход (в Большой, Рязанский и Новгородский полки) медики - всего 25 человек, в т. ч. доктор Андрей фан Келлерман, лекари-иноземцы Яган Термант (Термонт), Андрей Бекер, Адольф Эвенгагин, Александр Квилон, Яган фохт Диштинларт, Роман Шлятор, русские врачи «чепучинного дела» Артемий Петров, Кузьма Семенов, Василий Подуруев, Андрей Харитонов, Еким Алексеев, Данило Лебедев, Фрол Семенов, Алексей Григорьев, Яков Иванов, Тимофей Петров, Роман Гарасимов, врачи-«костоправы» Иван Федоров и Алексей Феофанов и др.
25 февраля к ним добавился лекарь Христофор Карстен.
Медики были приписаны к полковым разрядным шатрам.
Как и в первом походе к Большому полку были приписаны и дипломаты / переводчики Посольского приказа. Упоминаются переводчики Польского приказа Сулейман Тонкачеева и Петра Татаринов и толмач Полиевкт (Полуект) Кучумов.
2) Прочие приготовления
Как уже отмечалось, запасы провианта для первого похода в Крым были собраны с излишком и значительная их часть продолжала храниться на складах. К осени 1688 года в Ахтырке, Сумах и Хотмыжске имелось ок. 17 853 четвертей хлебных припасов (7 420,5 четверти муки, 7 234,5 четверти сухарей, 1 853,5 четверти толокна, 1 344 четверти «с получетвериком» круп), св. 1 909 пудов соли и проч.
Помимо этого, значительные запасы хлеба имелись и в других местах. Так, в Киеве на 10 февраля 1689 года (после отсылки 10 или даже 15 тыс. четей в Новобогородицк) оставалось св. 12 825 четей хлебных припасов («брянской присылки» 1687 года и купленных на месте) и 5 822 куля овсяных круп и толокна смоленской присылки 1687 года, т. е. всего (если кули были четвертные) примерно 18 647 четей.
Производились ли новые хлебные сборы для армии неясно (авторы ничего на этот счет не пишут), однако заготовки других продуктов делались по нормам первого похода. Так, в городах Белгородского и Севского разряда вновь собирались смола, пенька, деготь и сено. Последнего полагалось заготовить 23 688 возов. В пункты сбора полков высылались соль, коровье масло, снетки, рыбий жир, рыбий кавардак, уксус и сбитень. Всего в Сумы, Рыльск и Обоянь полагалось выслать 24 577 четей сухарей, 6 000 пудов соли, 3 000 пудов коровьего масла, 2 000 пудов рыбьего жира, 1 000 пудов кавардака, 1 000 четей снетков и по 1 000 ведер уксуса и сбитня.
Огромные запасы провианта были сосредоточены в Новобогородицке. По расчетам Разрядного приказа к 1 сентября 1689 года здесь (после выдачи жалованья гарнизону и разовой дачи армии Голицына), должно было оставаться еще почти 57 000 четвертей хлебных припасов (более 29 тыс. четвертей муки, почти 25 тыс. четвертей сухарей, около 1,6 тыс. четвертей толокна, около 1,2 тыс. четвертей круп).
Для обеспечения войск жалованьем 1 ноября 1688 года был издан указ о новом чрезвычайном денежном сборе - аналогичном сбору 1686 года. Деньги полагалось собрать к 6 января 1689-го. В феврале 1689 года в армию было выслано 55 321 рубля, в марте - еще 22 000 руб.
Для обеспечения переправы армии через Самару в Новобогородицк заранее были посланы 7 «струговых мастеров» (они же «карбасные плотники») из северных уездов, делавших здесь карбасы (5-6 сажен длиной, вместимость 15-30 человек).
Учтя опыт прежнего похода русское командование приняло меры для борьбы со степными пожарами. Начиная с сентября 1687 года русские служилые люди и казаки Мазепы систематически выжигали сухую траву в степях, дабы минимизировать риски в ходе самого похода.
Был также скорректирован маршрут похода, в первую очередь за счет финальной стадии - между Карачекраком и Перекопом, с целью минимизировать проблемы с водой и конскими кормами.
В целом, как отмечают авторы: «подготовительные и организационные усилия русского правительства по организации второго Крымского похода следует оценить весьма высоко». Русская «военно-бюрократическая машина не только смогла повторить масштабные организационные шаги двухлетней давности, мобилизовав огромные запасы продовольствия, фуража, транспортного скота и др., но и учесть опыт предыдущей экспедиции», обеспечив ранний сбор войск, организовав передовую базу снабжения в Новобогродицке, приняв меры по борьбе со степными пожарами и скорректировав маршрут похода.
Поход 1689 года
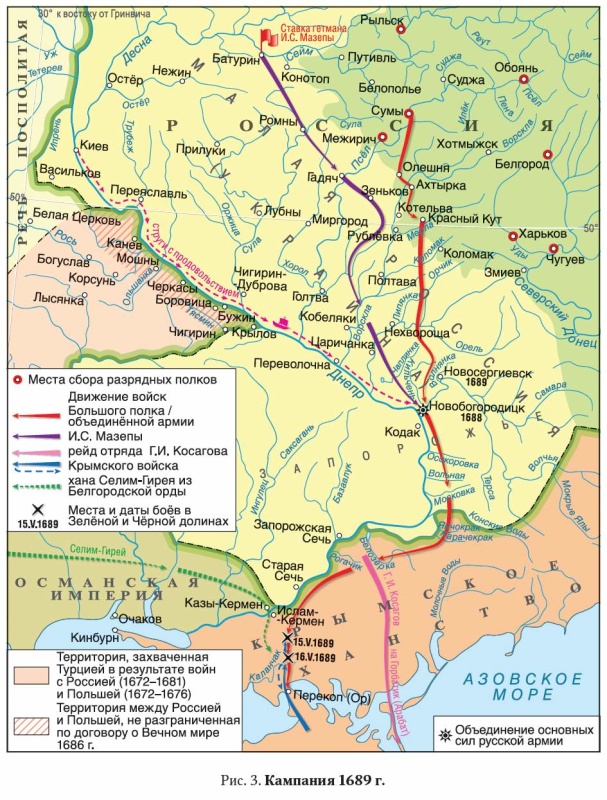
На этот раз войска в целом удалось собрать к намеченному сроку. 27 февраля на встрече Голицына и Мазепы в Севске поход было решено начать 17 марта.
17 марта кн. Голицын выступил из Сум (большая часть его войск к этому времени видимо располагалась уже в районе Ахтырки). 26 марта передовые отряды Большого полка двинулись из Ахтырки к Красному Куту.
Зима в этом году задержалась и в начале похода войска страдали сначала от морозов, а затем от распутицы. По словам самого Голицына из Ахтырки «шли с великим трудом, за великими грязьми и за располнением малых речек». Разлившиеся реки задерживали движение войск и к Красному Куту Большой полк пришел лишь 4 апреля, соединившись здесь с Севским полком Л. Неплюева.
8 апреля, дождавшись в лагере у реки Мерло подхода отставших частей, Голицын продолжил поход. Соединиться с войсками Мазепы изначально планировалось у реки Коломак, однако гетман из-за распутицы запаздывал и ждать его Голицын не стал, двинувшись к Новобогородицку.
13 апреля у реки Орель с основными силами соединился полк Шереметева вышедший из Белгорода 26 марта.
20 апреля Голицын пришел к Новобогородицку. Сюда же позднее подошли оставшиеся разрядные полки и войско Мазепы (ок. 40 000 человек).
У Новобогородицка был проведен смотр армии, войскам роздано денежное и хлебное жалованье.
На состоявшемся 24 апреля военном совете новобогородицкого воеводу боярина И. Ф. Волынского было решено оставить в верховьях Самары со сводным отрядом - на случай татарских набегов. В отряд Волынского включались дети боярские из Новгорода и Пскова и служилые люди опоздавшие в главную армию (прибывшие к Самаре после 29 апреля).
С 10 апреля по 23 мая в полк к Волынскому прибыло 317 московских чинов (139 стольников, 45 стряпчих, 15 дворян, 118 жильцов), 503 человека новгородцев, псковичей «и иных городов дворян и детей боярских», 13 «началных людей рейтарского строю и салдатцкого», 136 рядовых копейщиков и рейтар, 1 544 человека «салдат, стрельцов, казаков, пушкарей и пушкарского чину людей», всего 2 513 человек.
Из числа прибывших солдат 724 человека по приказу Голицына отослали в Переяславль и на замену им Волынский временно взял 400 рейтар и 326 солдат из гарнизона Новобогородицка. К концу мая в отряде Волынского имелось 2 515 человек.
26 апреля армия (к этому времени стоявшая в 15 верстах от Самары, у реки Татарки) продолжила поход к Перекопу. 2 мая Голицын вышел к Конским Водам, а 4 мая - к Карачекраку. 7 мая армия достигла реки Белозерки и видимо отсюда в набег на Арабатскую стрелку был послан отряд Г. Косагова (см. ниже).
От Белозерки армия двинулась далее, держась ближе к Днепру и, не доходя до Ислам-Кермена, повернула к Перекопу, 14 мая встав лагерем в Зеленой долине. Особых трудностей со снабжением она на этом этапе похода не испытывала.
Татары вблизи русских войск начали появляться начиная с 12 мая, 15 мая выступившая из лагеря в Зеленой долине армия была атакована татарами.
Крымский хан Селим-Гирей, вместе с калгой и нураддином зимовал в Белгородской орде. Весной 1689 года (первая половина апреля?), узнав о готовящемся русском походе Селим-Гирей отправил в Крым калгу и нураддина , занявшихся сбором войск у Перекопа, а сам вернулся лишь во вторую неделю мая, присоединившись к армии непосредственно перед столкновением с русскими.
Бой 15 мая (Зеленая долина) свелся видимо к серии конных стычек. Русская армия двигалась обозом / табором / вагенбургом, а татары на протяжении нескольких часов пытались прощупать ее боевые порядки, «травясь» с русской конницей. Наиболее жарко видимо было на участке Новгородского полка, понесшего в этот день наибольшие потери.
16 мая (Черная долина) бой возобновился и принял куда-более ожесточенный характер. На этот раз крымцы большими силами пытались прорвать строй вагенбурга на разных участках. Татарам удалось загнать русскую конницу внутрь обоза, однако строй его они прорвать нигде не могли. Слабое место в итоге обнаружилось на участке Сумского и Ахтырского слободских полков, шедших в арьергарде Большого полка. Ворвавшиеся в обоз татары были однако отброшены огнем частей Рязанского полка и казаков Мазепы. Жарко было видимо и на участке Казанского полка, понесшего в этот день значительные потери (в основном ранеными от стрел). За день русские с боем прошли 9 верст.
17 мая русская армия возобновила движение, поставив, на этот раз, конницу внутрь вагенбурга. Татары кружили вокруг армии, однако попыток прорвать ее строй больше не предпринимали и дело свелось к перестрелкам.
Убедившись, что не может не только разбить, но даже и остановить русскую армию, Селим-Гирей ушел в Крым и встал за Перекопом.
Потери русских в боях 15-17 мая были относительно небольшими (серьезные потери понесли только слободские казаки). Потери татар неизвестны «однако они, как представляется, должны были быть значительными». В Крыму ходили слухи о ранении самого хана, ранении или гибели его сына, ранении или гибели нураддина и других знатных татар. «Не исключено, что крупные потери татар стали одной из причин формирования героического нарратива об упорном и кровавом сражении в Черной долине».
Не встречая больше сопротивления, 20 мая русская армия вышла к Перекопу, встав здесь лагерем. Между Каланчаком и Перекопом совсем не было воды и конских кормов и вариантов, как отмечают авторы, у Голицына было два - брать штурмом Перекоп и прорываться в Крым [где между Перекопом и крымским предгорьем его ждали такие же безводные и бесплодные степи], либо отойти в более безопасное место с расчетом на начало переговоров. Вариант со штурмом видимо рассматривался - еще 10 мая у р. Рогачик были заготовлены колья и прутья для туров, придя к Перекопу Голицын (вместе с Мазепой и проч.) провел рекогносцировку крепости и т. д., однако в итоге был избран второй вариант.
Первый контакт с крымцами был установлен еще 17 мая (как отмечают авторы - по инициативе татар), 20 мая в русский лагерь у Перекопа прибыл представлявший хана Кеман-мурза Сулешев. Голицын объявил Сулешеву русские условия: 1) освобождение всех находившихся в ханстве русских пленных; 2) прекращение крымских набегов на российские и польские территории; 3) отказ Крыма от получения с России ежегодной казны (поминок). Помимо этого хану видимо предложили и переход в русское подданство.
21 мая русская армия отошла от Перекопа, встав новым лагерем в такой же безводной степи. В тот же день сюда явился Кеман-мурза Сулешев, принесший ответ на предложения Голицына. Все они были отвергнуты, мириться хан был готов лишь на условиях Бахчисарайского мира. Голицын выразил готовность пойти на уступки, ограничившись требованием отказа от поминок и от набегов на «украйные и полские городы», однако крымцы вновь ответили отказом.
Провал переговоров и быстро ухудшающаяся ситуация со снабжением войск вынудили Голицына отдать приказ об отходе. С большим трудом, теряя обозных и артиллерийских лошадей, армия вернулась назад к Днепру у Ислам-Кермена и двинулась вверх по реке, к 1 июня встав лагерем на Белозерке.
Селим-Гирей шел вслед за отступающей русской армией, но убедившись что она не собирается штурмовать днепровские городки, повернул обратно в Крым, позднее (осень 1689-го) отправившись на помощь к туркам.
11 июня армия была уже у Новобогородицка, 23 июня у реки Коломак (где от нее отделился Мазепа). 28 июня было объявлено о роспуске армии.
Отряд Г. И. Косагова посланный в набег на Арабатскую стрелку включал 3 000 выборных казаков Лубенского полка (полковник Л. Н. Свечка) из войска Мазепы и харьковских и изюмских* слободских казаков полковников Григория и Константина Донцов (ок. 4 000? чел.). Задачей Косагова было видимо произвести демонстрацию, прорвавшись в Крым, оттянув на себя часть сил татар и посеяв панику среди населения.
14 мая отряд подошел к Тонким водам (пролив между Арабатом и материком в районе современного Геническа) и переправившись на косу вскоре вышел к крепости Арабат (Горбатик). Последняя была построена в середине XVII века для защиты от казацких набегов и перекрывала проход с косы на полуостров. К 1689 году ее укрепления состояли из рва соединявшего Сиваш и Азовское море, вала с каменной стеной и 4 башнями и старого «замка» (большой каменной башни). Постоянный гарнизон крепости составляли турецкие янычары. Татары, обнаружившие подход отряда Косагова заранее, успели также стянуть к Арабату значительные силы из других мест.
Казаки Мазепы подошли к крепости 17 мая, Косагов с остальными силами - утром 18-го. Попытка овладеть крепостью («под городом ошанцовалися, даже под самой вал и с самого утра до полудня силно к стенам чинили приступ») успеха не имела, более того, турки и татары большими силами сами пошли на вылазку, с трудом отбитую казаками. Видя «многолюдство великое» противника Косагов со старшиной решили отступать и 19 мая ушли на север. Преследуемый татарами отряд с трудом переправился обратно на материк и пошел было к Перекопу, но узнав об отходе армии повернул на север и благополучно соединился с основными силами у Карачекрака.
Возвращаясь из похода Голицын приказал И. Ф. Волынскому устроить еще одну крепость на реке Самаре. Получив распоряжение главнокомандующего 15 июня, И. Ф. Волынский, вскоре (20 июня - 18 июля), силами войск выстроил выше Новобогородицка небольшую крепость Новосергиевск, рассчитанную на гарнизон в 500 человек. Вокруг крепости позднее предполагалось устроить посад. В Новосергиевске был оставлен гарнизон (300 солдат), который позднее планировалось усилить стрельцами.
После роспуска армии Голицына часть войск, на случай татарских набегов, была оставлена на рубеже Днепра - Самары - Орели. В Новобогородицке оставался полк И. Ф. Волынского (служилые люди разных разрядных полков опоздавшие в главную армию), усиленный острогожскими слободскими казаками (1 500 человек), пришедшим из Батурина московским стрелецким полком стольника Ф. Колзакова и сердюцким пехотным полком Еремея Андреева. На Орели - 3 конных компанейских и 2 пехотных сердюцких полка Мазепы. Общее руководство этими силами поручалось Волынскому.
Помимо этого, на Днепре у Переволочной были поставлены стрелецкий полк А. А. Чубарова, 500 киевских казаков Г. Коровченко и еще один сердюцкий полк.
Общие потери армии во Втором Крымском походе согласно отписке Голицына составляли 1 272 человека: 203 убитых, 1 005 раненых, 41 пленный и 23 пропавших без вести.
Большая их часть приходилась на ахтырских и сумских слободских казаков - 717 человек (142 убитых, 563 раненых и 12 пленных). Среди прочих частей наибольшие потери понесла конница нового строя - гусарские, копейные и рейтарские части потеряли совокупно 313 человек (34 убитыми, 256 ранеными, 16 пропавшими без вести и 7 пленными).
Согласно росписям разрядных полков (по Большому неполным) потери были несколько выше, без учета слободских казаков - 589 человек (72 убитых, 458 раненых, 25 без вести пропавших и 34 пленных), против 555 у Голицына (61 убитый, 442 раненых, 23 без вести пропавших и 29 пленных).
Помимо этого, согласно сказкам московских чинов Большого полка, было потеряно 46 боевых холопов (8 убито, 7 ранено, 4 пропало без вести, 27 попало в плен).
Таким образом, общие боевые потери русской армии (с учетом боевых холопов и слободских казаков) составили, по подсчетам авторов, 1 323 человека (222 убитых, 1 028 раненых, 73 пленных). [Так в тексте. Пропавшие без вести почему-то опущены, с ними (29 человек) - 1 352 человека].
Небоевые потери и потери казаков Мазепы неизвестны.
Татары в ходе кампании 1689 года границы беспокоили нечасто. Ряд нападений был отмечен в районе Изюмской черты. В конце мая под Киев пришел большой отряд белгородских ногаев (1 200 чел.), под предводительством Бек-мурзы Кантемирова сына Уракова, разбитый совместными усилиями киевского гарнизона и выдвинутого в район Киева в начале кампании соединенного русско-казацкого отряда (стрелецкий полк А. А. Чубарова и казаки Киевского и Переяславского полков).
На западных фронтах в 1689 году новыми успехами отметились австрийцы, выбившие турок из Южной Сербии. Поляки вновь неудачно ходили к Каменцу. Взаимодействие с польским союзников в ходе кампании ограничивалось взаимным информированием о военных операциях и обменом претензиями в невыполнении союзнических обязательств.
* [Изюмский слободской полк выделен из Харьковского в 1688 году]. В наряде армии изюмских казаков отдельно нет, есть только харьковские.
***
В целом, как считают авторы, стратегические замыслы русского правительства в первый («крымский») период войны сводились к следующему. Задачи завоевания Крыма фактически не ставилось, вместо этого предполагалось: «путем прямого натиска армии, превышавшей силы Селим-Гирея, в условиях, когда последний не мог получить действенной османской помощи... принудить хана к переговорам и заключению нового договора на условиях, варьировавшихся от признания верховной власти царя до официального отказа Бахчисарая от ежегодных поминок». Т. е., по сути, хана пытались лишь напугать масштабными военными демонстрациями.
Заинтересованность в реальном взаимодействии с польским союзником также фактически отсутствовала. О польских предложениях (атака на нижнеднепровские крепости и проч.) вспоминали лишь в критической ситуации (провал похода 1687 года) и забывали сразу после стабилизации обстановки. Нежелание атаковать османские крепости на Днепре и Азов объяснялось видимо также и стремлением избежать углубления конфронтации с собственно Турцией, что «могло помешать выходу из войны в случае достижения соглашения с Крымом».
Военная машина русского государства в ходе первого периода войны демонстрировала весьма высокую эффективность, не только организовав два грандиозных по масштабам похода, но и показав способность учиться на собственных ошибках. В ходе второго похода она «смогла выполнить поставленную перед ней чисто военную задачу: преодолеть огромное расстояние по пустынной и ненаселенной местности, нанести поражение вышедшим ей навстречу крымским войскам и прорваться к Перекопу», продемонстрировав, «что причины неудачи первого, «крымского», периода войны лежали в большей степени в политической плоскости, нежели в военной: изначально неверная стратегия не позволила эффективно использовать имевшийся в руках Голицына мощный инструмент российских вооруженных сил».
Боевые действия в 1690 - 1694 годах
скрытый текст
В сентябре 1689 года правительство Софьи было свергнуто в результате переворота. Пришедшее к власти «нарышкинское» правительство особого желания продолжать войну не демонстрировало, в 1692 году даже предложив Крыму замириться - на «голицынских» условиях (отказ от поминок, освобождение пленных без выкупа и проч.) и, ожидаемо, получив отказ. Боевые действия в этих условиях свелись к малой пограничной войне.
Русские войска наступательных операций не вели, ограничиваясь обороной Черты. Интенсивность службы в этот период существенно снизилась даже для служилых людей Белгородского разряда, служивших теперь по переменам. Значительные силы собирались только по вестям о появлении крупных сил татар, однако крупных татарских нападений в этот период не случалось.
С 1692 года полки Белгородского разряда регулярно выдвигались уже на Изюмскую черту. Последняя продолжала усиливаться за счет строительства новых городков на западном ее фланге.
Из заметных событий можно отметить лишь следующие. В августе 1690 года сборный отряд (татары, калмыки и старообрядцы-«ахреяне») примерно в 1 000 чел. напал на окрестности Тора взяв около тысячи человек полона.
Наиболее заметным событием 1692 года (и всего описываемого периода) стала осада Новобогородицка Петриком (см. ниже).
В 1693 году из Азова под Царицын пришел большой отряд некоего Кубек-
аги (ок. 3 000 чел, татары, калмыки, ахреяне) захватив ок. 200 купцов с товарами и рыболовов.
Осенью 1694 году случилась типичная «военная тревога». Б. П. Шереметев, извещенный о движении к границе больших сил татар, собрав войска, выдвинулся на Изюмскую черту. Татары [если они вообще были] повернули назад и уже через неделю Шереметев вернулся в Белгород и распустил людей. Между тем, в связи со сбором войск Белгородского разряда, в Крыму распространились слухи о новом большом московском походе и к Перекопу был отправлен нураддин с войсками.
В Малороссии в этот период положение было достаточно напряженным. Воспользовавшись переворотом в Москве Сечь в ноябре 1689 года попыталась передаться польскому королю, однако Ян Собеский навстречу запорожцам не пошел. Позднее отряды запорожцев регулярно нанимались на польскую службу в Молдавии.
В 1692 году против Мазепы выступил его бывший канцелярист Петрик, объявивший себя гетманом и получивший поддержку Крыма. Сечь Петрику в поддержке отказала, однако желающим было разрешено примкнуть к мятежному канцеляристу.
Летом 1692 года Петрик и крымский калга Кара-Девлет-Гирей осадили Новобогородицк. Город защищал сводный русско-казацкий гарнизон, возглавляемый воеводой С. П. Неплюевым: 1 100 солдат Яблоновского и Добринского полков, 130 местных «жилых черкас», 60 слободских сумских казаков, 50 полтавских казаков Мазепы и 40 мазепинских же сердюков и проч., всего 1 473 человека.
Передовые отряды татар объявились у Новобогородицка 23 июля. 29 июля к городу пришли калга и Петрик с основными силами (20 000 татар и 2 000 казаков). Силы самого Петрика состояли из 500 «своевольных» сечевиков, также левобережных казаков шедших на добычу соли и насильно мобилизованных «гетманом». Последние при любой возможности бежали и от изначально мобилизованных 3 тысяч ко времени осады осталась половина.
В ночь с 30 на 31 июля казаки и татары (по показаниям пленных 2 000 казаков и 500 татар) пошли на приступ. Гарнизон боя не принял и отступил в «малый город» - из-за «малолюдства» и сомнений в лояльности гарнизонных казаков. Ворвавшиеся в посад татары и казаки Петрика частично его разграбили однако утром были выбиты из города пошедшим на вылазку гарнизоном. Продолжать осаду Петрик и калга не стали и 31 июля ушли «под малороссийские городы».
Вскоре поход был свернут - калге приказали возвращаться в Крым: крымские власти не желали видимо лишний раз провоцировать Москву и раздражать Стамбул ненужной активностью. С Петриком в Крым вернулось всего 50 - 80 казаков.
В следующем, 1693 году, татары (нураддин Шахин-Гирей с войском в 10 - 12 тыс. чел.) и Петрик (70 казаков) вновь явились к Сечи, агитируя сечевиков в пользу «гетмана». Сечь и на этот раз Петрику отказала и нураддин с «гетманом» пошли к Переволочной, где пытались бунтовать уже жителей пограничных малороссийских городов - столь же неудачно.
Сам Мазепа, не ограничиваясь защитой Малороссии от татар, отметился несколькими крупными набегами против татар и турок - при активном участии Семена Палия, лидера правобережных казаков, тесно сотрудничавшего с Москвой.
В 1690 году казаки Мазепы ходили в набеги на Казы-Кермен и Очаков. Зимой 1693 года С. Палей, вместе с гетманским Лубенским полком (всего ок. 10 000 казаков), ходил в набег на Казы-Кермен, спалив его предместья. Осенью того же года Палей (вместе с казаками Переяславского полка и наемниками Мазепы) ходил в Бессарабию.
В феврале 1694 года Палей (опять с лубенскими казаками) снова ходил на Казы-Кермен, вновь спалив его предместья, а в августе того же года (уже с киевскими казаками) - на Очаков, побив вышедших из города турок, взяв пленных и бунчуки и получив за это государево тканевое жалованье. Осенью того же года неутомимый Палей (уже с прилуцкими казаками) успешно ходил на Белгородскую орду, взяв там большую добычу.
Донские казаки продолжали вести традиционную малую войну с крымцами, ногаями, калмыками и старообрядцами-«ахреянами». Особенно напряженными были отношения казаков с калмыками. Донцы имели большой зуб на калмыцкого хана Аюку, тщательно отслеживая все проявления его нелояльности Москве и регулярно сообщая о них в столицу. Москва однако фактически ограничивала антикалмыцкую военную активность донцов, а русские низовые воеводы и вовсе норовили калмыкам, на что казаки также регулярно жаловались в столицу.
Неприязнь к Аюке не мешала, впрочем, существованию традиционного донского «интернационала» - на Дону жило и участвовало в казацких походах немало калмыков (до 600 человек), периодически сюда «отъезжали» отдельные калмыцкие владетели и т. д. Помимо калмыков среди казаков постоянно присутствовали и астраханские татары.
Среди прочих противников казаков (и вообще русских людей) наиболее неприятным являлись старообрядцы-«ахрияне» - из-за их способности выдавать себя за своих.
Помимо малой войны донцы отметились и рядом относительно крупных морских походов. В 1691 году 800 донцов ходили в поход на Азовское море (видимо на Кубань), разорив два черкесских и ногайских улуса. В 1692 году на Темрюк и Казылташ ходило 1 200 казаков (взято 130 чел. полона, освобождено 200 русских). В 1694 году ок. 1 000 казаков безуспешно ходило на Темрюк и Казылташ, позднее донцы вместе с запорожцами (700 чел.) разорили Чингарский городок на Чонгаре.
Среди прочих событий можно отметить разгром большого (500 - 1 000 чел., азовцы, ногаи, калмыки) отряда Кубек-аги под Черкасском в октябре 1692 года (от 50 до 100 чел. взято в плен).
Калмыцкий хан Аюка, числившийся союзником и даже подданным Москвы, фактически был себе на уме, поддерживая тесные связи с Крымом. Небольшие отряды калмыков регулярно совершали нападения на русские границы, фактически ведя малую войну против донских и яицких казаков, башкир и проч. Сам хан списывал эти нападения на частную инициативу.
***
Как указывают авторы, [«нарышкинский»] период войны «со всей ясностью показал тесную связь между военной активностью России на юге и ее политическими позициями в буферных и пограничных регионах». Заметная «военная пассивность и полное прекращение сколь-нибудь крупных наступательных операций силами царских войск немедленно отозвались ухудшением для русского государства ситуации в тех регионах, где лояльность местных «политий» царской власти была слабой и обставлялась рядом условий» (Сечь, калмыки). Таким образом, «скорейшее возобновление активных военных действий имело для России не только чисто военное (захват новых земель) и дипломатическое (демонстрация хоть каких-то успехов союзникам по коалиции) значение, но и было необходимо для укрепления влияния Москвы в тех пограничных регионах, на которые формально распространялось ее политическое верховенство».
Кампания 1695 года. Первый Азовский поход и взятие Казы-Кермена
скрытый текст
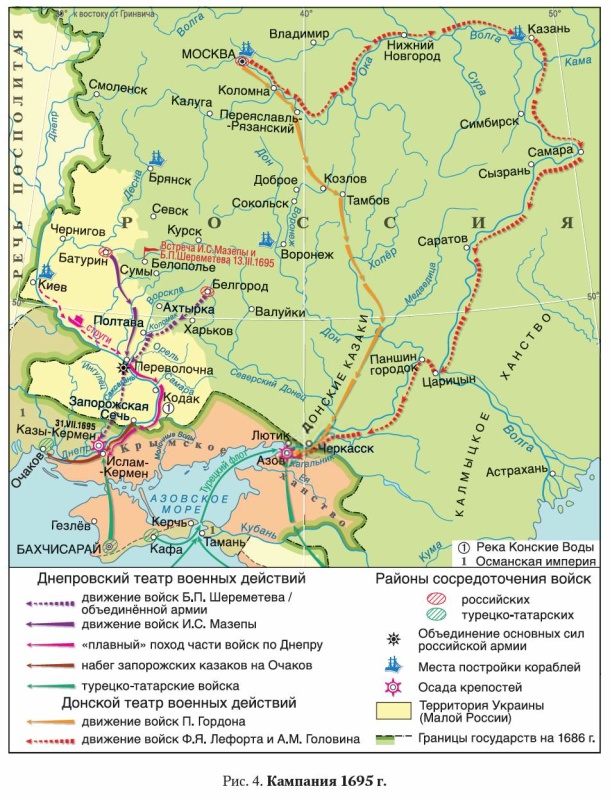
В январе 1694 года умерла царица Наталья Кирилловна и фактическая власть перешла в руки Петра. В скором времени это привело к резкой активизации боевых действий на крымско-турецком фронте.
Каким образом происходила выработка стратегического плана кампании и определялись ее цели неясно - в архивных документах этот процесс никак не отобразился.
Планы будущей кампании видимо обсуждались с Мазепой, Шереметевым и проч. с декабря 1694 года. К началу февраля в целом оформился план наступления на Азов (впервые как цель кампании упоминается в дневнике П. Гордона 6 февраля). 12 февраля был обнародован царский указ, извещавший заинтересованную общественность о посылке плавной рати на Азов «вешним ранним времянем». Шереметеву и Мазепе тем же указом предписывалось идти «для воинского же промыслу и для отвращения и удержания хана крымского с ордами от азовской помочи и обороны, на которые места пристойно». Прикрывать границу по Черте назначался воевода Севского разряда кн. П. Л. Львов, с товарищами - курским воеводой И. М. Дмитриевым-Мамоновым и чугуевским воеводой В. П. Вердеревским.
Устанавливались сроки сбора служилых людей в полки Шереметева - 1 апреля для «украинных, и резанских, и заоцких городов» и 15 апреля для «замосковных и низовых городов».
При этом конкретных задач Мазепе и Шереметеву не ставилось, в поход они должны были идти «в которое время пристойно» по «общему... совету и согласию» и «не отписываясь к... великим государем».
Несколько обескураженные внезапно свалившейся на них свободой Шереметев и Мазепа просили Москву все же дать им какие-то конкретные указания, однако последняя упорствовала и 13 марта 1696 года съехавшиеся в Белополье гетман и будущий фельдмаршал решили идти на реки Миус и Кальмиус, дабы не дать крымскому хану помочь Азову. Однако Москва этот план забраковала - 30 марта Шереметеву и Мазепе велели на Миус и Кальмиус не ходить, а идти «под городки турецкие, под которые будет удобнее и прибыльнее». Указанные в черновике документа Казы-Кермен и Ислам-Кермен в беловом варианте отсутствовали и Шереметев с Мазепой должны были видимо сами догадаться куда им совершенно самостоятельно следует идти.
Днепровский поход
Оба с этой задачей справились. Шереметев 10 мая вышел с войсками из Белгорода и 12 июня соединился у Переволочной с войсками Мазепы, вышедшего из Батурина 17 мая.
Днепровский поход, планировавшийся как вспомогательный, по масштабам в итоге превзошел Азовский. Общая численность объединенной армии составляла 68 000 - 73 000 человек (включая примерно 35 000 казаков Мазепы).
[При описании «азовского» периода войны авторы, по каким-то причинам, большей частью не приводят сведений о структуре войск участвовавших в кампаниях, хотя они имеются в использованной ими литературе.
Согласно диссертации А. В. Багро в состав войск Б. П. Шереметева входили московские чины, полк смоленской шляхты, копейный полк, 4 рейтарских полка, 8 солдатских полков, 5 стрелецких полков, корпорации белгородских донских, яицких и орешковских казаков и курских новокрещенов и слободские казаки, всего по росписи:
— 1 584 московских чина
— 636 чел. смоленской шляхты
— 148 городовых дворян Белгородского разряда
— 1 427 копейщиков Белгородского копейного полка
— 4 127 рейтар Белгородского (1 053), Обоянского (1 069), Ливенского (912) и Козловского (1 093) полков
— 9 761 солдат Белгородского (1 276), Яблоновского (1 237), Старооскольского (955), Хотмышского (1 518), Ливенского (1 124) полков, Добренского (1 159), Усманского (924), Смоленского (1568) полков
— 4 837 стрельцов московского (1 117), белгородского (1 145), курского (954) и двух смоленских (684 + 937) полков
— 425 донских, орешковских и яицких казаков и курских новокрещенов
— 5 896 слободских казаков
Итого: 28 841 человек (из них под Казы-Керменом были 25 273 чел.)
Армия Шереметева включала два воеводских полка - самого Б. П. Шереметева и С. П. Неплюева]*.
Как указывают авторы, помимо них имелся еще и воеводский полк И. М. Дмитриева-Мамонова, у Багро неучтенный и ранее назначенный охранять Черту. В его состав входили московские чины, городовые дворяне, Курский рейтарский и Курский, Козловский и Воронежский солдатские полки. Численность его не приводится (вероятно более 4 тыс. чел.).
[В состав войск Мазепы входили казаки всех 10 городовых полков, а также наемные кампанейские и сердюцкие полки. Точная их численность неизвестна и приблизительно оценивается в 35 000 человек. Мазепу сопровождали также 2 стрелецких полка - стольников и полковников Степана Стрекалова (656 стрельцов) и Григория Анненкова (?), общей численностью примерно в 1 тыс. человек]*.
В походе участвовали также запорожцы-сечевики - примерно 2 000 человек.
Около 14 июня войска Шереметева и Мазепы начали переправляться на правый берег Днепра у Переволочной. Переправа растянулась более чем на три недели и лишь 11 июля объединенная армия выступила от Переволочной к Казы-Кермену. Продвижению армии мешали многочисленные речные балки и к Казы-Кермену основные ее силы подошли лишь 24 июля. Еще до подхода основных сил к городу была послана «плавная рать» (300 русских служилых людей, казаки Мазепы и примкнувшие к ним сечевики), блокировавшая Казы-Кермен со стороны Днепра.
Силы турок в Казы-Кермене и прочих укреплениях оцениваются примерно в 4 000 человек. Крымский хан выслал на помощь туркам нураддина Шахин-Гирея, однако тот, стоя на левом берегу Днепра, ничем не смог помочь османам.
25 июля было начато рытье шанцев и строительство батарей, а 26 июля - бомбардировка крепости. Параллельно с бомбардировкой под одну из башен была подведена минная галерея. 30 июня взрыв мины обрушил угловую башню и часть стены Казы-Кермена и осаждающие пошли на штурм. После пятичасового боя турки оставили «большой город» и отступили в «малый» (замок). На следующий день остатки гарнизона (примерно 1 500 человек) сдались. Всего, таким образом, на взятие крепости ушло около недели.
Небольшая крепость Мустрит-Кермен (Тавань), располагавшаяся на острове рядом с Казы-Керменом, сдалась в тот же день. Турецкие городки на левом берегу Днепра (Мубарек-Кермен и Ислам-Кермен) были брошены бежавшими гарнизонами 2-3 августа.
[Помимо пленных, в Казы-Кермене и Мустрит-Кермене были взяты богатые трофеи - одних исправных пушек захвачено 58 штук. Потери Шереметева неизвестны, казаки Мазепы, по его отписке, потеряли в кампании 262 чел. убитыми и 342 ранеными]*.
Восстанавливать сильно пострадавший Казы-Кермен не стали и русско-казацкий гарнизон (200 солдат, 600 сердюков + сечевики) разместился в Мустрит-Кермене, переименованном в Тавань.
Осенью 1695 года, воспользовавшись снятием турецкой блокады, сечевики совершили большой набег на Очаков, разорив окрестности города.
* А. В. Багро Украинское казачество и первый Азово-Днепровский поход.
Первый Азовский поход
Отправившаяся к Азову армия состояла из трех «дивизий» - П. Гордона, Ф. Лефорта и А. Головина.
В состав «дивизии» Патрика Гордона входили Бутырский полк (Второй выборный, 894 чел.), 7 московских стрелецких полков (4 620 чел.) и 4 тамбовсих солдатских полка (3 879 чел.), всего - 9 393 человека, с нарядом и проч. - ок. 10 000 чел.
[«Дивизия» Автонома Головина включала преображенцев (1 200 чел.), семеновцев (938 чел.) и 6 стрелецких полков (4 785 чел.), всего - ок. 7 000 чел.
«Дивизию» Франца Лефорта составляли Лефортовский (Первый выборный) и несколько солдатских и стрелецких полков, всего ок. 10 000 чел.]*
Общая численность армии доходила видимо до 31 000 чел. В походе участвовало также ок. 6 000 донских казаков, а также другие формирования (астраханские татары, яицкие казаки, башкиры? калмыки?). С ними численность армии могла, по мнению авторов доходить до примерно 40 000 человек.
[Армия управлялась военным советом (Гордон, Лефорт, Головин), сам же юный 24-летний монарх предпочитал большей частью играть в «великого бомбардира»]*.
Изначально предполагалось, что «дивизия» Гордона, следующая из Тамбова сухим путем, соединившись с донскими казаками блокирует Азов до подхода основных сил. Последние («дивизии» Лефорта и Головина, с царем и осадной артиллерией) должны были водным путем спуститься по Оке и Волге до Царицына, оттуда перейти на Дон и (снова водой) спуститься к Азову.
Однако Гордон надолго задержался в Тамбове (прибыл в город 18 марта, вышел в поход 1 мая) и пришел к Азову только 27 июня. Основные силы выступили из Москвы 28 апреля, 6 июня достигли Царицына, 14 июня - Дона. Начав сплавляться вниз по реке 19 июня, 29 июня Лефорт и Головин высадились в районе Азова. К 5 июля все силы армии сосредоточились у города.
Гарнизон Азова накануне осады был усилен и насчитывал видимо ок. 6 000 человек. Помимо этого в окрестностях города действовали конные отряды, постоянно беспокоившие осадную армию - крымские татары (с нураддином), турецкая конница из состава гарнизона (Муртаза-ага) и сборный отряд упоминавшегося Кубек-аги (азовские татары, калмыки и проч.), всего видимо ок. 3 000 - 4 000 человек.
Осада шла в целом неудачно. Турки упорно сопротивлялись, успешно ведя минную войну и совершая вылазки. В середине июля в Азов перебежал [один из петровских любимчиков]* голландец Яков Янсен, указавший туркам слабое место русских позиций. Пользуясь указаниями перебежчика османы 15 июля совершили удачную вылазку на участке «дивизии» Гордона, перебив до 400 и ранив около 500 человек и захватив несколько пушек.
Предпринятый 5 августа штурм был отбит с большими потерями (до 1 500 чел.). 25 сентября была предпринята еще одна попытка штурма, снова закончившаяся провалом [и 27 сентября на военном совете решено было осаду прекратить. Отход армии проходил в тяжелых условиях - идущие от Азова войска подвергались постоянным нападениям татар, позднее возвращающиеся с Дона полки тяжело пострадали от начавшихся холодов. Боевые и небоевые потери армии были весьма велики]*. Турки, впрочем, тоже понесли тяжелые потери - выбито было вероятно до 2/3 гарнизона, включая и его командира.
Едва ли не единственным успехом операции стал захват турецких «каланчей», перекрывавших один из рукавов Дона (14 - 16 июля). На месте одной из них был устроен русский форт Сергиев (или Новосергиев), в котором при отходе был оставлен большой гарнизон (ок. 3 000 чел.), весьма стеснявший турок.
Главной причиной неудачи похода было видимо дурное руководство - изо всех главных командиров опытным военачальником был лишь П. Гордон, да и тот действовал небезупречно.
***
Результаты кампании, таким образом, оказались неоднозначными. На Днепре был достигнут полный успех - перекрыта важнейшая татарская переправа через реку, Черное море открыто для казацких набегов. Под Азовом русская армия потерпела неудачу, обзаведясь, однако, важным форпостом вблизи города (а ее «великий бомбардир» получил ценный урок).
* Н. Г. Устрялов История царствования Петра Великого. Том второй
Кампания 1696 года. Второй Азовский поход
скрытый текст
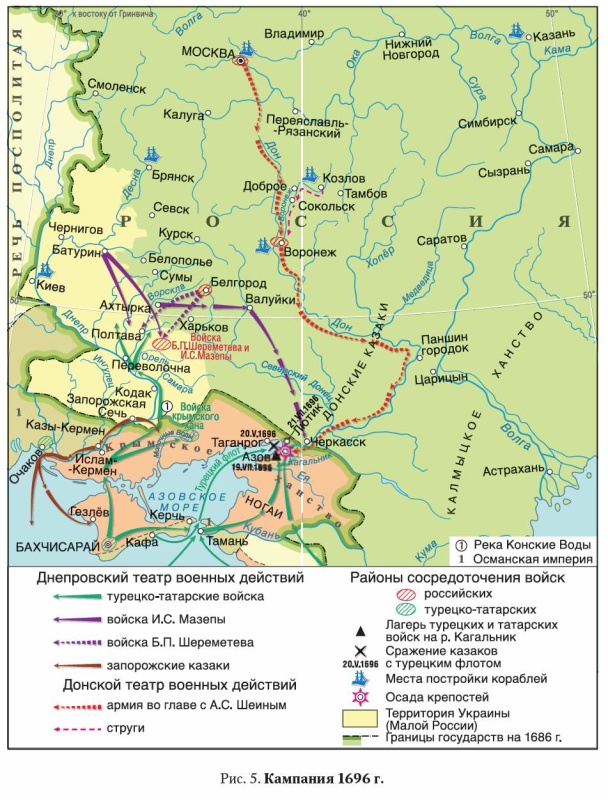
Второй Азовский поход
[Указ о новом походе на Азов был объявлен уже 27 ноября 1695 года. Местом сбора основных сил был назначен Воронеж. Здесь же, и в других местах, строились корабли флота, которым предполагалось блокировать Азов с моря.
Главнокомандующим сухопутной армией (Большим полком) в январе 1696 года был назначен генералиссимус боярин А. С. Шеин.
В состав Большого полка входили полки / «дивизии»:
— П. Гордона (Бутырский, 9 солдатских (4 тамбовских, 2 рязанских, 2 низовых) и 7 стрелецких полков; 369 начальных людей, 9 060 солдат, 4 688 стрельцов, всего - 14 117 чел.)
— А. Головина (преображенцы, семеновцы, 9 солдатских, 7 стрелецких полков; св. 300 начальных людей, 8 520 солдат, 4 909 стрельцов, всего - св. 14 000 чел.)
— К. Ригимона (7 белгородских солдатских полков; 178 начальных людей, 10 299 солдат, всего - 10 477 чел.).
Помимо этого в состав армии входило 3 816 московских чинов (3 500 в 27 ротах + 316 завоеводчиков, есаулов и проч.). К ним должны были добавиться низовые стрельцы и казаки и казаки яицкие (всего 500 чел.), донские казаки (5 000), 6 городовых малороссийских полков Мазепы (15 000), калмыки Аюки (3 000).
Назначенный адмиралом Ф. Лефорт командовал «морским караваном» (29 судов), к которому было приписано ок. 4 500 солдат (преображенцы, семеновцы, новоприборные солдаты).
Всего, таким образом, русских служилых людей должно было быть ок. 47 000, вместе с казаками и калмыками - св. 70 000 чел]*.
Фактическая численность армии вероятно отличалась от приведенной. Как указывают авторы, полки Мазепы, под командованием наказного гетмана, черниговского полковника Я. К. Лизогуба пришли к Азову только 17 июня (а численность их возможно была выше нарядной - до 20 000 чел.), низовые служилые люди - 30 июня, а калмыки Аюки пришли уже после капитуляции Азова.
Передовые части русской армии появились под Азовом в последних числах мая, сосредоточение сил было, в целом, завершено к 7 июля.
«Морской караван» (вместе с Петром) пришел к Азову 18 мая. 19 мая в море у Азова вышло 9 галер под командованием Петра, однако 20 мая они вернулись к Азову из-за мелководья. В тот же день стоявшие у Азова турецкие суда были атакованы донскими казаками, потопившими 2 турецких корабля и 9 тунбасов (мелких судов использовавшихся для перевалки грузов). Как отмечают авторы позднее этот успех был приписан Петру и петровскому флоту, в деле не участвовавшим. В целом же, как отмечается, основную роль в блокировании Азова с моря сыграли не петровский флот и даже не донские казаки, а береговые укрепления устроенные П. Гордоном.
Турки не сумели в полной мере восстановить боеспособность Азова после предыдущей осады. Подкрепления в город начали прибывать с января 1696 года и к началу новой осады численность гарнизона составляла вероятно 4-5 тысяч человек. Ветеранов первой осады среди них осталось очень мало, большую часть гарнизона составляли видимо новоприборные янычары и прочие османские служилые люди, собранные с бору по сосенке, не имевшие боевого опыта и часто малопригодные к службе. Часть подкреплений в город до начала осады попасть уже не успела, оставаясь на подошедших с моря судах (по разным оценкам - от 1,5 до 4 тыс.)
Как отмечают авторы, вопреки ранее высказывавшимся предположениям**, сколько-нибудь заметного числа ахреян в составе гарнизона не имелось.
Разрушенные каменные укрепления города турки восстановить не успели, заменив по возможности дерево-земляными. Не были срыты и фортификационные сооружения русских устроенные во время первой осады, что существенно облегчило жизнь осаждающим.
К югу от Азова, на реке Кагальник, в ходе осады располагались конные турецкие и татарские отряды, тревожившие осадную армию (татары, турки, ногаи, черкесы). Ими руководили кафинский наместник Муртаза-паша, нураддин Шахин-Гирей и неоднократно уже упоминавшийся Кубек-ага. Перед самым падением города на Кагальник пришел с большим отрядом еще и калга Девлет-Гирей. Общее численность отрядов стоявших на Кагальнике единовременно, по мнению авторов, не превышала 7 тыс. человек и на ход осады их деятельность серьезно не повлияла.
Сама осада на этот раз велась куда более успешно. Город был полностью блокирован, энергично велись инженерные работы, 16 июня была начата бомбардировка Азова. Положение гарнизона быстро ухудшалось и 18 июля он вступил в переговоры о сдаче, а 19 июля капитулировал. 21 июля без боя сдался и форт Лютик (Сед-Ислам), блокировавший один из рукавов Дона.
Развивать успех Петр по каким-то причинам не стал, отказавшись и от предлагавшегося похода на Кубань, даже силами калмыков.
Основные силы русской армии покинули Азов 16 августа. В городе был оставлен внушительный гарнизон (8 - 10 тыс. чел.) под командованием стольника кн. Петра Григорьевича Львова.
* Н. Г. Устрялов История царствования Петра Великого. Том II и М. М. Богословский Петр I. Материалы для биографии. Том I.
** По А. Сеню костяк гарнизона составляли 500 ахреян.
Днепровский район
Б. П. Шереметеву и Мазепе, как и в прошлый раз, была предоставлена свобода рук - «тот поход велено положить на их разсуждение». Мазепа предлагал в этот раз идти на Очаков, однако в итоге на Очаков гетман и белгородский воевода не пошли, почти все лето простояв с основными силами на реках Орчик и Берестовая [правые притоки Орели], карауля крымского хана стоявшего, в свою очередь, без дела на Молочных водах. 1 сентября армия была распущена.
Помимо этого, летом к Тавани (гарнизон которой к этому времени большей частью разбежался) для охранения был послан с отрядом С. П. Неплюев (Белгородский солдатский полк, стрелецкий полк И. Дурова, белгородские донские казаки и проч., всего 2 500 чел.). По предложению Неплюева была восстановлена крепость Муберек-Кермен (теперь Шингерей). Позднее было начато и восстановление Казы-Кермена.
Запорожцы-сечевики, пользуясь открытием Днепра, совершили в этом году несколько крупных походов. В апреле большой отряд казаков (по одним сведениям 500 сечевиков, по другим - 2 000 сечевиков и 2 000 наемников Мазепы) захватил 9 турецких судов у Очакова. Позднее другой отряд (300 - 340 сечевиков) напал на Козлов (Гезлев, Евпатория), но на обратном пути почти целиком попал в плен. Вышедшие в море в конце июня сечевики (1 740 чел. на 40 судах) захватили 2 турецких судна у Кафы.
Венское соглашение
Кампания 1695 года способствовала активизации русской внешней политики и росту заинтересованности во взаимодействии с союзниками. К этому времени Россия, фактически входившая в антитурецкую Священную лигу, формально была связана союзным договором только с Польшей. Активизировавшее боевые действия против турок петровское правительство очевидно желало упрочить позиции России в рамках союзной коалиции. Еще более актуальным этот вопрос сделала смерть Яна Собеского летом 1696 года и возникшая, в связи с этим, угроза выхода из войны Польши.
В декабре 1695 года в Вену в качестве посланника был отправлен дьяк Посольского приказа Козьма Нефимонов. Целью его миссии было заключение прямого наступательно-оборонительного союза с императором на срок от 3 до 7 лет.
До Вены посланец русского царя добрался в марте 1696 года. Переговоры с цесарцами оказались весьма сложными и затянулись в итоге на целый год. Затягиванию переговоров способствовали сложности коммуникации с Москвой*, ошибки самого посланника и разного рода внешние обстоятельства.
Так, по настоянию представителей Венеции, в изначально двусторонний договор была, качестве участницы, включена и Республика Св. Марка. Позднее, по инициативе цесарцев, в соглашение решили было включить и Польшу, но затем от этого отказались.
На ход переговоров влияло и положение на фронтах. Так, цесарцы, изначально желавшие заключения договора на максимальный срок (в идеале - бессрочного), после завершения войны Аугсбургской лиги и высвобождения сил имперской армии на западе, радикально переменили позицию и настаивали теперь на минимальном трехлетнем сроке.
Договор был подписан 29 января / 8 февраля 1697 года. В Москве его текст был получен 28 февраля 1697-го, однако обмен ратификационными грамотами завершился лишь 12 января 1698 года.
В соответствии с договором стороны обязались вести войну с турками, поддерживая и информируя друг друга и не заключая сепаратных договоров с врагом. Прежние обязательства сторон друг перед другом и перед другими державами (Польша) сохранялись. Договор заключался на 3 года (с момента подписания) и мог быть продлен.
По итогам венских переговоров дипломатическая конструкция антитурецкой коалиции выглядела следующим образом:
1) «Святой союз» между папой римским, императором, Венецией и Польшей (бессрочный — до победы)
2) «Вечный мир» с оборонительным (без срока действия) и наступательным (до конца войны) союзами между Россией и Речью Посполитой
3) «Венский союз» между императором, Россией и Венецией (на 3 года, с возможной пролонгацией).
* Цикл «запрос посланника из Вены - получение инструкций из Москвы» занимал от 2-2,5 (когда Петр был в Москве) до 3-3,5 (когда царь был под Азовом) месяцев.
***
Важнейшим результатом кампании стало взятие Азова. Падение города существенно ухудшало связь Крыма с Кубанью и Черкесией и открывало донским казакам свободный выход в море (для предотвращения которого туркам пришлось спешно усиливать оборону Керченского пролива).
Боевые действия в 1697 - 1700 годах
скрытый текст
После всплеска в 1695 - 1696 годах военная активность русского государства снова пошла на спад и оно фактически вернулось к оборонительной стратегии. Как отмечают авторы, смена стратегии была не сознательным решением, а результатом сочетания нескольких факторов - отъезда Петра в Великое посольство, смены командования Белгородского разряда и активизации противника, пытавшегося вернуть потерянное.
1697 год
Донской район
В донском районе русское правительство ожидало попытки отбить Азов и к городу была послана большая армия - Большой полк под командованием того же А. С. Шеина.
[По наряду в состав армии должны были входить 5 429 московских чинов, 990 чел. смоленской шляхты, 3 152 копейщика и рейтара (в трех полках), 9 695 выборных солдат (в полках Лефорта и Гордона), 4 500 солдат (в 5 полках), 5 817 стрельцов (в 6 московских и 2 смоленских полках), 1 067 слободских казаков Острогожского полка, 3 825 донских казаков, 3 000 калмыков, всего 37 475 человек (без донцов и калмыков - 30 650). Фактически на службу явилось 33 779 человек]*.
Шеин пришел к Азову 5 июня и практически без дела простоял здесь до начала августа. Турки его не беспокоили, ограничившись устройством нового города Ачуева в низовьях Кубани. Единственным заметным событием стал крупный бой с татарами 20 июля. По реляции самого Шеина к русскому лагерю пришло будто бы 16 000 татар, черкесов, янычар и проч., бой с которыми («зело велик и страшен») окончился решительной победой русских. Как отмечают авторы, по сообщению того же Шеина, в «великом и страшном» бою русские не потеряли ни одного человека, а татары ок. 70 чел. По оценке П. Гордона силы противника не превышали 6 000 чел., а сам бой был скорее демонстрацией.
Оборона Тавани
На Черте татары весной большими силами (нураддин и 6 000 татар) атаковали Тор, спалив его посад. Отряды татар приходили также под Валки и Новый Перекоп.
В Днепровском районе русское командование планировало большой поход на Очаков. Способного и опытного Б. П. Шереметева на посту воеводы Белгородского разряда сменил бесталанный боярин кн. Яков Федорович Долгоруков. Товарищами его были младший брат, стольник кн. Лука Федорович Долгоруков (назначенный севским воеводой) и курский воевода думный дворянин Семен Протасьевич Неплюев. Общие силы Долгорукова и Мазепы авторы оценивают примерно в 60 000 человек (по тридцать тысяч и у того и у другого).
Изначально поход планировался как «водяной морской». С. П. Неплюев должен был принять в Брянске суда и припасы и передать их у Переволочной Мазепе и Долгорукову. Отсюда последние должны были идти на судах до Очакова.
Однако встретившиеся 18-19 апреля Мазепа и Долгоруков решили вместо Переволочной идти к Новобогородицку и грузиться на суда уже здесь. В целом, как отмечают авторы, при оценке кампании складывается впечатление, что и гетман и белгородский воевода вообще в бой не рвались, опасаясь неудачи и не желая за нее отвечать.
Соединившись на Коломаке 26 мая, 24 июня Мазепа и Долгоруков пришли к Новобогородицку. Л. Ф. Долгоруков был с частью сил (4 565 человек) оставлен на Коломаке «для охранения» от татар.
Неплюев пришел к Кодаку уже 2 июня, однако перевод судов через днепровские пороги вылился в затяжную эпопею, завершившуюся лишь 15 июля, когда воевода «объявил» суда Долгорукову (часть судов и лодок была потеряна при прохождении порогов). Основные силы армии к этому времени уже перешли на правый берег Днепра и стояли ниже порогов.
18 июля все еще стоявшие у порогов Мазепа и Долгоруков получили известия о появлении татар у Тавани. По «татарским вестям» Долгоруков отправил подкрепления младшему брату на Коломак (1 200 чел.) и запросил (для него же) подкреплений у А. С. Шеина, стоявшего под Азовом. Подкрепления были посланы и к Тавани, за ними к городку двинулись с основными силами, следующими частью сушей, частью на судах, и сами гетман и воевода.
25 июля Мазепа и Долгоруков пришли к Казы-Кермену и занялись укреплением Тавани.
Османы в кампании 1697 года планировали восстановить свои позиции в низовьях Днепра. В Очаков был направлен силистрийский [т. е. очаковский же] паша Юсуф со значительными силами. Ему поручалось восстановить запущенные укрепления Очакова, а затем идти под днепровские городки.
Устроив в Очакове «новый город» Юсуф-паша по левому берегу Днепра двинулся к Тавани.
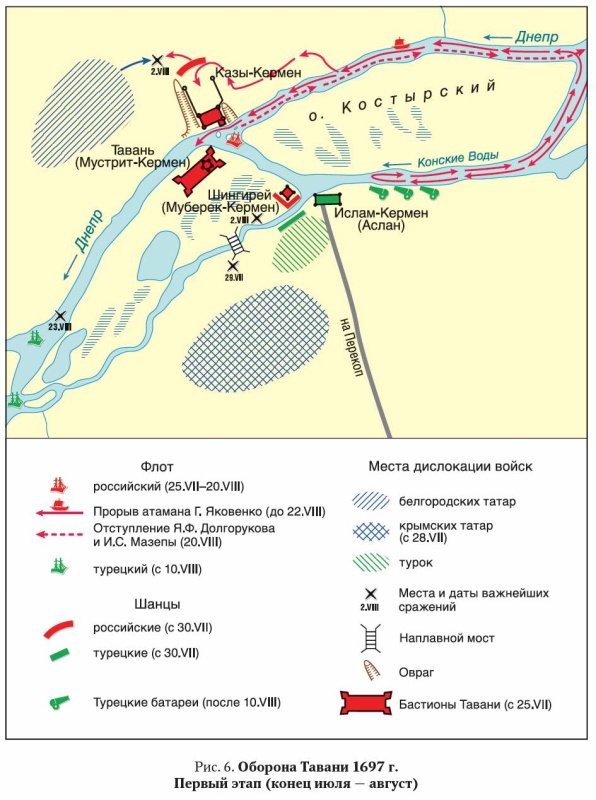
30 июля к Тавани подошли основные силы турок и крымского хана, вставшие на левом берегу у Ислам-Кермена. «Ошанцевавшись» и установив артиллерийские орудия, турки принялись обстреливать Шингерей из мортир, пушек и «мелкого ружья». 2 августа турки и татары перешли было на Таванский остров у Шингерея, но были отбиты. В тот же день по правому берегу Днепра под Казы-Кермен пришла Белгородская орда во главе с сераскиром Гази-Гиреем. Ногайцы выманили из шанцев и разгромили стоявший у Казы-Кермена отряд нежинских казаков, потерявший ок. 200 человек.
10 августа к Тавани пришла турецкая флотилия поднявшаяся вверх по Днепру от Очакова.
Мазепа и Долгоруков видимо не особенно верили в удержание Тавани и вскоре решили отступить, ссылаясь на нехватку припасов. Последнее, как отмечают авторы, вызывает большие сомнения - припасы собирались для долгого похода к Очакову.
20 августа гетман и белгородский воевода оставили район Тавани, уйдя вверх по Днепру. Морские суда были оставлены частью в Сечи, частью в Тавани (последние позднее разбиты турецкой артиллерией). [Долгоруков к началу сентября пришел на Коломак, где соединился с братом]**.
В Тавани был оставлен думный дворянин Василий Борисович Бухвостов, сидевший здесь воеводой и ранее. С ним было оставлено ок. 5 000 чел. - 2 231 русский служилый человек (Курский солдатский полк, бывший в гарнизоне и раньше, новоприборный солдатский полк и по половине московских стрелецких полков Василия Елчанинова и Михаила Кривцов), примерно столько же казаков Мазепы и 500 сечевиков, которым было дано жалованье «чтоб им сидеть в городе неотступно до весны».
Шингерей и Казы-Кермен были при отходе главной армии брошены. Казы-Кермен Бухвостов успел 21 августа снова занять гарнизоном, однако брошенный Шингерей был занят турками и использован при осаде Тавани.
4 сентября в Тавань прорвались посланные гетманом и Долгоруковым подкрепления - ок. 1 800 чел. (491 стрелец с полковником Василием Елчаниновым, 340 казаков Мазепы и 957 сечевиков с кошевым атаманом Григорием Яковенко).
Дождавшись подхода подкреплений турки перешли к решительным действиям. 6 сентября 36 турецких судов поднялись по Днепру выше Тавани, блокировав крепость и обстреливая русские позиции. У Тавани активно рылись траншеи и оборудовались новые батареи.
8 сентября был начат обстрел Казы-Кермена. Здесь русский гарнизон оборонялся в малом городе / замке, уцелевшим после осады 1695 года. 9 сентября турки пошли на штурм замка, но были отбиты. 14 сентября осаждающим удалось обрушить часть стены взрывом мины, однако новая попытка штурма также была отражена. К 28 сентября турецкая артиллерия снесла до подошвы половину стены замка, однако новых попыток штурма турки отчего-то не предпринимали и 28-го числа совсем ушли от Казы-Кермена.
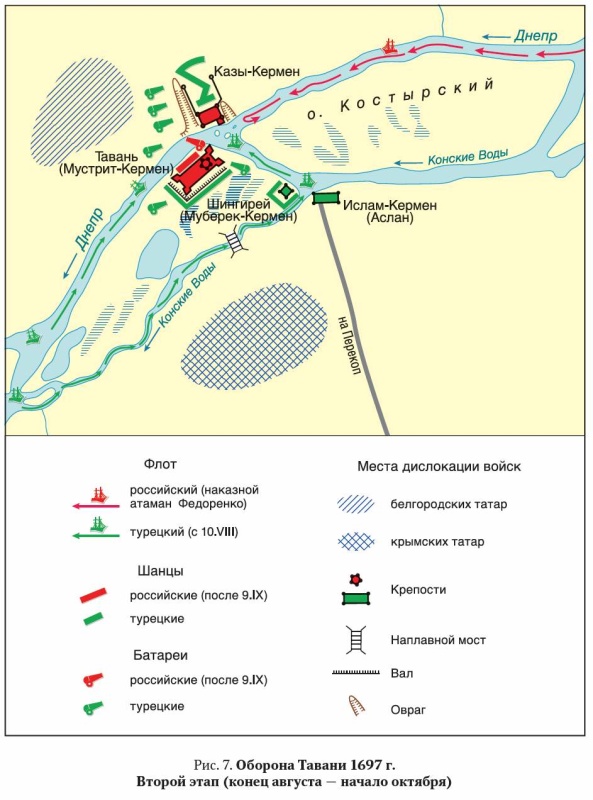
В конце сентября к Тавани вновь пытались прорваться запорожцы (800 человек с наказным кошевым Федоренко), однако турецкая флотилия не дала им пройти к городу.
Под самой Таванью турки к концу сентября вывели траншеи в ров и 25 сентября, взорвав 2 мины, пошли на приступ. Мины оказались взорваны неудачно и причинили большой ущерб самим осаждающим, однако османы упорно атаковали и трижды «з знаменами взбегали» на стену, каждый раз отбрасываясь защитниками. Два из трех водруженных турками знамен были захвачены обороняющимися.
Провал штурма не заставил османов отступиться, осадные работы продолжались еще две недели. Лишь в ночь с 9 на 10 октября, узнав о подходе русской армии противник начал отступать и 11 октября покинул окрестности днепровских городков.
А. С. Шеин, узнав о положении на Днепре, уже 3 августа приказал П. Гордону (8 363 чел., 23 пушки) спешно идти к Валуйкам, а оттуда - на соединение с Мазепой и Долгоруковым. Помимо этого подкрепления были посланы на Черту - в Новый Оскол, Изюм, Царев-Борисов, Маяцкий и на Коломак.
23 сентября в Опошне [у р. Мерло] состоялся военный совет [Долгоруков, Мазепа, Гордон]** решивший послать к Тавани 20 или 30 тыс. служилых людей и казаков. Царскими служилыми людьми должны были командовать П. Гордон и Л. Ф. Долгоруков. Турки, впрочем, ушли от Тавани задолго до подхода русских войск [Гордон и Л. Ф. Долгоруков 15 октября был только в районе Орели]**.
В обороне Тавани участвовало, в общей сложности, ок. 6 500 человек (по отписке Бухвостова - 6 260), погибло (согласно той же отписке) 602 человека, ранено было 1 185.
Относительно сил противника имеются разные сведения. Максимальная оценка принадлежала воеводе Бухвостову - 41 800 турок с 4 пашами: «с пашею с Ысупом — янычан и спаев и чжебеджей конных и на судах семнатцать тысяч, с пашею с Алеем — янычан волохов, сербен и мылтян восмь тысяч, да на каторгах, на голетах, на фуркатах с пашею Мемет Дербишем — три тысячи восмьсот, с пашею з Гасаном, которой зимовал в Ачакове, — тринатцать тысяч», пушек с ними «в шанцах за турами — больших ломавых дватцать три пушки да пять
мозжер, а на каторгах и на голетах — больших ломавых по пять, малых по десяти
пушек, на фуркатах — по пяти пушек на судне» плюс 100 тысяч татар с ханом и сераскером. Потери противника Бухвостов оценивал в 4 500 убитыми (4 000 под Таванью и 500 под Казы-Керменом).
Волохи-перебежчики сообщали, что турок было 23 000 чел. - 8 000 с Юсуфом-пашой, 5 000 с упомянутым Алеем и 10 000 с Келчауш-пашой / Мемет Дербишем и флотом. Помимо этого с ханом пришло 4 000 сейменов.
Посольский приказ в официальном отчете силы турок оценивал в 30 000 чел., Белгородской орды - в 10 000 чел. турецкий флот - в 38 боевых (22 галеры и 16 галиасов) и 22 грузовых судна. Потери турок оценивались в 4,5 тыс. человек.
По мнению самих авторов, пехоты враг имел вероятно от 27 до 32 тыс. человек (турки плюс крымские сеймены), конницы - 30-35 тыс. человек (20 тыс. крымцев и 10 тыс. Белгородской орды).
Одним из последствий неудачной осады Тавани стала смена крымского хана. Из под Тавани Селим-Гирей был отозван в Стамбул «для некакого совету». Его место занял калга Девлет-Гирей (официально правил с 1699 года).
* Н. Г. Устрялов История царствования Петра Великого. Том III.
** П. Гордон. Дневник. 1696 - 1698.
1698 год
Днепровский район
Русское правительство не желало отказываться от активных действий - уже 1 декабря 1697 года Долгорукову и Мазепе было приказано в следующем году вновь идти к Тавани и Очакову. Товарищами Долгорукова вновь назначались Л. Ф. Долгоруков и С. Н. Неплюев, к ним добавился также чугуевский воевода Степан Коробьин.
В феврале 1698 года татары вновь большими силами (калга Шахбаз-Гирей и 10 - 12 тыс. татар) атаковали Изюмскую черту. Ущерб оказался весьма значительным - было угнано до 10 тыс. человек полона.
Зимой-весной от языков и перебежчиков были получены сведения о новом походе османов к Тавани. Совещавшиеся 28 - 31 марта в Путивле Мазепа и Долгоруков решили в этом году снова идти к Тавани, выслав вперед себя подкрепления для тамошнего гарнизона.
Выйдя из Белгорода 15 мая, кн. Я. Ф. Долгоруков в конце мая соединился с младшим братом и Неплюевым на Коломаке, а в июне - с Мазепой. Защищать Черту был оставлен С. Коробьин (3 466 чел.). В конце июня, «по татарским вестям», к нему на подмогу был послан Л. Ф. Долгоруков с Мценскими солдатским и рейтарским полками и слободским Острогожским полком.
К Тавани соединенная армия пришла только 21 июля.
Турки и татары в этом году видимо действительно собирались идти к Тавани. По полученным от языков сведениям в Очаков к этому времени пришли силистрийский паша Юсуф (12 000 чел.) и османская эскадра (ок. 70 разнотипных судов, 9 606 человек). Крым обещал выслать в поход 20 000 конницы и несколько тысяч пехоты. Всего противник, таким образом мог собрать до 45 000 чел.
Логика дальнейших событий из текста неясна. Как пишут авторы, узнав о намерении Долгорукова и Мазепы идти к Перекопу (?!)*, крымский калга потребовал от турок перебросить войска Юсуф-паши в Крым для защиты полуострова. 29 июня татары и турецкая конница атаковали лагерь стоявших обозом Мазепы и Долгорукова и были отбиты после многочасового боя. 3 августа Долгоруков и Мазепа решили к Перекопу не ходить, а вместо этого послать к Очакову сборное войско на судах (примерно 10 000 русских служилых людей и казаков), однако «поход окончился безрезультатно, поскольку воеводы не рискнули пройти между Очаковым и Кинбурном».
Так или иначе, турки и татары в этом году к Тавани не пошли, а Мазепа и Долгоруков, постояв какое-то время у Ислам-Кермена, вернулись назад.
Относительно численности русской армии в этом походе имеются разные сведения. [По наряду у Долгорукова должно было видимо быть около 60 000 человек (включая св. 2 000 донцов и калмыков), а со слободскими? казаками 81 000 - 84 000 человек. Фактически на 28 июля имелось ок. 40 000 человек]**.
* Ранее в тексте о таком намерении не сообщалось.
** Петрухинцев Н. Н., Никитина А. А. Последний натиск на степь в XVII столетии: военная кампания 1698 г. как финал «петровской войны» с Турцией
Донской район
В Азов в этом году был послан Рязанский полк А. П. Салтыкова, [по наряду - 12 417 человек]*фактически, на 5 июня - 3 984 человека. Противник его не беспокоил.
Дабы воспрепятствовать походам донских казаков на Черное море в Керчь была послана турецкая флотилия (13 галер), все лето простоявшая в Керченском проливе.
В регионе продолжалась и обычная малая война всех со всеми.
* Петрухинцев Н. Н., Никитина А. А. Последний натиск на степь в XVII столетии: военная кампания 1698 г. как финал «петровской войны» с Турцией
1699 - 1700 годы
7 / 17 октября 1698 года было объявлено о перемирии между турками и членами антитурецкой коалиции - на время проведения переговоров в Карловице (Сремских-Карловцах). 14 /24 января 1699 года Россия заключила с турками двухлетнее перемирие.
Активных боевых действий в это время стороны уже не вели, однако малая война продолжалась повсеместно.
***
Таким образом, на завершающем этапе войны в боевые действия на «русском фронте» оказалась в значительной мере вовлечена сама Османская империя. Турки потеряли Азов и нижнеднепровские крепости, попытки вернуть последние провалились, однако османам удалось остановить дальнейшее продвижение русской армии и удержать Очаков.
Война на Северном Кавказе и в Северном Прикаспии
скрытый текст
Под Северным Кавказом тут у авторов понимается в основном то, что во времена Кавказской войны именовалось Левым флангом - пространство между Кабардой и Каспием.
Османские войска здесь совершенно не появлялись, крупные силы крымцев появлялись трижды - в 1688 году калга приходил разорять терские городки; в 1689 году крымцы осаждали Терки; в 1697 году крымцы, теперь возглавляемые калгой, снова осаждали Терки. Детали этих походов и осад практически неизвестны. Помимо этого кто-то из крымских Гиреев - калга, нураддин, султаны, почти постоянно стоял в Кабарде, обеспечивая лояльность местных черкесов.
Из местных владетелей наибольшие проблемы России создавал тарковский шамхал Будай, формально числившийся в русском подданстве, но давно не получавший государева жалованья. Шамхал постоянно захватывал выброшенные на берег штормами торговые русские и персидские суда, игнорируя требования русских властей о возврате людей и товаров, а с 1687 года начал уже и прямо нападать на русские владения, посылая людей под Астрахань и в другие места. В 1689 году шамхал вместе с крымцами и черкесами осаждал Терки. Единственным желанием шамхала было при этом возобновление государева жалованья.
В 1688 году в регионе впервые появляются беглые донские казаки-старообрядцы. Часть из них поселилась на Куме (в урочище Можары - нынешний Буденновск) во владениях князя Большой Кабарды Мисоста Казыева (вскоре большая часть поселенцев ушла отсюда к шамхалу), а большая часть во владениях шамхала, на острове Аграхань. Устроившись на Аграхани, раскольники занялись морским разбоем (1690 год) и весьма преуспели - морское сообщение с Терками оказалось фактически прервано, а русско-персидская торговля терпела большой урон. На промысел в море ходило до 5 раскольничьих стругов (по 70 человек на каждом), т. е. всего до 350 человек, включая 50 людей самого шамхала. В октябре 1691 года обнаглевшие раскольники пытались даже захватить посланного в Терки морем нового воеводу - Василия Нарбекова.
Дабы решить, наконец, этот вопрос русское правительство в 1692 году отправило шамхалу казну, одновременно послав какие-то войска на Аграхань. Шамхал согласился вывести раскольников с Аграхани - «с полтораста человек» из них пришли на Терек с повинной, остальные («человек с семьсот, кроме жен и детей») ушли на Кубань, но по дороге были атакованы и разгромлены на Сунже кем-то из местных владельцев (сентябрь 1692 года). Детали этого разгрома, число побитых и уцелевших раскольников, состав победителей и проч. чрезвычайно разнятся в показаниях разных свидетелей. В любом случае, какая-то часть раскольников уцелела и благополучно дошла до Кубани, соединившись с тамошними ахреянами.
Посылка казны шамхалу оказалась одноразовым действием и уже в 1693 году он вернулся к прежним занятиям. Вскоре к шамхалу вернулась и какая-то часть раскольников, с весны 1694 года вновь занявшись морским разбоем. Постоянно на Аграхани жило теперь, впрочем, немного людей и большая часть раскольников видимо эпизодически приходила на промысел с Кубани. Окончательно справиться с морским разбоем русским властям удалось видимо лишь на рубеже веков, заведя в Астрахани морскую «яхтенную» флотилию.
В 1697 году шамхал вновь помогал крымцам осаждать Терки (безрезультатно).
В последние годы войны обострились отношения татар и Аюки. В 1696 разные группы ногаев, ранее подчинившихся калмыцкому хану (едисанцы и проч.), откочевали на Кубань и передались под власть Крыма. Аюка ответил на это масштабными походами на Кубань. Так, на рубеже 1697 - 1698 года на Кубань ходили сыновья хана Гунджаб и Санджаб с 6 000 калмыков, отогнав у ногаев несколько десятков тысяч лошадей и взяв 200 пленных.
Сам Аюка, вместе с племянником Мункотемир и 20 000 калмыков в конце 1697 года ходил в верховья Кубани и Кабарду, громя ногаев и черкесов и отогнав 17 000 лошадей.
В целом, к концу войны влияние Крыма в регионе снизилось, часть черкесских владетелей и традиционно многовекторных ногаев выражала даже желание перейти в русское подданство. В 1698 году замириться с русскими возжелал и шамхал. Существенно возросло влияние Аюки, в начале войны ограничивавшегося нападениями на наиболее слабых кумыкских владетелей, а к концу 1690-х предпринимавшего уже масштабные походы против соседей.
Русское правительство здесь придерживалось, по мнению авторов, «сугубо оборонительной стратегии, стремясь сохранить имеющиеся позиции и лишь отвечая на нападения противника».
Война и идеология: распространение информации и презентация событий в публичном пространстве
скрытый текст
Как отмечают авторы, война 1686 – 1700 годов была первым в истории России конфликтом материалы о котором российские власти систематически передавали европейским газетчикам. Эта практика ненадолго прервалась после переворота 1689 года, но позднее возобновилась. При этом публикации зарубежной печати использовались и во внутриполитической борьбе. Так, в 1680-х статьи иностранных газет, основанные на переданных кн. В. В. Голицыным материалах, переводились, включались в куранты и зачитывались в Думе. Информация о военных усилиях русского государства распространялась также через русских резидентов за границей, иностранных в России и проч.
Население самой России информировалось о военных событиях традиционным способом - сообщения разного рода зачитывались в церквах и выкликались на торгах. С 1695 года сведения о военных действиях начинают распространяться также посредством рукописных сборников. Как отмечают авторы, соответствующие тексты основывались на официальных документах, а инициатором их распространения был видимо близкий в то время к Петру думный дьяк Андрей Виниус.
Из прочих нововведений можно отметить триумф устроенный в Москве возвращавшемся после взятия Азова войскам. За Большим каменным мостом через Москву-реку была возведена триумфальная арка, с которой А. Виниус читал стихотворные поздравления Ф. Я. Лефорту и А. С. Шеину. По другой версии, поздравления «по письму» зачитывал, через «великую жестяную трубу» с раструбом, вставший на арке «в скрытном месте» подьячий Посольского приказа И. Герасимов, «и та ево речь всему народу была слышна и явна будто гром гремел».
Российская дипломатия на завершающем этапе войны. Константинопольский мир
скрытый текст
Взятие Азова породило у Петра надежды на успешное продолжение войны. В марте 1697 года в дипломатическое турне по Европе отправилось Великое посольство, основной задачей которого было укрепление и расширение антитурецкого союза. Довольно быстро выявилась тщетность этих надежд. Катастрофический разгром османской армии при Зенте (11 сентября 1697-го) сделал поражение турок неизбежным, а надвигающийся конфликт вокруг испанского наследства, требовал скорейшего высвобождения сил империи для борьбы на западе. Этого же хотели будущие союзники Габсбургов в Войне за испанское наследство, Англия и Голландия, выступившие посредниками в переговорах с турками. Предварительные консультации о заключении мира начались уже в декабре 1697 года.
Неизбежность скорого замирения союзников с турками вскоре стала ясна и Петру, посетившему, вместе с Великим посольством, Вену (июнь - июль 1698 года). Сам Петр к этому времени еще не определился с будущим турецкой войны - продолжать ли воевать с османами в одиночку или добиваться своих целей на совместных мирных переговорах с Портой. Так и не сделав окончательного выбора, царь решил оставить русского представителя для участия в предстоящем мирном конгрессе.
Этим представителем стал один из руководителей Великого посольства, опытный дипломат* думный дьяк Прокофий Богданович Возницын, произведенный в специально придуманный чин «думного советника». Возницыну были даны официальные полномочия для заключения мирного договора и неофициальная инструкция саботировать работу конгресса.
Мирный конгресс открылся в октябре 1698 года и проходил в лагере устроенном в полях у Карловиц (Сремских-Карловиц). Переговоры с турками представители четырех держав-союзниц (Габсбурги, Венеция, Польша, Россия) вели раздельно и не напрямую, а посредством медиаторов-посредников (англичан и голландцев).
Возницын, войдя в прямой контакт с руководством турецкой делегации, в рамках данных ему инструкций, пытался сорвать конгресс - туркам было неофициально предложено заключить с Россией временное перемирие, продолжив войну с другими державами. Успеха эта попытка, впрочем, не имела.
Камнем преткновения в официальных переговорах с османами стала судьба днепровских городков - турки категорически настаивали на их возвращении. Поддержки у союзников в этом вопросе Возницын не нашел, времени на получение инструкций от Петра не имел (дать необходимую отсрочку союзники также не пожелали) и предпочел ограничиться заключением временного перемирия. 14 / 24 января 1699 года между Россией и Османской империей было заключено перемирие на 2 года. Условия окончательного примирения должны были определиться на новых переговорах.
16 / 26 января были подписаны мирные соглашения между другими участвовавшими в войне державами. Габсбурги заключили с турками перемирие на 25 лет, получив Венгрию, Славонию и Трансильванию. Польша подписала с турками Вечный мир, получив назад Подолию с Каменцом и Правобережную Малороссию. От имени Венеции был подписан предварительный договор (позднее утвержден правительством республики) - венецианцы получали Далмацию, Ионические острова и Морею. Все союзники России при этом поступились частью контролируемых территорий - поляки, в частности, вернули османам ряд крепостей в Молдавии.
Петр к весне 1699 года определился в целом с перспективами своей внешней политики - воевать было решено со шведами, а с турками, соответственно, мириться. Летом 1699 года в Стамбул было отправлено новое русское посольство, во главе с думным дьяком Емельяном Игнатьевичем Украинцевым и дьяком Иваном Чередеевым.
Послов на этот раз отправили морем - на свежепостроенном на Дону корабле «Крепость» (46, по другим сведениям 36 пушек, экипаж большей частью из иноземцев + 111 преображенцев и семеновцев).
В августе 1699 года «Крепость», сопровождаемая ведомой лично Петром Азовской флотилией пришла к Керченскому проливу. После двухнедельных переговоров с османами последние согласились пропустить посольский корабль в Стамбул и 6 сентября он прибыл в турецкую столицу.
Переговорная позиция России сводились к следующему: заключение мира или перемирия на длительный срок; сохранение всех занятых русскими территорий; прекращение выплаты поминок Крыму; обмен пленными; взаимная свобода торговли; свобода православного исповедания; передача Гроба Господня православным. Последние три позиции рассматривались как дополнительные и по ним допускался компромисс.
Турки, в свою очередь, официально желали возврата к довоенному положению по всем позициям.
Главным камнем преткновения на переговорах вновь стали днепровские городки - турки требовали их возврата в полной сохранности, русская сторона отдавать поначалу отказывалась вообще.
Переговоры проходили в сложнейших условиях - с трудом преодолевавшему сопротивление оппонентов Украинцеву приходилось одновременно отбиваться от Петра, жаждавшего поскорее начать войну со шведами. Так, получив от Петра в феврале 1700-го указание согласиться на передачу туркам днепровских городков, Украинцев его фактически игнорировал, добившись в итоге приемлемого для России компромисса.
Итогом трудных переговоров стало заключение 3 / 14 июля 1700 года Константинопольского мирного договора.
По условиям договора стороны заключали перемирие на 30 лет. Город Азов с прилегающими территориями («старые и новые городки, и меж теми городками лежащая… земля… вода») переходил к России. Земли к востоку от Азова на 10 часов «ездою конскою обыкновенным… обычаем» также переходили к России. Территория днепровских городков возвращалась туркам, однако сами городки полностью разрушались (в течении 30 дней после ратификации договора) и строительство новых укреплений здесь запрещалось.
Часть крымских и турецких земель Северной Таврии объявлялась буферной зоной - здесь разрешались свободные промыслы и запрещалось строительство новых поселений.
Выплата поминков Крыму отменялась, запрещались взаимные набеги, устанавливались условия обмена пленными.
Вопросы свободы торговли, свободы веры и Гроба Господня были отложены на будущее.
Помимо прочего, как отмечается, договор заключался напрямую с султаном, без участия Крыма, дипломатический статус которого соответственно резко понижался - он переставал быть стороной конфликта.
В Москве о заключении мира узнали 9 августа, 16 августа сюда прибыли гонцы от Украинцева с официальными бумагами и копией трактата, 18 августа Петр официально объявил о мире с турками и на следующей же день объявил войну шведам.
Сами посланники вернулись в Москву 10 ноября. Ратификационная «утвердительная грамота» была подписана 30 декабря 1700 года, посольство кн. Д. М. Голицына, везущее ее в Стамбул, покинуло Москву 19 января 1701 года. До Адрианополя, где проводил лето султанский двор, Голицын добрался в мае, 17 июня русская ратификационная грамота была вручена султану, ответную османскую, датированную 25 июля, Голицын получил 7 августа. В Москву она прибыла только в январе 1702 года.
Приказы об оставлении днепровских городков были высланы на места уже в августе 1700 года, однако из-за задержки с ратификацией мирного договора их эвакуацию отложили до лета 1701-го. В сентябре того же, 1701 года, на левом берегу Днепра, напротив Сечи, была устроена новая крепость - Каменный Затон [на том же месте, что и голицынская?].
Осенью 1704 года было проведено межевание границы к востоку (и видимо к западу) от Азова. Осенью 1705 года было проведено разграничение к западу от Днепра.
* В 1668 году ездил гонцом в Вену и Вененцию, в 1671 - 1676 ездил с дипломатическими поручениями в Польшу, в 1681 - 1682 годах возглавлял посольство в Стамбул, в 1686 году участвовал в подготовке Вечного мира с Польшей, в 1688 - 1689 годах был резидентом в Польше.
***
Как отмечают авторы, «положения Константинопольского мира 1700 г. оказали значительное влияние на весь Черноморский регион и граничащие с ним страны. Для России и Османской империи впервые устанавливалась общая сухопутная граница, что создало новую «модель взаимоотношений», в рамках которой предпринимались попытки установить «пограничный режим без участия таких второстепенных субъектов международных отношений, как Крымское ханство и Войско Запорожское Низовое». По итогам мирного соглашения наиболее «пострадавшей» стороной оказалось Крымское ханство, исключенное, несмотря на активнейшее участие в боевых действиях, как из переговорного процесса (и, соответственно, лишенное возможности влиять на выработку условий договора), так и из системы его субъектов (сторон, заключающих
трактат). Результатом стало снижение статуса крымского хана до уровня правителя вассального регионального полугосударственного образования, с которым вели переговоры такие же руководители приграничного региона: азовский воевода (губернатор) или малороссийский (украинский) гетман».