EricMackay4 читателя тэги
Автор: EricMackay
#СТ + #книги с другими тэгами
* * *
«Кто в море не ходил, тот Богу не маливался». Промысловая колонизация Мурманского берега и Новой Земли крестьянами и монастырями Поморья в XVI - XVIII вв.
Совсем мне не понравилось. Материала вроде бы набрано много, но какой-то ясной картины в общем не создается. Четверть текста историография с источниками. Есть цветные иллюстрации, карт нет. Полиграфия неплохая.
скрытый текстРайоны колонизации и промышленники
скрытый текст
Под Мурманским берегом понимается побережье Кольского полустрова от норвежской границы до мыса Святой Нос. Он располагается в субарктической зоне и входит в тундровую зону, однако благодаря Гольфстриму прибрежные районы берега богаты рыбой - до 150 видов, из которых 20 - промысловые. Из последних основное значение имели треска, пикша, палтус и семга. Рыболовство здесь существовало с древнейших времен, русские рыбные промыслы начали развиваться с XVI века.
Мурманский берег делился на два промысловых района - западный Мурманский конец (от Варангер-фьорда до западного побережья Кольского залива) и восточный Русский конец (от восточного побережья Кольского залива до мыса Святой Нос).
Первые документальные свидетельства существования русских становищ (баз промысловых артелей) на Мурманском конце относятся ко второй половине XVI века. Писцовая книга Кольского уезда 1608 - 1611 годов фиксирует здесь уже 21 становище со 122 избами и 88 скиями (амбарами для хранения соленой рыбы). Большая часть становищ (17 из 21) располагалась на п-ове Рыбачьем, остальные в Мотовском заливе. Число изб в крупнейших становищах доходило до 21, ский - до 13. К крупным становищам (более 5 изб) относилось 9 из 21.
В более поздних документах XVII века встречаются лишь отрывочные сведения о местных промыслах. В таможенных книгах 1703 - 1704 годов упоминаются 14 местных становищ (в т. ч. 7 на п-ове Рыбачьем и 5 в Мотовском заливе). На 1710 год известны 15 становищ (в т. ч. 4 на п-ове Рыбачьем и 11 в Мотовском заливе), на 1760-е годы - 22, на 1796 год - 7.
В целом, в XVI - XVII веках промысловая деятельность концентрировалась в районе п-ова Рыбачий, что было связано с развитием международной торговли, в XVIII веке, с прекращением международной торговли, центр промысловой деятельности смещается ближе к Коле.
Промысловые становища на Русском конце также впервые упоминаются источниками второй половины XVI века. Писцовая книга 1608 - 1611 годов фиксирует здесь 30 становищ (74 избы, 2 скии), но большей частью мелких (только в 4 из 30 имелось по 5 - 6 изб) и рассредоточенных по всему побережью.
Другие сведений за XVII век опять же почти не имеется. В 1706 - 1728 годах в книгах судовых пошлин упоминаются, за вычетом двойных названий, 45 становищ, на 1766 год известны 18, на 1796 год - 26. Характер размещения становищ изменений не претерпел, а общее сокращение их числа к концу XVIII века возможно свидетельствует об упадке промыслов.
Среди северных монастырей первыми собственными промыслами на Мурманском берегу обзавелись местные Троицкий Печенгский и Пречистенский Кандалакшский.
Первое становище Печенгского монастыря упоминается уже в 1556 году. Писцовая книга 1608 - 1611 годов знает уже четыре - три на Рыбачьем и одно на Русском конце. В первой половине XVIII века монастырь владел 4 становищами - двумя на Рыбачьем и двумя на Русском конце.
Кандалакшский монастырь владел становищами с 1590 года, в начале XVII века и в первой половине восемнадцатого столетия также ведя промысел одновременно и на Мурманском и на Русском концах.
Николо-Корельский монастырь хозяйственную деятельность на Мурманском берегу вел со второй половины XVI века, но поначалу ограничивался лишь куплей - продажей рыбы и рыбопродуктов. В XVII веке монастырь начал участвовать в местных промыслах в качестве пайщика холмогорских артелей, а с 1680 года вел промысел самостоятельно (имея, впрочем, обычно лишь одно становище).
Во второй половине 1650-х на Мурманском берегу появился свежеоснованный Крестный Онежский монастырь. Он с ходу получил некие рыбные ловли Антониево-Сийского монастыря в Кольском уезде, затем к нему был приписан Троицкий Печенгский монастырь, а в 1658 году обитель обзавелась уже собственным становищем в районе Териберки (Русский конец).
В 1664/65 промысел на Мурманском берегу начал Соловецкий монастырь, лишившийся ранее части своих промысловых угодий в пользу вышеупомянутого Крестного. В 1665 - 1698/99 годах монастырь получил в виде вкладов ряд становищ на Русском конце, а в XVIII веке вел промысел в основном на Кильдине.
Антониево-Сийский монастырь вел промысел на Русском конце со второй половины XVII века, довольствуясь лишь одним становищем.
Холмогорский архиерейский дом в 1685 году царским указом получил в вотчину Веселкину губу на Русском конце. Помимо самого архиерейского дома здесь вели промысел его приписные монастыри - Спасо-Новоприлуцкий и Михайло-Архангельский. Последний в XVIII веке имел и собственное отдельное становище. К архиерейскому дому в конце XVII века был приписан и Троицкий Печенгский монастырь со всеми его промыслами.
Имеются также сведения об участии в промысле двух небольших северных монастырей - Богословского Сефтренского и Преображенского Пертоминского. Первый еще в начале 1630-х годов упоминается как пайщик промысловой артели, а в 1706 - 1728 годах вел промысел в становище на Русском конце. Второй в 1691 - 1700 годах вел промысел на Русском конце в кооперации с одним из холмогорских промышленников.
О численности и составемурманских промышленников в XVI - XVII веков имеются лишь отрывочные сведения. Ведомости сбора судовых пошлин за 1706 - 1728 годы фиксируют здесь ежегодно от 5 до 158 крестьянских и посадских артелей и от 0 до 7 монастырских и, в общей сложности, от 32 до 328 промысловых судов (128 - 1 312 промышленников, из расчета 4 промышленника на судно). Подавляющее большинство артелей представляли т. н. Поморский берег Белого моря (Кемь, Сумский острог) - 54,2% и Подвинье - 29,2%. Примерно 19% от общего числа артелей участвовали в промысле регулярно, из года в год.
Территориальное распределение промышленников оставалось таким же и позднее - примерно половина промышленников представляла Поморский берег, вместе с жителями Подвинья составляя 80 - 90% промысловиков.
Монастырские промышленники большей частью представляли районы расположения соответствующих монастырей: соловецкие - Поморский берег, николо-корельские и холмогорские архиерейские - Подвинье и т. д.
Определенное участие в промысловой деятельности принимало также русское население Кольского полуострова. [Большая часть полуострова входила в состав Кольского уезда, часть побережья Белого моря - Терский берег, до 1775 года была частью Двинского. На большей части территории региона жили саамы, русское население занимало в это время только Терский и Кандалакшский берега Белого моря и сам город Кола.]
По писцовой книге 1608 - 1611 годов жители Кольского уезда составляли большинство среди владельцев становищ на Мурманском берегу, владея 103 из 155 становищ на Мурманском конце и 21 из 68 - на Русском. Из 124 владельцев 80 были жителями Колы и 35 - Кандалакши. Из 80 кольских владельцев 69 были местными посадскими людьми и девять - стрельцами. Общее число становищ в их собственности, впрочем, было невелико - 11? на Мурманском конце и 8 - на Русском [так в тексте].
К началу XVIII века кольские стрельцы составляли видимо уже большую часть местных промышленников - на 1704 год 92 из 100 кольских судов, промышлявших на Мурманском конце принадлежало местным стрельцам и только 8 - посадским. В том же году на Мурманском конце промышляло и 60 судов крестьян Кандалакшского берега. К концу XVIII века, с ликвидацией местного стрелецкого гарнизона, роль военных в промыслах сошла на нет.
На 1764 год из общего числа жителей уезда (русские волости и посад Колы) в мурманских промыслах участвовало примерно 22% (322 чел. из 1 447 взрослых мужчин и женщин) и 22% дворов (53 из 239). На 1785 год - уже 40% уездных ревизских душ (527 из 1 306), без учета самой Колы.
О возрастном составе промышленников можно судить по реестру выдачи паспортов крестьянам Соловецкого монастыря (1744 - 1757 годы). Большинство (от 48 до 88%) находилось в возрасте 16 - 35 лет, от 1 до 8% промышленников составляли подростки (11 - 15 лет), дети младше 11 лет почти не встречались, мужчины старше 50 лет также встречались редко. Дети и подростки выполняли в основном вспомогательные работы на становищах - распутывал снасти, разделывали рыбу, готовили пищу. Пая своего они не имели и получали вознаграждение либо деньгами (сколько заплатит промышленник), либо в натуральном виде - по рыбине от тюка. Среди организаторов и руководителей промыслов изредка встречались женщины.
Архипелаг Новая Земля располагается в арктической зоне, большей частью покрыт льдом и непригоден для жизни, однако здешние места богаты промысловым зверем - моржом, тюленем, нерпой. Документальные источники фиксируют присутствие здесь русских промышленников со второй половины XVI века. Промысел морского зверя велся в районе острова Южный, севернее промышленники не ходили.
Монастыри в местном промысле участвовали очень скромно. Пинежский Богородицкий Красногорский монастырь вел промысел у Новой земли во второй половине XVII века, отправляя за морским зверем 2 коча в летнее время. В 1701 году один из монастырских кочей разбился, была потеряна вся добыча, понесенные убытки видимо вынудили обитель прекратить новоземельский промысел.
Николо-Корельский монастырь вел промысел у Новой земли в 1690 - 1701 годах, прекратив его по неизвестным причинам (возможно из-за запрета навыход в море из-за начавшейся шведской войны).
Холмогорский архиерейский дом начал промысел здесь лишь в 1694 году, однако уже в 1695 году два из трех кочей дома разбились вместе с добычей, в 1696 году снова разбился один из трех холмогорских кочей, после чего видимо промысел у Новой земли был прекращен.
Определенных сведений о промысловых становищах на Новой Земле не имеется. Численность промышленников участвововавших в новоземельских промыслах неизвестна даже ориентировочно, однако несомненно была много ниже мурманской. О составе новоземельских промышленников в XVI - XVIII веках также полноценных сведений не имеется. Подробные сведения о территориальном происхождении промысловиков имеются лишь для артелей одного из промышленников конца XVIII века (1795, 1797 - 1799). Среди них явно преобладали жители Пинежского, Архангельского и Холмогорского уездов. Так, на 1795 год 48% промышленников представляли Пинежский и 31% - Архангельскийуезды, на 1797 год 24% промышленников представляли Пинежский, 22% Архангельский и 22% Холмогорский уезд и т. д. Монастырские промышленники также в подавляющем большинстве представляли Пинегу и Подвинье.
Инфраструктура промысловой колонизации
скрытый текст
Промысловые становища состояли из жилых и хозяйственных помещений. Жилые включали обычно избу / избы с сенями и поварнями, хозяйственные - скею (амбар для хранения рыбы), сальник - помещение для вытапливания и разливки рыбьего жира, амбары для хранения продуктов, снастей и проч. На части становищ имелись также бани. Монастыри обычно владели становищами единолично, крестьянские / посадские / стрелецкие всегда были в коллективной (паевой) собственности. В межсезонье монастырские становища охранялись нанятыми караульщиками - в основном из местных саамов.
Для промысла на Мурманском берегу использовались небольшие суда - 4-местные карбасы и шнеки. Для доставки припасов на промыслы и вывоза добытой рыбы использовались более крупные суда - лодьи, соймы, кочмары. В 1714 - 1719 годах вышла серия указов требовавших от местных судостроителей строить суда на западный манер и помимо традиционных лодей и пр. здесь появились «новоманерные» яхты, гукоры и донкшоты. Часть местных монастырей (Соловецкий, Кадалакшский Пречистенский) очередную петровскую дурь игнорировала, продолжая пользоваться судами старых типов. Указы 1730 и 1749 годов разрешили местным судостроителям вернуться к строительству прежних типов судов и к концу XVIII века среди крупных судов преобладали те же лодьи и кочмары.
Монастыри и отдельные промышленники имели собственные крупные суда (Соловецкий монстырь в XVIII веке - 8 штук). Промышленники своих крупных судов не имевшие договаривались о доставке припасов, вывозе рыбы и проч. с владельцами таких судов.
К Мурманскому берегу крупные суда обычно ходили два раза в сезон. Первый раз в мае-июне - доставляли на становища припасы и забирали весенний улов. Во второй половине августа - начале сентября они приходили снова - забирали летний улов и самих промышленников.
У монастырей с крупными судами к промыслам ходили монастырские приказчики, осуществлявшие общее руководство и морскими перевозками и промыслами. Приказчики назначались из числа монастырских старцев, монастырских слуг и служебников, архиерейских детей боярских (Холмогорский дом). Приказчики и поверенные могли руководить промыслом и в крестьянских артелях - при отсутствии на промысле хозяина и проч., однако такое случалось нечасто.
К Новой Земле ходили в основном на кочах, одномачтовых парусных судах с округлыми бортами, длиной до 21,3 м и шириной до 6,4 метров. Ближе к концу XVIII века коч видимо вытесняется другими типами судов - лодьей, «новоманерным» гукором и проч. Постоянных становищ на Новой Земле не имелось и все необходимое для промысла бралось с собой. Суда к Новой Земле обычно выходили в мае - июне.
Подготовка к промысловому сезону начиналась с осени - готовились суда, снасти, запасались продукты и соль для засолки рыбы, собирались артели, заключались разнообразные соглашения - о вывозе рыбы и т. д. В монастырях всем этим занимались соответствующие монастырские службы. Снасти, в частности, покупались монастырями у местных производителей.
Промысел велся артелями, хотя сам термин артель в источниках XVI - XVIII века практически не встречается - соответствующий коллектив именовался «промышленниками», «товарищами» или (по району промысла) «мурманщиками» и «новоземельцами».
Артели имелись как малые, соответствующие одной производственной единице (на Мурмане - карбасу), так и большие, включавшие несколько малых. Большие артели могли накануне или во время промысла создавать временные объединения. Так, мурманские артели объединялись в т. н. мойвенные артели для совместного лова мойвы, служившей наживкой для трески и палтуса. В новоземельской практике большие объединения назывались котляной.
Малая мурманская артель обычно состояла из 4 человек: кормщика-руководителя, тяглеца (отвечал за метание и вытягивание основной рыболовной снасти - яруса), весельщика (греб веслами во время забрасывания снасти) и наживотчика (наживлял крюки наживкой и снимал с них пойманную рыбу). К ним добавлялись упомянутые выше мальчики-зуйки, выполнявшие вспомогательные обязанности.
Малая новоземельская артель включала гарпунщика (обычно организатор артели или назначенное им лицо), носошников (помощников гарпунщика), забочешников (следили за ремнями которыми крепился гарпун и привязанными к ним поплавками-бочешками), кормщика и его помощников - полукормщика и полууженика.
Руководителем артели всегда был кормщик (иногда называвшийся карбасником), рядовые промышленники именовались обычно покручениками или «товарищами». У них имелась своя иерархия отражавшаяся и на размере пая: тяглец - весельщик - наживотчик.
В больших мурманских артелях на конец XVIII века обычно имелось не более 20 промышленников. Так, на 1796 год 48% артелей включали до 10, а 38% - до 20 промышленников. Из числа монастырских наиболее крупными были соловецкие - во второй половине XVII века монастырь отправлял на весенний лов от 16 до 32 промышленников, а в XVIII веке - по 16 - 24.
Новоземельские артели были крупнее, обычно включая более 10 промышленников на одном судне. Численность больших артелей могла доходить до полусотни человек. Так, поверенный Выгорецкого старообрядческого общежития С. А. Пушко в 1797 году отправил на промысел 49 промышленников на трех судах, Холмогорский дом в 1696 году послал на промысел 45 промышленников и т. д.
По форме организации артели могли быть единоличными (с одним хозяином-организатором) и складническими (несколько хозяев на паях). Помимо этого имелись артели организованные несколькими отдельными промышленниками, на равных участвовавшими в промысле своим трудом и средствами производства (судами и снастями). Артели такого типа встречались в основном у жителей Колы. Для новоземельских артелей характерно было присутствие в составе коллектива уженника - пайщика, лично участвовавшего в промысле.
Единоличные и складнические артели комплектовались в основном вольным наймом. Соловецкий и Крестный Онежский монастырь использовали также свои вотчинные ресурсы понуждая крестьян выставлять («избирать») промышленников из своей среды. «Избранные», впрочем, могли и отказаться идти на промысел, но обязаны были предложить вместо себя другие кандидатуры. Договорные отношения в крестьянских артелях оформлялись в основном устно, у монастырей - в письменной форме.
Расчет с артелью происходил по окончании промысла. Принцип распределения доходов был видимо общим для крестьянских и монастырских артелей - организатор получал 2/3, артель - 1/3 дохода. Внутри артели доход распределялся в зависимости от статуса ее конкретного члена. Этот основной доход промышленника именовался обычно покрутом или паем.
Помимо этого промышленники получали другие выплаты, известные в основном по документам местных монастырей. Так, перед началом промысла (а при необходимости - и во время) кормщику и покрученикам давались беспроцентные ссуды (в натуральном или денежном виде) и задатки, вычитавшиеся из их дохода по окончании сезона.
Еще одной распространенной выплатой являлся свершонок. В большинстве случаев он выдавался только кормщикам, в одних случаях - после окончания промысла, в качестве дополнительного вознаграждения, в других - перед выходом на промысел (Соловецкий и Крестный Онежский монастыри). Монастыри Поморья и Холмогорский дом свершонок выдавали перед промыслом и кормщику и покрученикам - в качестве оплаты дорожных расходов. При любом варианте выплаты свершонок являлся безвозмездной наградой и возврату не подлежал.
Соловецкий и Крестный Онежский монастыри практиковали также выплату кормщикам полового (половинного покрута) - в конце промыслового сезона.
Практиковались также разовые безвозмездные выплаты для поощрения кормщиков или всей артели - поискание и потешение (встречаются в документах Николо-Корельского и Крестного Онежского монастырей). Они могли выдаваться как перед промыслом, так и после.
Во второй половине XVII века кормщики мурманских монастырских промыслов получали от 1 до 3 рублей свершонка, покрученики (Холмогорский дом и Николо-Корельский монастырь) - от 0,6 до 0,75 руб, в первой половине XVIII века - от 1,5 до 3 руб. и от 0,7 до 1,2 руб. соответственно. Во второй половине XVIII века промысел на Мурмане сохранялся только у Соловецкого монастыря, платившего своим кормщикам к концу столетия уже по 5 рублей свершонка.
Размер ссуд выдаваемых промышленникам был невелик. Николо-Корельский монастырь в конце XVII века давал кормщикам от 0,3 до 1,5 руб., покрученикам - от 0,2 до 0,6 руб. Холмогорский дом в конце XVII века давал кормщикам 0,4 - 0,5 руб., покрученикам - от 0,15 до 0,39 руб., в середине XVIII века - до 4 и 2 руб. соответственно.
Соловецкий монастырь в 1670 - 1690-х годах давал покрученикам ссуды в размере 1 руб., в 1754 - 1756 годах задатков кормщикам - по 4 руб., покрученикам - по 3,5 руб., в 1761 - 1763 годах, и тем, и другим - по 5 руб.
В крестьянских мурманских артелях также практиковалась выплата свершонка кормщику - к концу XVIII века до 3 - 5 рублей «смотря по старанию» (и видимо в конце сезона). Кормщики могли получать также и половое.
Поискание / потешение, нерегулярно выплачиваемое кормщикам Крестным Онежским монастырем, на 1671 год составляло всего 0,4 руб., на 1672 год - 0,10 руб.
Новоземельские монастырские артели получали перед выходом на промысел безвозмездные дачи на обувь (небольшие - от 0,03 до 0,75 руб.) и возмездные ссуды (размер которых неизвестен).
Основной доход, как уже отмечалось, обычно делился между хозяином и артелью в пропорции примерно 2 к 1. При сохранении общего принципа на практике могли применяться разные схемы разделения доходов.
Так, в крестьянских артелях Поморского и Карельского берега на 1743 год весенний улов делился пополам между хозяином и артелью, 3/4 летнего шло хозяину и 1/4 - артели (в целом хозяин получал 1,25, а артель 0,75 общего дохода). Каждый член артели получал равную долю основного дохода, однако кормщику дополнительно выплачивались свершонок и половое. В артели Алексея Елизарова (1743 год) при применении описанной схемы каждый промышленник получил по 14,5 руб. (11,5 руб. из весеннего и 3,5 руб. из летнего улова), а кормщик - 20? руб. (14,5 + 3,5 полового и 2,5 свершонка). Аналогичную схему оплаты применял в первой половине XVIII века Соловецкий монастырь. В новоземельских артелях использовалась сложная схема распределения дохода по паям.
Размер общих доходов крестьянских артелей неизвестен.
Артели Соловецкого монастыря в последней трети XVII века ежегодно получали от 19,27 до 286,5 руб. дохода, в первой половине XVIII века - от 200 до 1 032 руб., во второй - от 305 до 2 096 руб. Для XVIII века известно и соотношение доходов монастыря и артели, в разные годы оно составляло от 59 до 67% (монастырь) и от 33 до 41% (артель).
Известны также и доходы промышленников монастыря в XVIII веке. В 1710 - 1717 годах покрученик получал от 4,45 до примерно 8,64 руб., кормщик - от примерно 5,66 до примерно 10,45 руб. (покрут + половое, свершонок не учтен). В 1746 - 1793 годах покрученик получал от 7,29 до примерно 43 руб., кормщик - от примерно 13,3 до примерно 69,17 руб. (покрут + половое + от 2 до 5 руб. свершонка). В среднем, доход покрученика составлял в это время примерно 60% дохода кормщика.
В Крестном Онежском монастыре в 1660 - 1686 годах доход артели (после вычетов в пользу монастыря) колебался от 2,93 до 75,4 руб., доход кормщика - от 0,29 до 9,43 руб, покрученика - от 3,5 копеек до 3,14 руб.
Артели Холмогорского дома в 1716 году получили дохода на 43,6 руб. Покрученики (только за весенний сезон) получили почти 0,94 руб., кормщики - почти по 2,37 руб. (т. е. примерно в 1,5 раза больше). В 1750 году артель дома получила 111,4 руб. общего дохода, кормщики - по 1,18 руб., покрученики - по 0,59 руб.
Артель Николо-Корельского монастыря на 1681 год получила доход в 18,08 руб., на 1683 год - 44,49 руб. Кормщики монастыря в 1680 - 1696 годах получали от 2,25 до 9 руб., покрученики - от 1,5 до 2,5 руб., на 1697 год, соответственно, 4,22 руб. и 1,69 руб.
Новоземельская артель Красногорского монастыря в 1668 году получила доход в 90,65 руб., кормщик - 2,8 руб., покрученики - от 0,88 до 0,96 руб. На 1681 год общий доход артели составил 75,18 руб., на 1682 год - 116,02 руб.
Новоземельский промысел был, в целом, более доходным, но более рискованным и требовавшим больших вложений. Доход новоземельских покручеников мало отличался от дохода мурманских, доход кормщиков был существенно выше (на 1682 год - в 7-13 раз). Еще более доходным он (на бумаге) был для уженников - пайщиков, непосредственно участвовавших в промысле. Однако последние, как отмечается, сами вкладывались в предприятие и окупал ли получаемый доход понесенные ими затраты неизвестно.
Технология промысла и объемы добычи
скрытый текст
На Мурманском береге, как уже отмечалось промысел вели на небольших 4-местных судах - карбасах и шнеках. Промысловую рыбу ловили с помощью яруса - веревочной снасти с крюками, с насаженной на них наживкой. Ярус удерживался на поверхности поплавками-кубусами, крепясь ко дну якорями, ставился на несколько часов, после чего вытягивался назад на судно. В качестве наживки использовалась в основном мойва. Последнюю ловили обычно большим неводом сразу с нескольких карбасов, что часто требовало кооперации нескольких артелей. Невод имелся не во всех артелях, не имевшие своего невода артели платили владельцам за его использование.
Выловленная рыба разделывалась и обрабатывалась на берегу - отделялись головы, вынимались внутренности - без удаления хребтины. Добытую весной до Николина дня (9 мая) треску сушили на ветру. После Николина дня сушили только мелкую треску, а крупную засаливали. Засолка производилась традиционным способом, сохранявшимся до XX века - рыбу раскладывали на полу амбара и посыпали солью, затем вывозимую лодьей рыбу снова солили уже разложив на полу трюма, после прибытия на место ее солили в третий раз. Качество такой засолки по отзывам авторов XIX - XX веков оставляло желать и сильно уступало засолке в бочках. Во второй половине XVIII века иногда использовались и более продвинутые методы засолки (в бочках и с удалением хребтины) - обычно для рыбы предназначавшейся для неких значимых лиц.
Тресковые головы сушились и в дальнейшем также шли на продажу. Из печени трески вытапливался жир, разливавшийся затем по бочкам. Тресковые языки солились в бочках, вязигу сушили.
Разделкой и обработкой рыбы занимались сами члены артели.
Сведения об объемах добычи сохранились лишь для монастырей. Выловленную рыбу до начала XVIII века считали поштучно, позднее ее стали взвешивать и учитывать в весовых категориях, однако параллельно сохранялся и поштучный учет. Мелкую рыбу, солимую промышленниками на свой обиход или для монастыря, иногда считали и бочками.
Сушеную, вяленую рыбу и тресовые головы могли считать связками, пучками, кулями, тюками и проч. Тресковое сало, визига и проч. считались пудами и фунтами (сало могло также считаться емкостями - бочками и проч.).
В качестве промысловых пород рассматривались треска, палтус и пикша. Последняя вылавливалась в незначительном количестве. Соотношение улова трески и палтуса многократно и резко менялось, что имеющимися источниками никак не объясняется.
Соловецкий монастырь в 1710 - 1793 годах, по неполным данным, получал от 415,3 до 4 933,4 пудов (6,8 - 80,8 тонн) рыбы и рыбопродуктов (головы, сало, визига и проч.) в год, в т. ч. трески - от 265 до 3 733 пудов, палтуса - от 82 до 1978,3 пудов. Пикши вылавливалось не более 100 пудов, трескового сала получалось не более 254 пудов, вязиги - не более 3,3 пудов.
Крестный Онежский монастырь в 1660 - 1755 годах, по неполным данным, получал от 79 до 1 753 пудов (1,3 - 28,7 тонн) рыбы и рыбопродуктов в год, в т. ч. трески - от 3 до 1 044 пудов, палтуса - от 8,5 до 1 025 пудов. Пикши вылавливалось не более 32 пудов, трескового сала получалось не более 109 пудов.
Николо-Корельский монастырь в 1683 - 1753 годах, по неполным данным, получал от 327 до 1 198,1 пудов (5,4 - 19,5 тонн) рыбы и рыбопродуктов в год, в т. ч. трески - от 115 до 1 100 пудов, палтуса - от 29 до 688 пудов (в обоих случаях - без сушеной рыбы, которой, впрочем, больше 105 пудов в год никогда не делали). Пикши вылавливалось не более 55 пудов, тресковых голов получалось не более 16 пудов, трескового сала - не более 50 пудов, вязиги - не более 2,3 пудов.
Холмогорский дом в 1691 - 1696 годах получал от 700 до 1 568,2 пудов (11,5 - 25,7 тонн) рыбы, в т. ч. от 168,39 до 432,19 пудов трески и от 350 до 1 103,1 пуда палтуса. В 1750 - 1757 годах он получал от 434 до 1 742 пудов (7,1 - 28,5 тонн) рыбы и рыбопродуктов, в т. ч. от 304 до 1 509 пудов трески (не считая сушеной) и от 98 до 193 пудов палтуса. Пикши ловили не более 10 пудов, голов тресковых получали не более 8 пудов, вязиги - не более 5 пудов и трескового сала - не более 54,3 пудов.
Сведений о крестьянских промыслах сохранилось очень мало однако общие объемы добычи крестьянских артелей предположительно намного превосходили монастырские. Так, в 1727 году артель одного промышленника Сумского острога Андрея Елизарова добыла 645,2 пудов (10,6 тонн) рыбы - Николо-Корельский монастырь в том же году добыл, например, 750,2 пуда. В 1753 году на судне того же Николо-Корельского монастыря помимо его собственной рыбы (939,2 пуда) вывозилась добыча 11 кладчиков (покручеников, договорившихся с монастырем о вывозе рыбы) - 566,34 пуда (от 2 до 77 пудов на каждого). По (неполным) сведениям архангельской таможни в 1730 - начале 1740-х монастыри и Холмогорский дом поставляли лишь от 1 до 4% рыбы реализуемой на рынке Архангельска - остальное приходилось на крестьянские артели.
Для значительной части крестьян Поморья рыбный промысел был основой благосостояния. У монастырей большая часть рыбы шла на внутренние нужды и меньшая - на продажу. Так, Крестный Онежский монастырь в 1697 - 1749 годах в течении года расходовал от 41 до 99% получаемой рыбы. Большая часть рыбы (от 29 до 78%) раздавалась по службам монастыря (монастырские села, мельницы, усолье и проч.), на содержание братии и работников тратилось не более 12%, на раздачи и подношения - не более 11%. На продажу шло от 9 до 49% рыбы.
В Николо-Корельском монастыре в 1735 - 1737 годах на содержание служб шло 20 - 32% рыбы, братии и работникам - 21%, на раздачи и подношения 4 - 5% (сведений о продаже нет).
На Новой Земле добывали моржей, тюленей, нерп, белух. В воде зверя били гарпуном, на суше и на льду спицами (тонкими пиками) или из винтовок. Белух загоняли в заливы и узости и ловили крупным неводом. Артели приходили к Новой Земле в кочах, но промысел вели с тех же карбасов (к месту промысла они шли на буксире за крупными судами). Постоянных становищ здесь видимо не было, однако какие-то временные все же устраивались.
Туши убитых животных сваливали в кучу, разбирая и частично обрабатывая в конце промысла. С них сдирали шкуры, выдирали бивни, снимали жир - последний, не обрабатывая, набивали в бочки (вытопка сала производилась после возвращения домой). При богатой добыче часть ее оставлялась на месте боя и брошенное могли беспрепятственно забирать другие промышленники.
Об объемах новоземельского промысла известно мало. По данным Архангельской таможни в 1768 - 1785 годах только в Амстердам, Гамбург, Бремен и Брест было вывезено 4 814 моржовых кож и 641 пуд 39 фунтов моржовой кости (без учета вывезенной в 1782 - 1783 годах - посчитана в штуках (2 364), без указания веса).
Промысловая колонизация и государство
скрытый текст
На Мурманском берегу уже к концу XVI века существовала налаженная система сбора пошлин. С приходивших на промысел промышленников брались явочные деньги - 2 деньги с человека, к 1608 году - уже по 4 деньги. С рыболовных судов бралась судовая пошлина - по 1 алтыну (поначалу только на Мурманском конце), к 1608 году - по 2 алтына (по всему берегу), с добытых рыбы и сала - десятое (1/10 часть добычи).
Сбором пошлин занималась таможня Колы, имевшая ряд местных отделений, присудов, по всему берегу - к началу XVII века известны 5 присудов (три на Мурманском и два на Русском концах). Присуды размещались в становищах. Таможенные целовальники набирались из посада Колы.
К концу XVII века с промышленников брали уже по 1 алтыну 4 деньги за явку и 6 алтын 4 деньги судовой пошлины, однако неясно было ли это официальной практикой или самодеятельностью местных воевод.
Помимо явки, судовой пошлины и десятого промышленники платили писчее таможенникам - за оформление выписок об уплате пошлин.
Разнообразным официальным лицам в почесть давались также разнообразные «подарки». По книгам Крестного Онежского монастыря на 1673 - 1675 год размер почести колебался от 13 алтынов 4 денег до 1 рубля 3 денег. В 1709 году таможенному сборщику в чине капитана было дано в почесть 3 пуда соли, в 1712 году - 2,5 пуда соли и т. д.
В XVIII веке с промышленников продолжали брать явочные деньги (на 1711 и 1719 годы по 2 деньги), судовую пошлину и десятое, а также некую порублевую пошлину [рублевую? вместо десятого? неясно].
Промышленники выходившие на промысел из Колы дополнительно платили судовой оброк - 1 алтын.
Новоземельские промышленники платили только десятое - по возвращении с промысла, в таможнях Холмогор, Усть-Пинеги и Мезени. Промышленники выходившие из Пустозерска платили еще и явку - 2 деньги.
Занимавшиеся промыслом монастыри большей частью имели налоговые привилегии, сводившиеся в основном к освобождению от уплаты десятого.
Троицкий Печенгский монастырь в 1591 году был освобожден от уплаты десятого с добываемой морской, речной и озерной рыбы. Грамота 1606 года дополнительно освобождала его от уплаты десятого с трескового и китового сала. Прежние пожалования были подтверждены грамотой 1675 года.
Пречистенский Кандалакшский монастырь также был освобожден от уплаты десятого (грамоты 1615 и 1624 годов, неоднократно подтверждавшиеся вплоть до 1684 года).
Соловецкий монастырь грамотами 1540/41 и 1620/21 годов был освобожден от уплаты десятого с добытых семги и ворвани, а грамотой 1666 года - и с остальных рыбных промыслов (трески, палтуса и трескового сала).
Антониево-Сийский монастырь был освобожден от уплаты десятого грамотами 1671, 1678, 1682 годов и 1684 годов.
Николо-Корельский монастырь аналогичную привилегию получил вероятно в 1678 году (подтвержена в 1681), а Спасо-Прилуцкий и Михайло-Архангельский - в 1681 - 1682 годах.
Крестный Онежский монастырь был освобожден от уплаты десятого грамотами 1680 и 1684 годов.
Объемы необлагаемого десятым промысла теоретически ограничивались. Так, самый маленький Спасо-Прилуцкий монастырь мог беспошлинно добывать по 870 пудов в год (330 пудов трески, 525 палтуса и 15 рыбьего сала), а крупнейшие Соловецкий монастырь и Холмогорский дом по 5 200 (5000 пудов трески и палтуса и 200 пудов сала) и 5 400 (3850 + 1300 + 250) пудов соответственно. [Однако эти квоты вероятно с лихвой покрывали весь монастырский промысел.]
Помимо освобождения от десятого монастыри и Холмогорский дом имели ряд других льгот.
Красногорский монастырь, отправлявший артели на Новую Землю, в 1653 году также добился освобождения от уплаты десятого в Архангельске и Мезени (грамота подтверждена в 1684 году).
В 1704 году местные промыслы оказались затронуты петровской секуляризацией. По инициативе холмогорского архиерейского сына боярского Михаила Окулова промыслы Холмогорского дома, Троицкого Печенгского и Пречистенского Кандалакшского монастырей были фактически отписаны на государя и переданы в управление самому Окулову и присланному в Колу стольнику П. А. Кондыреву.
Образовавшиеся таким образом государевы промыслы в 1705 году выслали в море 29 судов со 120 промышленниками, добыв более 2 000 пудов (52 930 штук) трески и 229 пудов трескового сала. Добыча оказалась значительно меньше чем обещал Окулов (в своем проекте расписывавший радужные перспективы подобных промыслов), возникли и другие проблемы и уже в марте 1706 года Окулов и Кондырев были отстранены от дела и попали под следствие. [О дальнейшей судьбе этих промыслов автор ничего не пишет, если судить по приводимым им в других местах сведениям, по крайней мере Холмогорский дом свои промыслы себе вскоре вернул].
Повседневная жизнь промышленников
скрытый текст
В крестьянских артелях устный сговор о найме промышленника закреплялся выдачей небольшой денежной суммы - запивного. Для отправлявашейся на промысел артели и частными хозяевами и монастырями устаивалось щедрое застолье, артельщикам давались подарки (сукно на вачаги - рабочие руковицы, хлеб и пр.).
Для выхода на промысел [в XVIII веке?] требовалось разрешение общины - отпускное (прокормежное) письмо, служившее основанием для получения паспорта.
На весенний промысел артели шли сухопутным путем, на лыжах и с небольшими санями-кережами, запрягавшимися собаками или самими промышленниками. Монастырские артели часть пути могли преодолевать на нанимаемых для них подводах (стоимость найма затем вычиталась из добычи). В путь артели выходили в феврале-марте и шли через Кандалакшу в Колу или на Русский конец [каким образом на Мурманский берег попадали промысловые суда и где они находились между промыслами автор не указывает.]
Работники летнего промысла видимо прибывали морем, вместе с приходившими в мае - июне лодьями / крупнотоннажными судами, забиравшими весенний улов. Новоземельские артели шли на промысел морем.
Промысловый сезон продолжался примерно 4,5 месяца. Артель на промысле (в идеале) практически беспрерывно работала на суше и на море, изредка отдыхая по церковным праздникам и в случае совсем уж скверной погоды. Так, артель Соловецкого монастыря в 1761 году была на промысле 139 дней (11 апреля - 29 августа) из которых на море работала 48 дней, на суше - 62, на суше и на море - 22, нерабочих дней - 8. В 1763 году та же артель была на промысле 137 дней (15 апреля - 29 августа), на море - 45, на суше - 78, на море и на суше - 13, нерабочий - 1 [так у автора].
Каждая соловецкая шнека на промысле в 1763 - 1791 годах выходила в море от 5 до 22 раз за сезон. Один выход в море мог занимать 18 - 36 часов.
Основу питания промышленников составляли ржаной хлеб, крупы, рыба и квас. Ржаной муки за сезон расходовалось по 10 - 14 пудов на человека. Овощи использовались редко (репа, капуста). Алкоголь был формально запрещен и в монастырских, и в крестьянских артелях, однако фактически эти запреты не соблюдались и промышленники нередко прилично закладывали, что приводило ко всяким безобразиям, а иногда и к срыву промысла.
* * *
Враг, противник, союзник? Россия во внешней политике Франции в 1917 - 1924 годах
Ожиданий не оправдала конечно. Объем огромный (2 тома, почти полторы тысячи страниц), заявлена масса интересных тем, но результат оставляет желать. В лучшую сторону выделяются разве что главы Павлова, в меньшей степени - Бодрова. Указателей нет, что отдельно «радует». Полиграфия неплохая.
скрытый текст1917 - начало 1918 года
скрытый текст
Как отмечается, французское правительство не поспевало за революционными событиями 1917 года, [да и последующими тоже] реагируя на них с заметным опозданием. После Февраля основными задачами французской политики в России сделались предотвращение выхода русского государства из войны и восстановление боеспособности русской армии. Эти задачи французское правительство пыталось решать действуя сразу по нескольким направлениям.
Французы пытались воздействовать на новое русское правительство, все влиятельные политические силы, армию и общество через своих представителей, регулярно отправляя в Россию различные политические и военные миссии, а также отдельных лиц. Так, наезжавшие в Россию французские социалисты пытались убедить своих российских единомышленников действовать в оборонческом духе, офицеры и солдаты военных миссий посещали воинские части, агитируя за войну до победного конца и т. д.
По инициативе министра вооружений и видного социалиста Альбера Тома в России была создана французская информационно-пропагандистская служба, развернувшая широкомасштабную деятельность по распространению оборонческих агитматериалов.
В русскую армию было направлено значительное число французских военных специалистов и ряд французских подразделений, в т. ч. и боевых*.
Состав ответственных лиц и органов Французской республики причастных к формированию русской политики в это время выглядел следующим образом.
Прежних посла и военного представителя в России после Февраля было решено сменить, дабы не смущать новое русское правительство и общественность лицами тесно сотрудничавшими с прежним режимом. Мориса Палеолога в роли посла в мае 1917-го сменил Жозеф Нуланс, профессиональный политик**, представитель левоцентристской Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов, имевшей крупнейшую фракцию во французском парламенте. Дипломатической работой Нуланс до этого никогда не занимался, но предполагалось, что он найдет общий язык с Временным правительством.
Генерала Пьера Жанена на посту главы военной миссии в июле 1917-го*** сменил генерал Анри Ниссель, опытный боевой генерал, герой Вердена. Предполагалось, что решительный и опытный военачальник сумеет завоевать уважение русских коллег и сможет содействовать восстановлению русской армии.
Была также скорректирована схема взаимодействия посла и военного представителя Франции, ранее действовавших практически независимо друг от друга. Теперь по всем политическим вопросам Ниссель должен был подчиняться Нулансу. [Начальником штаба миссии Нисселя стал полковник Жак Ланглуа, военным атташе оставался полковник Жан Лавернь].*
Нисселю подчинялись все французские военные на территории России. Отдельная французская военная миссия находилась при правительстве Румынии, занимаясь восстановлением румынской армии (и фактически в значительной мере ее контролируя). Миссию в Румынии возглавлял генерал Анри Бертело.
[В самой Франции за 1917 год сменилось четыре кабинета министров. 20 марта Аристида Бриана на посту премьера сменил Александр Рибо, на время премьерства которого пришелся ряд кризисов - провал наступления Нивеля, волнения в армии и революция в России. 12 сентября Рибо уступил пост премьера Полю Пенлеве, однако реорганизованный кабинет последнего продержался недолго и уже 13 ноября был (впервые за время войны) отправлен в отставку парламентом]. Новым премьером президент Франции Раймон Пуанкаре 19 ноября назначил Жоржа Клемансо, решительного сторонника продолжения войны до полной победы. Клемансо занял также и пост военного министра. Министром иностранных дел при нем стал Стефан Пишон. Кабинет Клемансо управлял Францией до конца января 1920 года.
Главным советником военного министра по вопросам ведения войны (в т. ч. и по вопросам взаимодействия с союзниками), согласно декрету от 11 мая 1917 года, являлся начальник Генерального штаба. Этот пост с мая 1917 года занимал генерал (с августа 1918 года - маршал) Фердинанд Фош. В марте 1918 года Ф. Фош был назначен Верховным главнокомандующим союзными войсками во Франции, однако до декабря [у авторов - сентября] 1918-го формально сохранял за собой и прежнюю должность. Фактически обязанности начальника Генштаба выполнял его заместитель, генерал Анри Альби [в декабре 1918 - январе 1920-го - занимал пост начальника Генерального штаба уже и официально. Бесцветные Пишон и Альби большой роли фактически не играли].
Роль центра стратегического планирования в рамках Генерального штаба играло 3-е бюро, отвечавшее за планирование военных операций, а также предоставлявшее правительству и военному министру аналитические материалы с оценкой ситуации и предложения по принятию тех или иных решений.
В ноябре 1917 года на конференции в Рапалло был образован Верховный военный совет Антанты - постоянно действовавший орган координировавший военные усилия союзников. В состав Совета входило по 2 представителя от Франции, Британии и Италии (главы правительств как постоянные члены и меняющиеся, в зависимости от рассматриваемого вопроса, вторые представители, Францию, в большинстве случаев представляла пара Клемансо - Пишон) и представитель США (посол во Франции), выступавший в качестве наблюдателя.
Заседания Совета проходили раз в месяц, решения его формально не имели обязательного характера, однако предполагалось, что они будут воплощаться главами правительств на национальном уровне. Весомую роль играли и постоянные военные представители четырех стран, формально игравшие лишь роль советников по техническим военным вопросам. По поручению Совета они могли совместно обсуждать конкретные вопросы, вырабатывая общую позицию - с точки зрения интересов всего альянса. Выработанные ими решения чаще всего утверждались затем Советом. Первым военным представителем Франции был генерал Максим Вейган, в апреле 1918-го его сменил генерал Э. Белен.
После окончания войны, в начальный период работы Парижской мирной конференции, на основе Совета сложился ряд неформальных институций - Совет десяти (главы правительств и мининдел Британии, Франции, США, Италии, Японии), в марте 1919 года - Совет четырех (главы правительств Британии, Франции, США, Италии), в июле 1919 года, после подписания Версальского договора - Совет глав делегаций.
После заключения мира Верховный совет был формально распущен, однако фактически продолжил существование в 1920 - 1922 годах, называясь уже Верховным советом Антанты. Он включал глав правительств и мининдел Британии, Франции, Италии, Японии и Бельгии и служил площадкой для координации внешнеполитических усилий указанных стран, проведя ряд международных встреч.
Большевистский переворот положил начало периоду неопределенности в русской политике Франции. На рубеже 1917 - 1918 года и в первые месяцы 1918-го основной целью французского правительства было восстановление в какой-либо форме Восточного фронта и ограничение германского влияния на территории России. В рамках выполнения этих задач французы готовы были сотрудничать с любыми силами действовавшими на просторах бывшей Российской империи, включая и большевиков.
Сообщение с европейскими столицами после большевистского переворота сделалось затруднительным и западным дипломатам, не имевшим возможности быстро проконсультироваться со своими правительствами, теперь нередко приходилось действовать на свой страх и риск.
Не получая инструкций от своих правительств, 18 ноября 1917-го послы союзных держав на общем собрании выработали единую позицию по отношению к большевистскому правительству - официальных отношений не поддерживать, частные контакты осуществлять лишь в целях защиты своих граждан.
Нуланс был поначалу уверен в скором падении большевиков и уже 10 ноября, сообщив в Париж, что Керенский скоро одержит верх в борьбе с последними, предложил (после консультаций с британским послом Бьюкененом) прислать в Петроград несколько батальонов союзных войск, дабы поддержать последнего. Телеграмма Нуланса дошла до французской столицы через Стокгольм только 16 ноября, французское правительство инициативу своего посла категорически отвергло (22 ноября).
20 ноября большевистское правительство приказало исполнявшему обязанности Главковерха генералу Духонину вступить в переговоры с немцами относительно прекращения боевых действий. 21 ноября последовало официальное обращение к послам союзных держав - с сообщением о создании нового правительства и формальным предложением о заключении перемирия на всех фронтах. В тот же день союзные послы собрались снова, подтвердив прежнее решение - ни в какие официальные отношения с большевиками не вступать.
22 ноября, узнав о приказе отданном Духонину, Клемансо, не дожидаясь формирования единой позиции союзных держав, поручил Нисселю сообщить русскому Главковерху, что Франция не признает большевистское правительство и рассчитывает, что русское командование не станет вести преступных переговоров с врагом. 23 ноября находившиеся в Ставке военные представители союзных держав передали Духонину совместную ноту с протестом против возможного сепаратного перемирия.
В целом, однако, французское правительство занимало выжидательную позицию, не имея возможности сформировать твердый политический курс в условиях воцарившегося хаоса.
Французское посольство, официально отказываясь от контактов с большевиками, фактически поддерживало с ними связь через члена военной миссии капитана Жака Садуля - видного социалиста, направленного в Россию по инициативе Альбера Тома.
Русский вопрос активно обсуждался в ходе очередной межсоюзнической конференции в Париже (27 ноября - 3 декабря 1917). В последний день конференции, на конфиденциальном совещании с участием глав правительств и мининдел Британии, Франции, Италии, японского посла во Франции и представителя американского президента полковника Хауза, по инициативе последнего была выработана общая позиция относительно мирных предложений большевиков. Союзники соглашались обсудить цели войны и условия заключения мира - но при условии появления в России стабильного и признанного всем народом правительства. Общего заявления по этому поводу принимать не стали, ограничившись соответствующими инструкциями послам (Нулансу они были отправлены в тот же день - 3 декабря).
На этом же совещании были обсуждены предложения генерала Фоша. 30 ноября он представил французскому правительству свои предложения относительно действий в России. Они включали в себя прямую военную интервенцию союзников с целью восстановления Восточного фронта. По мнению Фоша следовало, во-первых, с помощью японских и американских войск взять под контроль Транссибирскую магистраль, во-вторых - использовать для сопротивления Центральным державам все возможные группировки на востоке (Румынию, казаков, украинцев, чехов), помогая им силами французских военных миссий и обеспечивая с помощью Транссиба.
3 декабря Фош лично представил указанные положения на заседании глав союзных правительств. Никакого решения по ним принято не было, но после конференции правительствам США и Японии были посланы специальные меморандумы, содержащие развернутое изложение плана Фоша.
23 декабря в Париже было проведено совещание с участием членов английского правительства и высшего французского руководства (Клемансо, Пишон, Фош). Стороны констатировали отсутствие какой-либо ясности относительно происходящего в России, отметив необходимость формирования очагов сопротивления Центральным державам на ее территории - но не порывая при этом окончательно с большевиками. По итогам совещания было заключено соглашение о разделе сфер ответственности держав на юге России. Во французскую зону вошли Бессарабия, Украина и Крым, в английскую - Кавказ и казачьи территории. Помимо этого решено было оказать помощь организации генерала Алексеева в Новочеркасске, выделив ей 5 млн франков (за счет обеих держав).
Как отмечается, соглашение носило антигерманский характер, большевики в качестве противника не упоминались и даже алексеевская организация рассматривалась, в первую очередь, как антигерманская.
Руководить организацией противодействия Германии во французской зоне было поручено генералу А. Бертело, главе военной миссии в Румынии. Остававшемуся в Петрограде генералу Нисселю было приказано заниматься тем же в центральных и северных регионах России.
Разгон Учредительного собрания похоронил надежды на мирное отстранение от власти большевиков, однако определенный оптимизм французам внушали переговоры в Брест-Литовске - сохранялась высокая вероятность их срыва и возобновления боевых действий.
Позиция французских военных представителей (Ниссель, Ланглуа), в целом разделяемая и послом Нулансом, в это время сводилась к необходимости сохранения контактов с большевиками и использовании при этом всех возможностей для срыва мирных переговоров. В случае возобновления боевых действий рекомендовалось даже оказать помощь в формировании «революционных» войск для борьбы с немцами. Альтернативные большевикам силы оценивались невысоко. Как отмечается, Париж прислушивался к своим представителям, и в целом действовал в соответствующем духе. Такой же позиции фактически придерживалась и прочие союзники.
10 февраля 1918-го переговоры в Бресте были прерваны и 16 февраля Германия объявила о возобновлении боевых действий. Уже 17 января Пишон поручил Нулансу сообщить большевикам о готовности Франции оказать им материальную и финансовую помощь в случае возобновления борьбы с германцами. 18 февраля это предложение было передано большевикам через Садуля (в тот же день аналогичное предложение было передано и англичанами).
21 февраля Совнарком издал декрет «Социалистическое отечество в опасности!». В тот же день Троцкий сообщил Нулансу о намерении большевиков оказать сопротивление немецкому наступлению и просил французов о помощи. 22 февраля большевистское правительство приняло решение официльно просить союзников о помощи против немцев и французская военная миссия передала Троцкому список своих предложений (разрушение железных дорог для затруднения немецкого наступления и помощь в формировании новой армии).
23 февраля в Петрограде были получены новые немецкие требования, при выполнении которых Германия была готова заключить мир и с этого времени в большевистском руководстве начался новый раунд борьбы сторонников и противников мира. Обсуждалось и продолжение сотрудничества с союзниками. 23 февраля Троцкий лично встретился с Нисселем, выслушав его предложения и обсудив возможные совместные меры. 27 февраля с Садулем и еще одним членом военной миссии лейтенантом, гр. де Люберсаком, встретился Ленин. Речь на встрече шла о ранее предложенном французами разрушении железных дорог ведущих в Петроград. Соответствующий план даже начал реализовываться - 3 марта в район Пскова прибыли две команды французских подрывников.
[Однако вскоре борьба в большевистском руководстве закончилась победой сторонников мира и 3 марта в Бресте был подписан мирный договор с немцами]. Принятое большевиками решение о заключении мира и приближение немцев вынудили французских дипломатов покинуть Петроград. 28 февраля 1918 года Нуланс с персоналом посольства и Ниссель, с частью миссии, покинули город. Нуланс, вместе с британскими, итальянскими и сербскими коллегами, в течении месяца безуспешно пытался проехать через Финляндию в Стокгольм и в итоге вынужден был отправиться в Вологду, где уже находились британские и японские дипломаты. Ниссель, также неудачно пытавшийся проехать через Петрозаводск в Архангельск, в итоге вернулся в Петроград.
[16 марта 1918 года, после очередного раунда внутрипартийной борьбы, Бреский мир был ратифицирован IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов]. Узнав о ратификации мира и решении Совнаркома перебраться в Москву Ниссель решил окончательно покинуть Россию, отправив в Москву часть миссии во главе с Лавернем. 18 марта это решение утвердил Париж.
Несмотря на подписание мира, вероятность возобновления боевых действий с немцами не исключалась и переговоры с союзными военными миссиями были продолжены. 23 марта 1918 года Троцкий официально просил помощи у военных представителей союзников в деле создании новой армии. По сообщению Лаверня предполагалось за два-три месяца сформировать армию в 300 - 500 тыс. человек. Военные представители союзников согласились предоставить большевикам помощь, во главе процесса должен был встать французский атташе Лавернь, как представитель державы с наибольшим военным присутствием в России.
Французское правительство, впрочем, требовало от Лаверня действовать максимально осторожно, опасаясь, что формируемая армия будет использована во внутренней войне или даже против самих союзников.
В апреле 1918-го, на совещании послов и военных представителей Антанты в Вологде было решено ограничиться оказанием большевикам лишь «технической» помощи (составление планов и проектов) и то лишь при условии согласия большевиков на японскую интервенцию на Дальнем Востоке и предоставлении гражданам стран Антанты тех же прав, что и гражданам Центральных держав. Лаверню было разрешено направить французских офицеров инструкторами в военные училища организуемые большевиками в Петрограде, однако дело до этого уже не дошло.
Юг России привлекал особое внимания французского руководства. Здесь, с одной стороны, имелись разнообразные богатые ресурсы, доступ к которым мог заметно усилить Центральные державы, с другой - располагались силы, с помощью которых можно было попытаться организовать сопротивление немцам (формирующиеся чехословацкие и польские части, Румыния, украинцы). Планы использовать их против немцев стали, впрочем, очень быстро рушиться.
Стремительное разложение войск Румынского фронта вскоре поставило в тяжелое положение неспособную держать фронт в одиночку Румынию и уже 9 декабря 1917 года румыны заключили перемирие с Центральными державами. После этого главным фаворитом французов ненадолго стала УНР. 29 декабря 1917 года генерал Табуи, бывший ранее французским представителем при Юго-Западном фронте, был назначен представителем при правительстве УНР, в статусе комиссара республики. Табуи было поручено сообщить украинцам о поддержке Францией их усилий по восстановлению порядка. Генерал должен был выразить также готовность обсудить финансовую и техническую помощь УНР. Все это однако не помогло и 9 февраля 1918-го УНР (успевшая 22 января провозгласить полную независимость) подписала мир с Центральными державами. Сразу после этого на территорию УНР вступили австро-германские войска и миссии Табуи пришлось стремительно эвакуироваться (большая ее часть выехала через Архангельск).
Подписание украинцами мира сделало положение Румынии и вовсе безнадежным. [1 марта 1918 года она была вынуждена вступить в переговоры о мире с Центральными державами (подписан 7 мая)], а французской миссии Бертело также пришлось начать спешную эвакуацию.
Контакт с Добровольческой армией ограничился разовой передачей французской части средств выделяемых в рамках англо-французского соглашения и затем был надолго утерян.
Пытаясь как-то найти общий язык с большевиками французское правительство одновременно продолжало обсуждать с союзниками план интервенции в Сибири, предложенный ранее Фошем. В январе 1918 года французский Генеральный штаб представил новый его вариант - помимо США и Японии предполагалось участие и других держав и создание общесоюзной миссии под руководством французского офицера. Париж, впрочем, готов был согласиться и на интервенцию силами одной Японии, если она на нее решится.
Относительно возможной реакции большевиков на японскую интервенцию на Дальнем Востоке высказывались разные мнения. Так, Садуль считал возможным убедить Ленина и Троцкого принять помощь Японии, Ниссель и Лавернь, напротив, ожидали резкого неприятия, Фош считал, что возможное недовольство большевиков нужно игнорировать и т. д. Почву для этих разногласий создавали сами большевики, позиция которых была неясна (или еще не оформилась).
План Фоша не предполагал занятия северных портов, русский Север признавался сферой ответственности Британии. Правительство последней считало необходимым занять Мурманск, дабы он не достался немцам и французы присоединились к союзнику. Капитан де ла Гатинери, французский военный представитель при мурманском порту, принял участие в переговорах с мурманским Советом и вошел в состав сформированного в городе военного совета (включавшего британского, французского и русского офицеров). 6 марта 1918 года в Мурманске высадились передовые части англичан. Соглашение местного совета с союзниками было первоначально санкционировано Совнаркомом.
Наиболее важной целью интервенции французское правительство продолжало считать установление контроля над Транссибом, однако никакого прогресса в этом вопросе долгое время не наблюдалось. Япония, которая должна была, по мнению французов, играть в ней главную роль, колебалась, еще более сдержанную позицию занимали Британия и, особенно, США, выражавшие, помимо прочего, опасения по поводу японского участия.
5 апреля 1918 года японцы, под предлогом защиты иностранных граждан, высадили, наконец, небольшой отряд (2 роты) во Владивостоке. К нему (для демонстрации межсоюзнического характера операции) присоединились 50 британских морских пехотинцев.
Развития эта акция поначалу не получила, однако вызвала острую реакцию большевистского правительства, 6 апреля объявившего Японию «смертельным врагом Советской республики». Несмотря на громкие публичные обвинения разрыва с союзниками не последовало, однако, как отмечается, с этого времени отношения между большевиками и странами Антанты начинают быстро ухудшаться.
Этому способствовала и деятельность французского посла Нуланса (добравшемуся в апреле до Вологды послу к этому времени были официально подчинены все французские дипломаты и военные остававшиеся на территории России). 23 апреля Нуланс, и ранее выступавший за более решительное отстаивание французской позиции, дал жесткое, выдержанное в антигерманском духе, интервью московским газетам, поддержав, в частности, японский десант во Владивостоке. Выступление Нуланса вероятно способствовало прекращению наметившегося сотрудничества французской военной миссии с большевиками и вызвало жесткую публичную реакцию Наркоминдела.
Окончательный разрыв отношений большевиков и союзников произошел после выступления Чехословацкого корпуса.
Созданный в сентябре 1917 года Чехословацкий корпус был изначально частью российской армии. Помимо России чехословацкие части формировались и во Франции. 16 декабря 1917 года декретом французского президента была образована автономная Чехословацкая армия во Франции. В политическом отношении она подчинялась созданному в феврале 1916 года Чехо-Словацкому Национальному Совету (ЧСНС), работавшему в Париже, в военном - французскому Верховному командованию, назначавшему (по согласованию с Советом) командующего армией. Главой ЧСНС являлся Т. Масарик, его заместителем был полковник французской армии М. Штефанек, генеральным секретарем Совета - Э. Бенеш.
В апреле 1917 года в Петрограде было образовано Отделение ЧСНС (ОЧСНС) для России. После большевистского переворота ОЧСНС объявило о нейтралитете чехословацкого корпуса. 28 января 1918 года все чехословацкие войска в России были объявлены частью «чешско-словацкого войска, состоявшего в ведении французского Верховного командования».
К февралю 1918 года Чехословацкий корпус (2 пехотные дивизии и проч., всего 42-45 тыс. чел.) располагался на территории УНР. Как уже отмечалось, французское правительство изначально рассчитывало использовать корпус для восстановления Восточного фронта, однако падение Румынии и УНР сделало эту перспективу нереальной. Корпус было решено выводить во Францию через Владивосток.
Переговоры с Совнаркомом относительно передвижения корпуса во Владивосток вели в марте 1918-го представители ОЧСНС. Сделав ряд уступок им удалось достичь компромисса с центральным большевистским руководством, однако части корпуса на местах продолжали испытывать массу трудностей во взаимоотношениях с местными советскими властями. В целом, эвакуация чехословаков происходила в условиях полного хаоса и неопределенности, при отсутствии четких договоренностей между всеми задействованными сторонами. К маю 1918-го эшелоны корпуса растянулись на огромном пространстве от Самары до Владивостока.
Французская военная миссия, вступившая в марта в переговоры с большевиками относительно создания новой армии (см. выше), предложила им, в частности, использовать для этого части Чехословацкого корпуса. Получив от Лаверня информацию о предварительном согласии Совнаркома на использование чехословацких солдат, Фош, от имени Клемансо, выразил согласие на оставление корпуса в России (21 марта). В апреле эту идею поддержала Великобритания.
Заявление Фоша вызвало однако резкий протест ЧСНС, без одобрения которого корпус в России оставить было невозможно и движение эшелонов корпуса на восток продолжилось. На протяжении апреля оно происходило в условиях все более возраставшей напряженности - отношения большевиков с союзниками все более ухудшались и на места из Москвы шли противоречивые указания относительно взаимодействия с чехословаками.
27 апреля военные представители Британии, Франции и Италии при Верховном военном совете Антанты (см. выше) предложили повернуть чехословацкие эшелоны находившиеся западнее Омска на Мурманск и Архангельск, откуда чехов можно было вывести во Францию быстрее. В ожидании эвакуации чехословаки должны были охранять порты и железные дороги. Части находящиеся восточнее Омска также предлагалось до эвакуации использовать в интересах союзников [т. е. видимо для контроля Транссиба]. 2 мая эти предложения были утверждены Верховным военным советом. 4 мая это решение было сообщено французской военной миссии в Москве. Последней поручалось договориться об осуществлении нового плана с Совнаркомом и ОЧСНС.
Особое мнение по этому вопросу имелось у британских военных. Уже в середине мая Имперский Генеральный штаб предложил, в условиях нехватки тоннажа и нежелания США участвовать в интервенции, использовать Чехословацкий корпус для интервенции в Сибири вместо американцев. Несмотря на возражения французов, указывавших на категорическое нежелание чехов участвовать во внутренней борьбе в России, британцы продолжали настаивать - к 21 мая мнение Имперского генштаба превратилось в официальное предложение британского правительства.
Между тем, в двадцатых числах мая усиливавшееся напряжение между большевиками и чехословаками вылилось в прямое вооруженное противостояние. Теоретически возможность вывоза чехословаков еще сохранялась - 28 мая Троцкий сообщил Лаверню, что готов разрешить вывоз части корпуса через Архангельск, при условии сдачи оружия и пр. Сам Лавернь считал такие условия приемлемыми, однако и Нуланс и французское правительство его не поддержали****. Как отмечается, даже при согласии французов на компромисс надеяться на сдачу оружия чехами не приходилось - еще 26 мая съезд представителей частей корпуса в Челябинске постановил оружия большевикам не сдавать, считая его главной гарантией безопасности при продвижении к Владивостоку.
Возникла, таким образом, патовая ситуация - большевики желали разоружения чехословаков, но не имели возможности сделать это силой, а чехословаки не желали сдавать оружия, но не могли добраться до портов из-за чинимых им препятствий.
В этих условиях предложения англичан об оставлении корпуса в России выглядели все более привлекательно и находили все больше сторонников. Активным сторонником подобного решения был Нуланс. В телеграмме от 17 мая посол предлагал использовать чехословацкие и сербские части для интервенции в Сибири и на Севере. В сообщении от 17 июня посол призывал начать интервенцию как можно скорее, пользуясь слабостью большевиков. С послом фактически солидаризировалось и 3-е бюро Генштаба. В представленной им правительству и Верховному совету Антанты 18-19 июня записке констатировалось, что «правительство большевиков полностью находится в руках немцев» и в этих условиях чехословацкие войска необходимо не эвакуировать из России, а напротив использовать на месте против германцев и большевиков - вместе с другими антибольшевистскими силами.
Постепенно менялась и позиция правительства. 3 июня Верховный военный совет Антанты принял решение удерживать Мурманск и, как можно скорее, установить контроль и над Архангельском, использовав в т. ч. и чехословацкие части. 20 июня Клемансо еще настаивал на вывозе чехословаков из России, соглашаясь оставить их на месте лишь в случае если эвакуация окажется невозможна. Однако после провала эсеровского мятежа в начале июля стало понятно, что большевики не желают разрыва с Германией. С этого времени в официальных документах французского правительства появляется термин «германо-большевики», а сам большевистский режим окончательно переходит в разряд противников Франции.
* См. А. Павлов, Ф. Гельтон В кабинетах и окопах: французские военные миссии в России в годы Первой мировой войны или здесь - https://ericmackay.dreamwidth.org/277356.html
** [Помимо прочего, некоторое время занимал посты военного министра и министра финансов].
*** Фактически прибыл в Петроград в сентябре 1917-го, Жанен оставался при Ставке до октября.
**** В действиях представителей Франции наметился даже определенный раскол - Лавернь через своих офицеров убеждал чехов сдать оружие, тогда как французские дипломаты (например, консул в Самаре) призывали их этого не делать (видимо по указанию Нуланса).
Север и Восток России
скрытый текст
Выступление чехословаков, приведшее к ликвидации большевистской власти во многих районах Сибири и Дальнего Востока, заставило союзников резко активизировать усилия по организации интервенции в Сибири и на Севере. Как уже отмечалось, 3 июня 1918-го Верховный военный совет, по инициативе Великобритании, принял решение об удержании Мурманска и установлении контроля над Архангельском. Важность контроля над северными портами объяснялась, в первую очередь, растущей немецкой угрозой и необходимостью содействовать сибирской интервенции. Для контроля за портами предполагалось использовать прежде всего чехословацкие и сербские части, усиленные 4-6 батальонами союзных войск. Руководить операцией на Севере должна была Британия.
2 июля Верховный военный совет, снова по инициативе Великобритании, принял решение о срочной организации интервенции в Сибири. Президент Вильсон, ранее упорно отвергавший идею интервенции, в конце концов уступил давлению англичан и французов, подкрепленному просьбами о помощи со стороны Чехословацкого Совета. 10 июля американское правительство согласилось направить в Сибирь ограниченные силы (7 000 чел.) - но лишь для оказания помощи чехословакам. Идею восстановления Восточного фронта Вильсон по-прежнему отвергал и американские войска не должны были использоваться западнее Байкала. Французское предложение о создании единого политического руководства интервенцией в Сибири (с американцем в роли Верховного комиссара Антанты) Вильсон также отверг.
Действия Вашингтона способствовали активизации Японии. Уже 25 июля японский Генштаб сообщил союзникам о готовности направить в Россию две дивизии - во Владивосток и Читу. Официальной целью экспедиции также заявлялась помощь чехословакам, действовать западнее Байкала японцы, как и американцы, не собирались.
Ограниченный характер японо-американской интервенции, как отмечается, вызвал разочарование во французских и британских правящих кругах.
На Севере России союзники к лету продолжали удерживать Мурманск, действуя в согласии с местным Советом [30 июня порвавшим с Москвой и отказавшимся выполнять приказы СНК]. 2 августа союзные войска высадились в Архангельске. К моменту их высадки город был уже освобожден местными антибольшевистскими силами и сопротивления союзники не встретили.
Руководство операциями союзников на Севере принадлежало англичанам и французы здесь играли весьма скромную роль. Уравновесить английское влияние отчасти пытался Нуланс. Летом 1918 года союзные послы покинули Вологду, выехав на север и к 30 июля находились в Кандалакше, занятой союзными войсками. Отсюда они перебрались в Архангельск (Нуланс прибыл в город 9 августа). Здесь французский посол развил бурную деятельность, предлагая своему правительству расширить масштабы интервенции на Севере*. Легкость с которой удалось занять Архангельск, демонстрировала, по его мнению, полное бессилие большевистского режима, чем следовало немедленно воспользоваться. Нуланс и выполнявший при нем функции военного атташе майор А. Лелонг, предлагали немедленно отправить на Север еще 20 000 союзных солдат (в первую очередь - американских), установив контакт с чехословаками через Вологду и Вятку. В самом Архангельске предлагалось создать объединенный штаб союзных войск и межсоюзнический орган для решения политических и экономических вопросов (в обоих случаях - с участием французов). Инициативы Нуланса были в целом поддержаны Парижем, однако реализация их оказалась невозможной - дополнительных войск для Севера не нашлось, единого руководства не желали американцы, англичане не желали лишний раз раздражать американцев и т. д.
Мнение английского командования относительно задач интервенции на Севере совпадало с представлениями Нуланса, однако дополнительных сил на Север оно также направлять не собиралось. Попытка командовавшего местными союзными войсками британского генерала Пуля достичь означенных целей (Вологда и Вятка) имеющимися силами успеха не имела (осень 1918-го). Общая численность сил Пуля к октябрю 1918-го составляла менее 17 тыс. чел. (включая 1 864 французов). К зиме 1918 года активность союзников на Севере сошла на нет. Французское руководство к этому времени утратило, в целом, интерес к Северу, сосредоточившись на организации интервенции в Сибири и на Юге. Нуланс был отозван во Францию, покинув Архангельск 15 декабря 1918-го.
В Сибири собственно французское военное присутствия также было чисто символическим, демонстрируя лишь межсоюзнический характер интервенции. Важное положение французам здесь обеспечивал контроль над чехословацкими войсками, представлявшими поначалу наиболее крупную и боеспособную организованную силу.
Чехословацкий корпус, как уже отмечалось, с февраля 1918 года считался частью автономной Чехословацкой армии во Франции. Пост главнокомандующего Чехословацкой армией с 27 февраля 1918 года занимал генерал М. Жанен. 25 июля 1918 года французское правительство (по согласованию с Чехо-Словацким Национальным Советом) решило направить его в Сибирь. Согласно полученным 7 августа инструкциям генерал должен был принять командование чехословацкими частями в Сибири и на Дальнем Востоке, а также всеми французскими отрядами и военными представителями в регионе. Жанену предписывалось установить контакт с союзными силами на Севере и дружественными группировками на Юге России и сформировать на пространстве от Белого до Черного морей прочную сеть центров сопротивления ограничивающих германскую экспансию на восток. В качестве основного противника указывались немцы, большевики в инструкциях не упоминались. Помимо руководства чехословаками Жанену поручалось возглавить и формирование (с опорой на Чехословацкий корпус) русских и других национальных частей.
В помощь Жанену давался штаб, возглавляемый майором Робером Бюксеншютцем. При Жанене состоял также представитель ЧСНС М. Штефаник (бригадный генерал французской армии). Во Владивостоке создавалась французская военная миссия, во главе с генералом Перисом. Последний должен был поддерживать прямую связь с французским военным министром и чехословацким Генштабом в Париже, а также с местными военными представителями союзных держав. На него же, до прибытия Жанена,возлагалось поддержание связи между японцами и чехословаками.
Политическими и экономическими вопросами региона ведал созданныйв августе во Владивостоке неформальный межсоюзнический комитет, включавший Высоких комиссаров стран Антанты. Францию в нем представлял Э. Ренью, посол республики в Японии, а позднее - граф Дамьен де Мартель.
Оперативное командование союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке осуществлялось японцами и Жанен, действуя автономно, должен был принимать директивы японского командования.
Жанен добрался до Владивостока лишь 16 ноября 1918-го. К этому времени обстановка и в мире и в России успела радикально измениться. Германское отступление на Западе закончилось поражением Германии, оформленным перемирием 11 ноября. Большевистский режим в России напротив весьма окреп. В этих условиях стратегия действий Антанты в России требовала серьезной корректировки.
Представленная 3-м бюро 17 октября 1918 года записка констатировала, что главной угрозой для стран Согласия на территории бывшей Российской империи являются уже не немцы, а большевики, уничтожение которых (вместе с возрождением русского национального государства) необходимо для восстановления европейского равновесия и сохранения благ мира. Добиться этого предлагалось без масштабной интервенции - путем окружения и удушения большевистского режима, действуя одновременно на севере, востоке, юго-востоке и юго-западе. Ликвидация большевиков должна была сопровождаться освобождением всех территорий Российской империи от германского доминирования.
Как отмечается, записка 3-го бюро представляла собой компиляцию мнений Лаверня (возвращавшегося в это время из Москвы в Париж) и Нуланса. Лавернь, констатируя рост и улучшение организации военных сил большевиков, предлагал либо вовсе отказаться от ликвидации советского режима военным путем, дожидаясь его падения или эволюции под гнетом экономических трудностей, либо провести масштабную интервенцию силами союзников (до 0,5 млн чел.), с последующей 2-летней оккупацией России (второй вариант, впрочем сам автор явно считал нереалистичным). Нуланс, в свою очередь, устойчивость советского режима оценивал невысоко и считал, что его можно сокрушить и без масштабной интервенции - путем окружения и удушения небольшими силами.
Принятая французским правительством новая стратегия в отношении России в целом базировалась на указанной записке 3-го бюро. Основы этой стратегии были изложены в письме Клемансо Пишону от 23 октября 1918-го.
Добиться уничтожения большевиков предлагалось путем «экономического окружения»: на Севере - действуя с опорой на Мурманск и Архангельск, а позднее и Финляндию перекрыть большевикам доступ к открытому морю; на Востоке - закрепившись на Урале силами чехословацких и русских белых войск, поддержанных японцами, лишить большевиков доступа к ресурсам Сибири; на Юго-Востоке - силами британских войск и армянских отрядов отрезать большевиков от Кавказа, Каспия и Малой Азии; на Юге и Юго-Западе - занять хлебные районы Украины и Крыма и угольные регионы Донбасса.
В России, тем временем, первоначальные успехи чехословаков уже осенью 1918-го сменились неудачами. Чехи и отряды Народной армии Комуча начали отход к Уралу. 23 сентября 1918-го в Уфе было образовано Временное Всероссийское правительство (Директория), претендовавшее на роль правительства России. Уже 3 октября оно официально обратилось за помощью к союзникам, прося поддержки союзных войск. Французское правительство факт создания Всероссийского правительства оценивало положительно, всерьез рассматривая возможность его признания. Откликнулось оно и на просьбу о помощи - французы, вместе с британскими союзниками, активно давили на американцев и японцев, пытаясь заставить их двинуть войска на запад, в помощь чехословакам. Успеха эти попытки не имели и помощь союзников Директории ограничилась присылкой французского и британского батальонов.
Разногласия наметились и с британцами - возглавивший английскую военную миссию генерал А. Нокс стремился возглавить процесс формирования русских вооруженных сил, составляя опасную конкуренцию еще не прибывшему Жанену.
18 ноября перебравшаяся в Омск Директория была свергнута в результате военного переворота и к власти в Сибири пришел адмирал А. Колчак, занявший свежесозданный пост Верховного правителя и принявший на себя обязанности Верховного Главнокомандующего.
Таким образом, данные Жанену инструкции к моменту его прибытия в Сибирь устарели - создание антигерманского Восточного фронта перестало быть актуальным, руководство формированием русских вооруженных сил, при наличии действующей национальной власти также делалось затруднительным. Дело дополнялось неприятием Колчака большей частью чехословаков.
В свете изменившихся обстоятельств в начале ноября 1918-го британское правительство предложило передать командование всеми войсками в Сибири (к западу от Байкала) русским, оставив генералов Нокса и Жанена в качестве технических советников при русском командовании. Однако против этого резко выступили французы и англичане вынуждены были отступить. Согласно достигнутому 23 ноября 1918-го англо-французскому соглашению главнокомандующим всеми союзными и русскими войсками к западу от Байкала становился Жанен, Ноксу поручалось руководить снабжением армии в той же зоне. Главное командование к востоку от Байкала оставалось в руках японцев.
Колчака это соглашение, разумеется, не устраивало и 16 декабря на первой встрече с Жаненом в Омске адмирал в резкой форме отказался его признавать. 20 декабря отказ был оформлен официально. Одновременно, впрочем, союзникам был предложен и компромисс - Верховный правитель остается главой правительства и всей русской армии на подконтрольной ему территории; Жанен остается главнокомандующим всеми союзными войсками к западу от Байкала и назначается заместителем Верховного главнокомандующего в отношении русских войск; Верховный главнокомандующий может временно поручать Жанену командование русскими войсками.
Жанен запросил инструкций у Парижа, внятного ответа не получил и счел, что может принять предложенный компромисс. 16 января 1919 года между Колчаком и Жаненом было заключено соглашение об организации командования войсками. В соответствии с ним Жанен признавался командующим союзными войсками (английскими, французскими, итальянскими, чехословацкими, польскими, румынскими, югославянскими) к западу от Байкала. Русское Верховное командование соглашалось принимать общие директивы Жанена как представителя верховного межсоюзнического командования. Планы операций должны были подписываться обеими сторонами, а отдаваемые в рамках операций приказы передаваться Жанену для утверждения в части касающейся подчиненных ему войск. Жанен получал также право осуществлять «общий контроль» на фронте и в тылу - «для обеспечения единства действий русских и союзных войск» и выявления их потребностей - с помощью посылаемых в учреждения и части офицеров.
Генерал Нокс назначался ответственным за заграничное снабжение армии и его распределение, а также за содействие в организации и подготовке русских войск в тыловой зоне - в обоих случаях взаимодействуя с русским Военным министерством и Жаненом.
19 января 1919-го это соглашение было введено в действие приказом Колчака - Жанен был объявлен командующим «войсками союзных с Россией государств», а Нокс «ответственным за заграничное снабжение армии и объединение союзной помощи в тылу по организации и обучению войск». Начальнику штаба Главковерха предписывалось согласовывать операции с Жаненом, а Военному министерству - координировать свою работу с Ноксом.
Фактическое участие Жанена в руководстве военными операциями оказалось весьма скромным - подчиненные ему войска в боевых действиях фактически не участвовали. Деморализованные чехословаки были выведены с фронта в ноябре - декабре 1918 года, прочие силы на фронте и не появлялись. Общая численность подчиненных Жанену войск к февралю 1919-го определялась примерно в 70 тыс. человек - 55 тыс. чехословаков (к которым прибилось немало бывших военнопленных), 10 тыс. поляков, 3 400 румын и проч. Все они несли охранную и гарнизонную службу в тылу. Попытки вытолкнуть на фронт хотя бы часть всей этой сволочи, периодически инициируемые русским командованием и Парижем, никакого успеха не имели.
Вопросы снабжения армий Колчака почти целиком решались англичанами и участие Франции сводилось лишь к выплате соответствующих финансовых взносов. С начала 1919 года Франция оплачивала содержание всех иностранных войск находившихся под командованием Жанена и предоставляла субсидию на содержание русских - из расчета 3 франка в день на человека, но не более чем на 200 тыс. человек, т. е. максимум 18 млн франков в месяц. Верные себе французы и здесь, как и на юге (см. ниже), пытались компенсировать свои расходы за счет предоставления концессий и проч., однако их претензии были отвергнуты русскими властями при поддержке англичан.
К концу 1919 года влияние Жанена и Франции в целом на сибирские дела существенно сократилось. [О дальнейших художествах Жанена и чехословаков авторы ничего не пишут].
* Помимо прочего Нуланс пытался влиять и на местные дела - через полковника Л. Ж. Ф. Донопа, оставленного в Архангельске бывшего офицера миссии Бертело, назначенного Пулем местным военным губернатором. Доноп, впрочем был вскоре был отставлен русскими властями.
** Ранее руководил представительством 2-го бюро Генштаба в Петрограде
*** В бытность Жанена военным представителем в России служил при нем офицером для поручений, позднее служил в миссии при УНР и в ходе ее эвакуации присоединился к Чехословацкому корпусу.
Юг России
скрытый текст
Южное направление снова стало доступно союзникам после выхода из войны Турции (30 октября 1918). Завершение войны с Германией (11 ноября) открывало, казалось, широкие возможности для вмешательства в русские дела на этом направлении и французское руководство поначалу строило планы широкой интервенции на юге.
3-е бюро уже в записке от 13 ноября предлагало как можно скорее заместить уходящие германские войска значительными силами союзников. Для этого предлагалось выделить 12 дивизий Салоникского фронта - 5 французских, 2 британские, 2 итальянские и 2 греческие. Еще 5 британских дивизий предлагалось направить с Палестинского фронта на Кавказ.
15 ноября Клемансо предложил союзникам обсудить вопрос интервенции на юге России, а 21 ноября, не дожидаясь общего решения держав, направил командующему Салоникским фронтом генералу Франше д'Эсперэ директиву определяющую предварительный план действий французских вооруженных сил в регионе.
Руководство операциями в Румынии, Трансильвании и на Юге России поручалось командовавшему Дунайской армией* генералу А. Бертело. Последний должен был тремя французскими и тремя греческими дивизиями занять ряд черноморских портов Новороссии и Крыма, выдвинув отряды в Днепровский и Донецкий районы для поддержания там порядка. Добровольческой армии следовало направить вооружение, боеприпасы, инструкторов и проч. Указывалось на возможное расширение интервенции в будущем - за счет войск Великобритании и Италии.
Сам Бертело, представивший свои первоначальные соображения Франше д'Эсперэ 28 ноября, предлагал задействовать в интервенции уже 7 - 9 французских и румынских дивизий. Более детальный план операции Бертело представил Франше д'Эсперэ и Клемансо 4 декабря 1918-го. К этому времени в состав Дунайской армии входило всего 3 недоукомплектованных французских дивизии - 156-я (готовилась к погрузке в Салониках), 16-я колониальная (части разбросаны по территории Болгарии и сильно пострадали от испанки) и 30-я (в районе Бухареста). Еще три дивизии готовы были выделить греки. Нехватку войск Бертело, заручившись согласием румынского Генштаба, предлагал решить за счет создания смешанных франко-румынских дивизий (2 румынских и французский пехотные полки, с французскими артиллерийскими и техническими подразделениями и французским управлением дивизии). Доведя общее число дивизий до семи-девяти Бертело предлагал занять ими три района: Юзовка** - Харьков, Киев - Полтава и Одесса - Севастополь. План Бертело был горячо поддержан французским послом в Румынии гр. де Сент-Олер.
Первоначальные планы французов более-менее соответствовали ожиданиям командования Добровольческой армии. Последнее считало необходимым занять союзными войсками (100 - 150 тыс. чел.) линию Киев - Чернигов - Харьков, что дало бы белым возможность сформировать в Новороссии и Малороссии дополнительно 10-12 корпусов (24 - 36 дивизий).
Дунайская армия Бертело подчинялась непосредственно Парижу, однако в области снабжения целиком зависела от Салоникского фронта и связь с Францией поддерживала через его штаб в Салониках. Полномочия Бертело и Франше д'Эсперэ были четко разграничены только 28 января 1919 года - Бертело (на правах командующего армией действующей на обособленном ТВД) должен был руководить всеми действиями на Юге России, сохраняя функции представителя Франции при правительстве и Верховном командовании Румынии; Франше д'Эсперэ должен был координировать действия всех армий на Востоке (включая армию Бертело), отвечая за выполнение Венгрией условий перемирия. Личные отношения двух французских военачальников не сложились - Франше д'Эсперэ считал Бертело недостаточно компетентным, а Бертело Франше д'Эсперэ - невежественным и самодовольным.
Уже в начале зимы 1918 - 1919 годов первоначальные наполеоновские планы французской интервенции стали усыхать на глазах. Новый доклад 3-го бюро от 30 ноября констатировал наличие серьезных препятствий для организации масштабной интервенции, среди которых указывались нехватка личного состава в связи с начавшейся демобилизацией армии***, отсутствие тоннажа для перевозок войск и грузов и негативное общественное мнение. Для организации масштабной интервенции в этих условиях требовалось усиление французских сил дополнительными контингентами - 18 батальонами колониальных войск, 20 000 французских солдат и офицеров (преимущественно добровольцев), а также британскими и итальянскими войсками.
Передавший в Париж указанные выше соображения Бертело Франше д'Эсперэ также сомневался в возможности масштабных действий имеющимися силами и предлагал ограничиться посылкой всего 3-4 дивизий (30 ноября). В качестве срочной меры предлагалось отправить в Одессу и Севастополь части 156-й дивизии, уже готовой к погрузке. 5 декабря Клемансо утвердил это решение.
Очередной доклад 3-го бюро (7 декабря) был еще более пессимистичен. Поддержав позицию Франше д'Эсперэ бюро предлагало ограничиться занятием черноморских портов и посылкой небольшого отряда в Донбасс. Для интервенции предлагалось использовать одну 156-ю дивизию, позднее усилив ее греками. Скромную численность войск предлагалось компенсировать обилием технических средств - приданными авиа-, броне- и танковыми частями. 30-ю французскую дивизию предлагалось использовать для формирования 2-3 смешанных франко-румынских (с перспективой отправки их в район Днепровского бассейна). 16-я дивизия оставалась в резерве.
Следующий доклад 3-го бюро (11 декабря) рисовал уже совсем пессимистическую картину. В условиях отсутствия британской**** и итальянской поддержки, политических затруднений с использованием румынских войск и резкого падения боеспособности французских частей действовать предлагалось максимально осторожно.
18 декабря, в день высадки передовых подразделений 156-й дивизии в Одессе, Клемансо направил Бертело и Франше д'Эсперэ новую директиву, подтверждавшую и уточнявшую указания директивы от 21 ноября. Полагаясь лишь на имеющиеся силы генералам предписывалось занять Одессу, Николаев, Севастополь, Таганрог, позднее направив войска в Донбасс и Днепровский бассейн.
Таким образом, несмотря на отсутствие формального решения, французское руководство почти сразу же фактически отказалось от предполагавшейся масштабной интервенции на Юге России. Руководство Добровольческой армии, тем временем, продолжало ожидать скорого прибытия значительных сил союзников, имея для этого, казалось, серьезные основания. Так, отправленный в Бухарест для установления контакта с союзниками экс-главком Румынского фронта ген. Д. Г. Щербачев, по результатам переговоров с Бертело в конце ноября сообщил Деникину о намерении союзников направить в Россию 12 дивизий. Широкие обещания давали русским и французский посол в Румынии граф де Сент-Олер (в ходе Ясского совещания 16 - 23 ноября, удостоившись за это сурового выговора от Пишона) и другие лица*****.
23 ноября 1918-го в Новороссийск прибыл французский крейсер «Эрнест Редан», доставивший британскую военную миссию (генерал Пуль) и пресловутого капитана Фуке и высадивший на берег смешанный отряд морской пехоты (230 чел.). Позднее корабли союзников появились в Одессе и Севастополе, также высадив на берег небольшие отряды.
Основные силы французской 156-й дивизии начали высадку в Одессе 18 декабря. В двух полках дивизии на это время имелось лишь 2 400 человек. Третий полк дивизии 26 декабря высадился в Севастополе.
Позднее французы установили также контроль над Херсоном и Николаевым, причем последний удерживался в основном силами застрявших в городе немцев (ок. 12 тыс. человек), согласившихся, в ожидании эвакуации подчиняться приказам союзного командования.
Несоответствие масштабов интервенции ожидаемым вызывало растущее удивление и недовольство белого командования, [обоснованно] считавшего, что французы пересмотрели план интервенции не поставив в известность союзника. Это недовольство французы разнообразными способами постарались усугубить.
Отдельного упоминания заслуживает эпопея пресловутого капитана Фуке. Как отмечается, капитан, служивший офицером связи при Франше д'Эсперэ, был направлен последним к Деникину дабы уравновесить влияние британской военной миссии в ожидании прибытия аналогичной французской. Полномочий представлять Францию он (согласно последующим заявлениям французского руководства) не имел. Это не помешало Фуке объявить себя сначала главой военной миссии, а затем и представителем правительства Франции и развить бурную деятельность на белом Юге. [Венцом ее стало предъявление известных «требований» (включавших подчинение Добровольческой армии и Дона французскому командованию, компенсацию убытков французским промышленникам и проч.) атаману Краснову 9 февраля 1919-го. Возмущенные Краснов и Деникин информировали о поведении капитана Франше д'Эсперэ] и, через Сазонова, Париж. Пишон ограничился выражением удивления (2 марта), однако неутомимый капитан начал «копать» и под британскую военную миссию, англичане нажаловались своему правительству и последнее потребовало у Парижа официальных разъяснений (8? марта). В результате капитана все-таки отозвали, однако вся эта история удивительным образом сошла ему с рук - санкции ограничились отметкой в личном деле. На белое командование и общественность деятельность Фуке произвела неизгладимое впечатление.
Отношения между белым руководством и французским командованием в районе затронутом французской интервенцией также, мягко говоря, не сложились. Французы (командовавший французскими силами генерал Филипп д'Ансельм и поддерживавший его Бертело) требовали подчинения себе русских военных и гражданских структур, препятствовали деятельности представителей добровольческого командования, проведению мобилизации и проч., пытаясь при этом формировать смешанные русско-французские части под своим командованием. Позиция французского командования, несмотря на возражения англичан, была поддержана Клемансо (4 марта).
Не ограничиваясь перечисленным французы вступили еще и в переговоры с украинцами. Первоначально контакты ограничивались местными вопросами, однако 28 января 1919-го Клемансо направил Бертело и Франше д'Эсперэ прямое указание оказать Петлюре моральную и материальную поддержку (штаб Бертело получил эту телеграмму 3 февраля). 5 февраля начальник штаба д'Ансельма полковник Фрейденберг****** вступил в переговоры с представителями Директории. Переговоры продолжались на протяжении февраля - марта 1919 года. Материалы этих переговоров были частично обнародованы позднее украинцами, большевиками и англичанами. Судя по опубликованным материалам речь шла о признании Директории Францией, передаче украинских войск под французское командование и проч.
Переговоры французов с украинцами вызвали большую тревогу не только у белого командования, но и у англичан - 20 марта в Париж был направлен соответствующий официальный меморандум.
Само французское правительство и в этом случае все отрицало, заявляя, что не давало Бертело и д'Ансельму полномочий на ведение переговоров такого рода. Бертело и д'Ансельм, признавая факт ведения переговоров с украинцами, факт заключения каких-либо договоренностей отрицали.
Автор (А. Ю. Павлов) склонен списывать все странности этой истории на проблемы коммуникации местных французских представителей с Парижем, однако можно отметить, что и в этом случае наказания за «самодеятельность» никто из французов не понес. Более того, когда уже в мае 1919 года французское правительство решило направить военную миссию в УНР (в связи с последовавшим вскоре полным разгромом украинцев отправлена не была), главой миссии (по инициативе Клемансо) был назначен тот же полковник Фрейденберг.
Силы французов в Новороссии к началу марта 1919-го включали части 156-й французской (2 полка в районе Одессы и полк в Севастополе) и 2-й греческой дивизий (полк в Одессе, с одним батальоном в Херсоне и 2 полка в пути из Салоник в Одессу). Позднее они были усилены частями 13-й греческой дивизии и 4 батальонами колониальной 30-й дивизии. Моральный дух французских солдат и матросов был крайне низким, воевать они не желали, в частях беспрепятственно развивалась большевистская агитация.
Моральный дух французского командования был столь же невысок. Так, ген. Бертело, основываясь на оценках собственного представителя, рисовал текущее положение ВСЮР исключительно черными красками, обвиняя белое командование во враждебности к союзникам и призывая пересмотреть ранее принятые решения об интервенции (8 марта).
4 марта 1919-го перешедший на сторону большевиков атаман Григорьев выбил французов и греков (1 400 чел.) из Херсона. 14 марта союзные силы (2 греческих батальона) покинули Николаев.
В тот же день, 14 марта, командующим всеми французскими войсками в Черноморском регионе был назначен Франше д'Эсперэ. Перед генералом была поставлена задача удерживать Одессу - уже лишь как часть «санитарного кордона» против большевиков. Общие силы союзников в районе Одессы к концу марта 1919-го доходили уже (вместе с русскими и польскими частями) до 30 тыс. чел., [т. е. существенно превышали силы Григорьева], однако моральный дух французских солдат и командиров таял на глазах. Так, 18 марта посетивший Одессу Франше д'Эсперэ внезапно обнаружил, что банды Григорьева теперь уже не банды, а «хорошо организованные и дисциплинированные части» и приказал готовиться к эвакуации.
19 марта французские и греческие части (3 батальона) были разбиты Григорьевым у Березовки и позорно бежали, взорвав орудия и бросив 5 танков. 4 - 9 апреля французы
Крым поначалу решено было удерживать - 8 апреля соответствующее пожелание Клемансо направил Франше д'Эсперэ. Однако окончательное решение должен был принять последний и он не подвел - 16 апреля генерал сообщил в Париж свое мнение о ситуации: интервенция затевалась для обеспечения вывода войск и поддержки местных правительств, вывод немцев завершился, а местные правительства слабы и ни на что не способны, вывод - нужно поскорее драпать из Крыма, желательно избегая столкновений с большевиками. 18 апреля Франше д'Эсперэ принял решение об эвакуации Севастополя и концу апреля части союзников покинули Крым [подробности и здесь опущены].
Позорное бегство французов окончательно разрушило репутацию Франции в глазах белого командования и общественности. Отношение к французам было таково, что военный представитель Франции при штабе ВСЮР подполковник Корбель в начале мая 1919-го даже просил Париж об отзыве.
Успехи ВСЮР летом-осенью 1919-го (особенно занятие Донбасса, где французский капитал был представлен очень широко) повысили интерес французского правительства к сотрудничеству с Деникиным. На Юг России было решено отправить более представительную военную миссию во главе с генералом Шарлем Манженом (сформирована 27 сентября). Помимо сбора информации и защиты экономических интересов Франции Манжен должен был попытаться восстановить пошатнувшийся имидж республики.
До штаба ВСЮР миссия Манжена добралась в начале ноября 1919 года. Отношения между французами и белыми с приездом Манжена принципиально не изменились. Снабжение белых армий по-прежнему осуществлялось англичанами (Франция оплачивала половину поставок). Дополнительные поставки французы готовы были осуществлять (причем за счет подлежащих ликвидации запасов времен Мировой войны, в основном американского происхождения) в обмен на торговые преференции - в области экспорта хлеба, угля и проч. Это, в свою очередь, не устраивало белое правительство и соответствующие переговоры никакого результата не дали.
В январе 1920 года Клемансо на посту премьера сменил Александр Мильеран, [представлявший победивший на выборах в ноябре 1919-го правоцентристский Национальный блок]. Мильеран занял также пост министра иностранных дел, генеральным секретарем МИД при нем стал Морис Палеолог, бывший посол в России.
Поражения белых армий в начале 1920 года привели к корректировке позиций союзных держав в отношении России. Принятый в январе 1920-го новый курс британского правительства предусматривал отказ от наступательных действий против большевиков, прекращение экономической и военной блокады Советской России, оказание помощи лишь государствам подвергшимся нападению большевиков и проч. 25 февраля он был в целом одобрен и Верховным советом Антанты.
Правительство Мильерана поддерживало в целом курс на отказ от наступательных действий против большевиков, однако не одобряло дальнейшее сближение с ними (восстановление торговых отношений, политические переговоры и проч.), к чему явно стремилось британское правительство. Не поддерживал Париж и взятую британцами линию на ликвидацию остатков ВСЮР. Положение белой армии в Крыму, впрочем, поначалу оценивалось как безнадежное и в начале июня 1920-го миссия Манжена была отозвана во Францию.
В условиях фактического отказа Британии от поддержки белых новый глава ВСЮР генерал Врангель желал заручиться поддержкой Франции. В мае 1920-го в Париж был направлен начальник Управления внешних сношений П. Б. Струве, представивший французскому правительству детальный доклад об основах политики Врангеля и планах его дальнейших действий (20 июня). Описанные Струве перспективы (аграрная реформа, народное представительство, федеративное устройство государства и проч.) французов более чем устраивали. 1 июля Струве направил Палеологу еще один документ, посвященный уже русско-польским отношениям. От имени Врангеля предлагалась координация действий с польской армией, выражалась готовность договориться об условиях будущего разграничения двух стран (при посредничестве Франции) и проч. Конкретные параметры разграничения не указывались, единственным предварительным условием был отказ от создания самостоятельной Украины. Взамен всего этого белое руководство желало получить военную помощь, причем объем ее должен был определяться не платежеспособностью правительства Врангеля, а прилагаемыми им усилиями, с учетом общих ресурсов России, которые могут быть (в будущем) использованы для оплаты этой помощи.
Представленные Струве разъяснения были восприняты французским правительством с удовлетворением и отношения Франции и Врангеля начали быстро теплеть. 19 июля Мильеран сообщил Струве о решении признать правительство Врангеля де-факто - при условии предварительного официального признания международных обязательств и обещания провести аграрную реформу и обеспечить народное представительство.
5 августа соответствующий документ был представлен Мильерану и 10 августа французское правительство известило русское посольство в Париже о признании правительства Врангеля де-факто и намерении направить в Крым представителя в ранге Высокого комиссара. Британское правительство узнало о решении Парижа из газет и было весьма им недовольно.
Вопросы военной помощи Крыму начали обсуждаться с французами еще весной. Белое командование просило французов о передаче имеющегося у них трофейного вооружения из Турции и Болгарии [не расшифровывается] и в мае - июле эти просьбы были отчасти удовлетворены.
В начале августа к обсуждению вопроса о военных поставках подключился военный представитель Врангеля в Париже ген. Е. К. Миллер. Сообщая о готовящемся большом наступлении Русской Армии Миллер, в письме Фошу, просил Францию предоставить вооружение и боеприпасы, а также средства на оплату поставок. Просьба Миллера была поддержана Фошем (4 августа).
Позднее эта просьба была конкретизирована. Представленный 13 августа список включал 225 самолетов; 180 полевых орудий и 250 000 снарядов к ним, а также конскую упряжь на 45 батарей [т. е. фактически 45 4-орудийных батарей]; 200 пулеметных бронеавтомобилей, 200 пулеметов и 600 000 патронов; обмундирование и снаряжение на 40 000 бойцов; 6 000 кавалерийских седел, 1 000 тонн колючей проволоки, 500 км телеграфного кабеля, 300 телефонных аппаратов, 500 биноклей.
Отдельно запрашивалось продовольствие - в списке представленном французскому адмиралу де Бону в августе фигурировали 2,87 млн рационов консервов, 200 тонн жиров, 80 тонн сухих овощей, 440 тонн риса, 240 тонн макарон, 100 тонн сахара, 42 тонны мыла и 2 тонны лимонной кислоты.
Представленный Миллером список позднее расширялся и в сентябре 1920-го состоял уже из 46 позиций общей стоимостью в 381 056 000 франков.
Составленный по просьбе французов минимальный список срочно необходимых предметов оценивался в 84 982 000 франков. Этого должно было хватить на 6 месяцев активных операций 130-тысячной армии.
Запрошенные Врангелем материалы были разделены на три группы. Первую (общей стоимостью 29,6 млн фр.) составляли материалы из имевшихся у французской армии «излишков», не требовавшихся ей даже в случае мобилизации. Вторую - материалы которые могли понадобиться французской армии при мобилизации (40 022 400 фр.). Третью - предметы снабжения из запасов распродаваемых французским правительством.
Материалы первой группы французы готовы были поставлять не требуя немедленной оплаты, второй - только при условии немедленной оплаты [про третью ничего не сказано].
Французское правительство готово было немедленно предоставить вооружения и военные материалы из первой группы и трофеев в Турции и Болгарии, общей стоимостью в 100 млн франков, [так в тексте, как это сочетается с приводимыми выше цифрами неясно] при условии согласия правительства Врангеля на предоставление Франции особых преимуществ в торговле. Последние включали, в частности, обязательство до конца 1921 года продавать во Франции половину всего объема экспортируемых зерна, угля, шерсти, табака, кож и жмыха, направляя половину вырученных средств на оплату материалов, которые Франция готова была выделить немедленно, а также на оплату неких долгов Деникина (?).
Глава врангелевского правительства А. В. Кривошеин указал Струве принять означенные условия (22 октября), однако до эвакуации Крыма соглашение подписать не успели [о фактически поставках ничего не сообщается].
В руководстве Франции в конце сентября 1920-го произошли некоторые перемены. Мильеран занял пост президента республики, сменив подавшего в отставку по состоянию здоровья Поля Дешанеля (21 сентября, оставался на посту президента до июня 1924 года). На посту премьера его 24 сентября сменил Жорж Лейг (бывший морской министр в кабинете Клемансо, продержался на посту премьера до января 1921-го, когда был сменен Аристидом Брианом).
Изменений во внешней политике Франции эти перемены не вызвали, курс на поддержку правительства Врангеля сохранялся. 19 октября 1920-го в Севастополь прибыли новые французские представители - Высокий комиссар Д. де Мартель (ранее занимавший аналогичный пост в Сибири) и военный представитель генерал Бруссо.
Положение на фронтах тем временем начало меняться к худшему. 12 октября 1920-го поляки подписали с большевиками перемирие в Риге, дав возможность последним сосредоточить основные силы на крымском направлении. [28 октября красные начали решительное наступление в Северной Таврии], ситуация на фронте быстро ухудшалась и уже 31 октября де Мартель просил прислать корабли для эвакуации французской миссии. 10 ноября он просил уже помощи в обеспечении массовой эвакуации армии и гражданских беженцев. В ответ на эти просьбы французскому флоту было приказано содействовать Врангелю в обороне Крыма и обеспечить эвакуацию как французских миссий и граждан, так, по возможности русских, более всего подвергавшихся опасности в случае прихода большевиков. Лейг инициировал также срочные консультации с правительствами Греции, Румынии, Сербии и Болгарии относительно размещения русских беженцев.
[Эвакуация Крыма была завершена 16 ноября], общее число русских военных и беженцев в Константинополе к 27 ноября оценивалось в 149 800 человек.
* Выделена из состава французской Восточной армии Салоникского фронта 28 октября 1918 года.
** В тексте Донецк.
*** К 11 февраля 1919 года французы успели демобилизовать св. 1,2 млн солдат и офицеров.
**** Британцы 29 ноября сообщили французам о решении вывести британские войска Салоникского фронта из под общего командования и в дальнейшем использовать их только на Кавказе.
***** Так, некий капитан Э. Энно, посланный де Сент-Олером в Одессу, представляясь французским консулом или вице-консулом обещал, от имени Франции, широкую помощь Гришину-Алмазову и Шульгину. В марте 1919 года Пишон на заседании французского парламента заявил, что Энно не поручалось выполнение какой-либо дипломатической миссии и статуса консула он не имел. [На карьеру Шарля де Бопуа, графа Сент-Олер эта история удивительным образом не повлияла - в 1920 - 1924 годах он служил послом в Мадриде и Лондоне.
****** Также фигура чрезвычайно спорная. Белые подозревали его в сотрудничестве с большевиками и даже в получении от них взяток.].
[Основной целью французской политики в России между Февралем и Октябрем 1917-го являлось предотвращение выхода русского государства из войны.
Между октябрем 1917-го и июнем-июлем 1918 года основными целями Франции были восстановление в какой-то форме Восточного фронта и недопущение распространения германского влияния на восток. Ради выполнения этих задач французское правительство готово было сотрудничать с любыми силами, включая большевиков.
В июне-июле - ноябре 1918 года цели французской политики оставались прежними, однако большевики из потенциальных союзников перешли в разряд противников Франции, почти слившись с германцами.
После окончания Мировой войны на роль главного противника Франции на востоке выдвинулся большевизм и в ноябре 1918 - ноябре 1920-го основной целью французской политики становится ликвидация советской власти - ради восстановления европейского равновесия и пресечения деструктивной большевистской пропаганды. Добиться этого предполагалось за счет «экономического окружения» и удушения большевистского режима.
Масштабного военного участия Франции ни на одном из этапов не предполагалось, решать поставленные задачи предлагалось крайне незначительными силами и (или) руками союзников и партнеров.
В целом, нельзя не отметить удивительную малоэффективность (на фоне скажем британского союзника) деятельности французского правительства в России, поразительную неспособность его представителей наладить хотя бы минимально приемлемые отношения с русскими (не говоря уж о цирковых номерах Фуке, Энно и проч.) и характерное жлобство, пронизывающее всю русскую политику республики].
1921 - 1924 годы
скрытый текст
В январе 1921 года Ж. Лейга на посту премьера сменил более авторитетный Аристид Бриан. Последний возглавлял правительство Франции до января 1922 года, уйдя в отставку из-за уступок Британии по «советскому вопросу». Бриана сменил бывший президент Раймон Пуанкаре остававшийся во главе правительства до июня 1924 года. Как и Лейг, Бриан и Пуанкаре занимали одновременно и пост главы МИД.
«Русская» политика Франции вплоть до середины 1924 года, несмотря на определенные колебания, оставалась в целом неизменной - французское правительство не признавало большевиков ни де-юре, ни де-факто. Некоторое взаимодействие наблюдалось лишь в сфере репатриации - русских пленных, солдат экспедиционных частей и проч. в Россию и французских граждан - во Францию.
Одним из основных препятствии для восстановления отношений была проблема долгов - французское правительство считало признание большевиками финансовых обязательств России непременным предварительным условием установления дипломатических отношений. Этому способствовала активная деятельность различных организаций по защите французских интересов, объединяющих пострадавших от большевистских национализаций и аннулирования долгов. Важнейшей из них была Генеральная комиссия по защите французских интересов в России, образованная в августе 1918 года и с января 1920-го возглавляемая бывшим послом республики в России Ж. Нулансом.
Общая сумма российского долга в марте 1920-го оценивалась французским МИДом в 14 млрд франков. Ассоциация Нуланса оценивала их в 25,1 млрд франков: займы выпущенные или гарантированные русским правительством* - 11 млрд франков; займы русских городов* - 0,6 млрд франков; военные кредиты выданные французским правительством - 4 млрд франков; капитал инвестированный в промышленные компании и банки - 2,5 млрд франков; собственность и интересы французских граждан - 7 млрд франков.
Французское правительство теоретически готово было поступиться казенными военными кредитами, однако на признании долга по русским облигационным займам настаивало.
Экономические связи Франции и Советской России в этот период также были минимизированы. 16 декабря 1920 года французское правительство официально заявило, что не запрещает французским гражданам вступать в торговые и финансовые отношения с большевиками, однако отказывается брать на себя какую-либо ответственность за их действия или оказывать им поддержку. Этой позиции французское правительство придерживалось и позднее и развитию экономических связей она, естественно, не способствовала.
Экономический потенциал разрушенной большевиками русской экономики в целом оценивался достаточно низко. Объявление НЭП также было встречено скептически и разразившийся вскоре чудовищный голод 1921 - 1922 годов только подтвердил это мнение.
Французское участие в борьбе с этим голодом оказалось минимальным, основную роль играли Американская администрация помощи (АРА) и Международный Комитет Красного Креста (МККК), комитет по борьбе с голодом которого до сентября 1922-го возглавлял Фритьоф Нансен. Из 573 625 тонн продовольственной помощи, доставленной в августе 1921 - сентябре 1922-го 82% пришлось на долю АРА, 13% - МККК и 2,6% - Action Nansen (собственной благотворительной организации Нансена).
В 1922/23 году (октябрь - сентябрь) на Францию, по советским данным, приходилось всего 0,4% советского экспорта и 0,1% - импорта. В абсолютных цифрах на 1923 год (по сведениям МИД Франции) товарооборот составлял всего 130 млн франков - 90 млн французский импорт из СССР и 40 млн - экспорт.
Дополнительный ущерб франко-советской торговле нанесло дело Бунатьян - Опторг. Братья Бунатьян, владевшие национализированной большевиками шелковой фабрикой в Ростове, обнаружили среди ввезенных во Францию фирмой Опторг товаров продукцию своей фабрики и в декабре 1921-го подали в суд, требуя конфискации груза в их пользу. В конце 1923 года суд удовлетворил иск, дополнительно указав, что решения большевистского правительства по национализации не являются действительными для французского правосудия до признания СССР Французской Республикой.
В 1923 - 1924 годах на Францию приходилось 3,1% советского экспорта (на Британию - 23,15, на Германию - 18,9%) и 1% импорта. В 1925 году товарооборот составлял всего 31,2 млн руб. (в т. ч. советский экспорт - 22,1 млн).
В целом, как отмечается, влияние торгово-экономических соображений на состоявшееся в 1924 году признание СССР было невелико.
[В январе 1924 года в Британии впервые пришло к власти социалистическое правительство, возглавляемое Рамси Макдональдом. Уже 1 февраля оно признало СССР де-юре]. В мае 1924 года парламентские выборы во Франции выиграл т. н. «Картель левых» (Cartel des Gauches) - блок включавший несколько политических групп радикалов и социалистов СФИО. Сформированное 14 июня правительство (социалисты в него не вошли, ограничившись парламентской поддержкой) возглавил Эдуард Эррио, лидер партии радикалов и радикал-социалистов**. Одновременно сменился и президент Республики - Мильеран из-за конфликта с победившим левым блоком подал в отставку, его место занял Гастон Думерг, также представитель партии радикалов.
Уже 17 июня Эррио официально заявил о готовности признать СССР. 28 октября 1924 года это признание было оформлено путем обмена нотами с большевистским правительством.
Признание СССР в целом соответствовало как личным взглядам Эррио (необходимость восстановления европейского равновесия, восприятие СССР как России и проч.), так и внешнеполитическим установкам его правительства (сближение с Британией на фоне фактического поражения в Руре и проч.)***.
Само признание, как отмечается, не привело к резким переменам во франко-советских отношениях, остававшихся весьма сложными.
* У автора (Магадеев) «выпущенных и гарантированных французским правительством» и «выданных муниципалитетами», т. е. автор не вполне понимает сущность этих долгов.
** В сентябре - октябре 1922 года совершил вызвавшую широкий резонанс поездку в СССР и считался сторонником нормализации отношений с большевиками.
*** Как отмечается, даже объявление о признании СССР было сделано накануне досрочных выборов в Британии и должно было видимо помочь Макдональду (который, впрочем, выборы проиграл).
«Санитарный кордон» и Турция
скрытый текст
«Санитарный кордон»: от идеи к воплощению
Как отмечает автор (Бодров), вопрос создания и функционирования «санитарного кордона» в литературе разработан недостаточно, дело сводится в основном к исследованию двусторонних отношений. Существуют разногласия относительно его состава, времени существования и роли во внешней политике Франции.
Как отмечается, сама концепция некоего барьера в Восточной Европе начала формироваться в недрах французского МИД еще в конце 1917 года. Главной угрозой на тот момент виделось распространение германского влияния на просторах бывшей Российской империи, препятствовать каковому и должен был означенный барьер. Впервые концепция «восточного барьера» была озвучена главой политического управления МИД Пьером де Маржери в конце осени 1917-го (26 ноября). Барьер должен был включать сильную Польшу и укрупненную Румынию и служить заслоном на пути политической, военной и экономической экспансии Германии и Австро-Венгрии на восток. С этого времени Париж последовательно поддерживал идею сильной независимой Польши с обеспеченным выходом к морю.
Переход большевиков в разряд противников Франции и Ноябрьская революция в Германии привели к некоторому изменению концепции «восточного барьера» и превращению его в «санитарный кордон». Последний должен был изолировать большевиков в России, предотвращая большевизацию Германии и одновременно не давать двум революционным центрам взаимно подпитывать друг друга.
В январе - феврале 1919 года концепция «санитарного кордона» была официально представлена высшим руководством Французской республики - Клемансо и Фошем. Кордон должен был препятствовать экспансии большевизма на запад, способствуя его отмиранию к востоку от созданной преграды. Несущей осью кордона должны были служить Польша и Румыния, определенное значение придавалось прибалтийскому флангу и (до советизации Закавказья) закавказским государствам, прежде всего, Грузии. Финляндия считалась слишком прогерманской и в состав кордона не включалась. В идеале предполагалось также создание «второй линии обороны» в лице Чехословакии и Югославии.
Формирование новых границ в Восточной Европе происходило с учетом указанных стратегических соображений - дабы обеспечить французских союзников подходящими оборонительными рубежами и облегчить связь между ними. Так, передача Подкаратской Руси чехословакам, а Буковины - румынам должна была обеспечить непосредственную связь между Чехословакией и Румынией и одновременно создать барьер между советской Россией и Венгрией. Передача Галиции Польше обеспечивала ей сухопутный мост с Румынией и т. д.
Кордон укреплялся также с помощью поставок оружия, налаживания сотрудничества разведывательных служб, выработки механизмов военного взаимодействия и пр.
Серьезным препятствием на пути построения «санитарного кордона» были многочисленные противоречия между его потенциальными участниками, прежде всего между Польшей и Чехословакией и Польшей и Литвой.
Привлечь к участию ценную во всех отношениях Чехословакию не удалось - помимо конфликтных отношений с Польшей, Прага главной угрозой для себя в начале 1920-х видела не большевиков и даже не немцев, а Венгрию. Кроме того, чехословацкое руководство (Масарик, Бенеш) считало непродуктивной саму стратегию изоляции Советской России, считая более перспективной политику открытости, способствующую перерождению большевистского режима.
Дополнительно осложняли положение англо-французское соперничество в Восточной Европе и парадоксальная позиция самого Парижа. Первостепенным для последнего был союз с Британией, а в идеале - еще и с США. Отношения со странами Восточной Европы воспринимались как третьестепенные - Париж активизировался здесь в периоды охлаждения франко-британских отношений и снижал активность при очередном сближении с Британией.
Фактически «санитарный кордон» включал только Польшу и Румынию, не имевших взаимных претензий и даже наладивших определенное взаимодействие друг с другом. Практическое воплощение он обрел лишь в феврале-марте 1921 года - в виде франко-польского и польско-румынского соглашений о взаимопомощи. Как отмечается, к этому времени Париж в значительной мере утратил интерес к идее «санитарного кордона», стремясь минимизировать свой вклад в его поддержание. Перспектива территориальной экспансии большевизма представлялась уже малореальной и кордон был направлен скорее против Германии. Так, главный интерес Парижа в налаживании польско-румынского сотрудничества заключался в высвобождении дополнительных польских сил для германского направления.
После 1924 года концепция «санитарного кордона» как активной формы изоляции Советской России и вовсе перестала определять французскую политику на востоке Европы.
Польша
Первые шаги по пути воссоздания независимой Польши в качестве потенциального союзника против Германии и дополнительного элемента безопасности для Франции Париж сделал еще летом 1917 года. Воспользовавшись мартовской декларацией Временного правительства признавшей право Польши на независимость («в границах территорий с польским большинством») 4 июня 1917-го Франция начала формирование Польской армии Галлера из добровольцев и пленных.
20 сентября 1917-го французским правительством был признан, [в качестве польского правительства в изгнании,] парижский Польский национальный комитет Романа Дмовского.
Общая позиция французского правительства в вопросе создания польского государства была сформулирована в процессе подготовки Парижской мирной конференции. Франция желала создания сильного польского государства в качестве: а) противовеса против Германии; б) заслона между Германией и Россией и в) преграды на пути распространения большевизма. Страна должна была иметь удобные для обороны границы, при справедливом решении территориальных проблем с соседями (что позволило бы полякам сосредоточиться на противостоянии Германии).
Провозглашение независимости Польши Ю. Пилсудским (11 ноября 1918) и объявление последнего главой польского государства Париж встретил настороженно - сказывалось сотрудничество Пилсудского с немцами. Образованное Пилсудским левое правительство Е. Морачевского вообще воспринималось как протобольшевистское.
14 ноября 1918-го польским правительством де-факто был признан Польский национальный комитет Дмовского, в чьей лояльности Антанте сомнений не было. Пилсудский, впрочем, уже в начале 1919 года смог достичь компромисса с Дмовским. Новым премьером Польши 16 января 1919-го стал устраивавший Париж член Национального комитета Игнаций Падеревский, [сам парижский комитет вскоре был преобразован в представительство польского правительства, а позднее стал основой польской делегации на мирной конференции]. После формирования правительства Падеревского Париж наконец признал независимость Польши де-юре (23 февраля 1919).
Еще раньше, в середине декабря 1918-го, по просьбе комитета Дмовского, Париж дал согласие на переброску в Польшу армии Галлера - в связи с приближением к ней сил большевиков. Эта акция, впрочем, была заблокирована Британией и США, опасавшимися использования частей армии в территориальных конфликтах с соседями Польши и во внутрипольских конфликтах. Переброска войск Галлера в Польшу была произведена лишь в апреле - июне 1919 года.
Весной 1919-го в Польшу была отправлена французская военная миссия, главой которой 28 марта был назначен дивизионный генерал Поль Анри. Последний быстро попал под влияние Пилсудского и действовал скорее в польских интересах*. Пилсудскому вообще удалось добиться достаточно выгодных полякам условий функционирования миссии - французы, в частности, не получили командных постов в польской армии (как в соседней Чехословакии, где армией фактически руководили французские офицеры). Миссии подчинялась лишь армия Галлера - до сентября 1919-го, когда она была слита с национальной армией.
Французская миссия была чрезвычайно многолюдной - на пике численности ее состав доходил до 635 офицеров и 1200 унтеров и рядовых.
Франция взяла на себя также обязательство предоставить вооружение и снаряжение для 10 пехотных дивизий, 5 кавалерийских и одной горнострелковой бригады. Поставки оружия осуществлялись из наличия демобилизуемой французской армии и за счет трофеев. Военные материалы поставлялись в кредит, первоначальная сумма которого выросла со 100 млн франков (23 апреля 1919) сначала до 300 млн (июль 1919), затем 375 млн (31 октября 1919) и 425 млн франков (12 августа 1920). К началу 1921 года суммарная стоимость военных поставок достигла 410 млн франков. Стоимость вооружения и снаряжения переданного вместе с армией Галлера оценивалась в 350 млн франков [неясно включена ли она в перечисленные цифры]**.
Назначенный в апреле 1919-го французским послом в Варшаве Эжен Пролон весьма критически воспринимал деятельность и Пилсудского и миссии Анри и уже в январе 1920-го был заменен более гибким Эктором де Панафьё.
Приоритеты Пилсудского и Парижа в целом весьма различались. После подписания Версальского договора (28 июня 1919) германский вопрос для Варшавы окончательно отошел на второй план. Первоочередной задачей Пилсудский видел отбрасывание России как можно дальше на восток, с объединением западных ее окраин (Литвы, Белоруссии, «Украины») в некую федерацию под главенством Польши. Париж, в свою очередь, продолжал ориентироваться на восстановление России, выступая против создания нежизнеспособных национальных образований между русским государством Польшей и продвижения поляков на восток за пределы собственно польских областей. Против большевиков Варшаве рекомендовалось придерживаться оборонительной стратегии. При этом полякам обещали поддержку в случае наступления большевиков.
Эта позиция была, в целом, закреплена решением Верховного совета Антанты (25 февраля 1920) - союзники не поддерживают «агрессивную политику против России», однако готовы оказать соседям Советской России «всю возможную помощь» при нападении большевиков.
Варшава, впрочем, игнорировала все эти миролюбивые рекомендации - без особых последствий для себя.
Париж постарался дистанцироваться от польского наступления весны 1920 года - офицеры французской миссии получили приказ покинуть части непосредственно участвующие в боях. Перспективы самого наступления также оценивались скептически. Однако успех большевистского контрнаступления летом 1920-го привел к новому усилению французской поддержки. В конце июля 1920-го в Польшу была направлена совместная франко-британская миссия. Входивший в ее состав генерал Максим Вейган сыграл в итоге значительную роль в отражении советского наступления (хотя, как отмечается, значимость его деятельности остается предметом дискуссий). В августе 1920-го в Польшу были направлены значительные партии французского оружия (всего на 72 млн франков), Париж и Лондон согласились также уступить полякам изъятое в соответствии с Сен-Жерменским договором австрийское вооружение.
После разгрома советских войск под Варшавой и перехода поляков в новое наступление Париж вернулся к прежним уговорам, призывая поляков ограничиться занятием «бесспорно» польских территорий, а также не заключать мира с большевиками - дабы сковать силы красных и не дать им сконцентироваться на врангелевском фронте. Призывы эти снова были проигнорированы Варшавой. Последняя в октябре 1920-го захватила еще и Виленский край, обеспечив себе и французским союзникам дополнительную головную боль. Новых восточных границ Польши по Рижскому миру Париж, впрочем, не признал (учтя, в т. ч. и мнение Лондона, вообще весьма враждебно относившегося к Пилсудскому).
Инициатива заключения франко-польского союза принадлежала Варшаве. Соответствующие предложения были сделаны последней уже в сентябре - октябре 1920-го. Особого энтузиазма в Париже они не вызвали. Премьер Ж. Лейг опасался, что союз с поляками втянет Францию в очередные польские авантюры, еще более резко высказывался маршал Фош - Польша никак не выглядит полезным для Франции союзником. Однако президент А. Мильеран, военный министр Л. Барту, глава Генштаба генерал Бюа и сменивший Лейга А. Бриан выступили в поддержку союза. В целом, как отмечается, доводы в пользу укрепления барьера против Германии взяли верх над опасениями относительно нестабильных восточных рубежей Польши.
Принципиальная договоренность относительно формирования союза путем подписания политической, военной и экономической конвенций была достигнута в ходе визита Пилсудского в Париж (3-6 февраля 1921-го). Политическая конвенция (подписана 19 февраля) предусматривала взаимные консультации Франции и Польши в случае неспровоцированного нападения на одно из государств.
Секретная военная конвенция (21 февраля) обязывала Варшаву действовать во исполнение «условий Версальского договора». Польша обязывалась также ввести 2-годичную военную службу и держать в мирное время не менее 30 пехотных дивизий и 9 кавалерийских бригад, с соответствующими резервными формированиями. Предусматривались также унификация стрелково-артиллерийского вооружения армии с французским и создание мобзапаса боеприпасов на 6 месяцев войны.
Франция должна была поддержать перевооружение польской армии кредитом на 400 млн франков и способствовать развитию польской военной промышленности. Париж при этом постарался минимизировать собственные военно-политические обязательства. Конвенция не предусматривала автоматического вступления в войну в ответ на аналогичное действие союзника и фактически вообще не формулировала четко условий вступления в силу союзнических обязательств. Вступление Франции в потенциальную советско-польскую войну или возможный конфликт с Германией в Верхней Силезии фактически исключалось. В связи со всем этим часть исследователей вообще отказывается считать конвенцию 1921 года полноценным франко-польским союзом. При этом Москва, как отмечается, оставалась в неведении относительно точных условий конвенции и была склонна переоценивать готовность Франции вмешаться в советско-польский конфликт.
Политическая и военная конвенции вступали в силу лишь после ратификации экономического соглашения, обсуждение которого затянулось. Помимо регулирования взаимной торговли французы хотели контроля над галицийской нефтью (потенциал которой в то время переоценивался), что не устраивало поляков. Кроме того, наметившееся сближение с Британией, негативно относившейся к франко-польскому союзу, побуждало Бриана не торопиться с введением союза в действие. Не способствовала этому и антисоветская активность Пилсудского (поддержка Савинкова и пр.) - французы опасались, что она выльется в очередную польскую интервенцию на востоке.
Экономическая конвенция была подписана новым правительством Пуанкаре только в начале 1922 года (6 февраля) - и только после провала очередного франко-британских переговоров о взаимопомощи.
Выполнять условия конвенций обе стороны не спешили - французы тянули с выделением кредитов из-за бюджетных сложностей, поляки (ссылаясь на отсутствие денег) - с выполнением обязательств относительно состава армии и проч. 400-миллионный кредит Польше был одобрен французским Сенатом лишь 17 декабря 1923 года
Из соображений бюджетной экономии Франция вскоре радикально сократила и собственную военную миссию в Польше. Из 212 офицеров служивших в Польше к лету 1921 года, к 1 сентября 1924-го в стране осталось лишь 45.
С выполнением политической конвенции также имелись проблемы. Так, Польша склонна была уклоняться от выполнения обязательства консультироваться с Парижем при заключении соглашений с другими странами Восточной и Центральной Европы - о содержании секретных польско-румынских военных конвенций 1921 и 1922 гг. Париж подробно информировал Бухарест, а не связанная с ним союзом Варшава и т. д.
Заключение советско-германского Раппальского договора привело к заметной активизации военного сотрудничества двух стран. В сентябре - октябре 1922 года, в ходе визита в Париж начальника польского Генштаба В. Сикорского были определены общие контуры возможной войны против Германии или советско-германской коалиции. Франция должна была выставить против Германии 100 дивизий в течении 30 дней и обеспечить морское сообщение с Польшей (в случае войны с Советской Россией). Польша, в свою очередь, обязалась мобилизовать 32 пехотные дивизии и 10 кавалерийских бригад в течении 25 дней и в случае войны против советско-германской коалиции задействовать 18 дивизий против немцев, прикрывшись 7-8 дивизиями и 4 кавалерийскими бригадами на востоке.
Основными задачами экономической и финансовой политики Франции в Восточной Европе (включая Польшу) были: вытеснение со своих позиций Германии; укрепление связей с местными союзниками путем формирования их экономической зависимости от Франции и укрепление экономического положения союзных стран в целях их внутренней политической стабилизации. Польша исторически была одним из крупнейших объектов французских инвестиций. Еще до Мировой войны общий объем французских инвестиций в губерниях Царства Польского оценивался в 383 млн франков. Капиталовложения Франции в Польше в 1918 - 1933 годах оценивались примерно в 1 млрд франков (9% общего объема французских заграничных инвестиций). В первую очередь французов интересовали стратегически важные сырьевые источники - галицийская нефть и верхнесилезский уголь, а также крупные инфраструктурные проекты, важнейшим из которых было строительство нового порта Гдыня на Балтике.
Ради внутренней стабилизации Польши Париж фактически поддерживал и политику насильственной полонизации национальных меньшинств проводимую польским государством.
В то же время Франция фактически отказывалась признавать (и гарантировать) восточную границу Польши. Этому способствовал и жесткая позиция Британии, настаивавшей на определении судьбы Восточной Галиции по результатам плебисцита (по истечении срока 25-летнего мандата Польши на область, утвержденного решением Верховного совета Антанты 21 ноября 1919 года). Лишь 15 марта 1923 года решением Конференции послов Антанты союзные державы признали восточные границы Польши де-факто. Однако все попытки поляков добиться признания Парижем этой границы де-юре успеха не имели - Франция желала оставить открытой возможность возвращения к сотрудничеству с Россией.
Приход к власти левого правительства Э. Эррио привел к заметному охлаждению франко-польских отношений, однако значимых изменений в них не произвел.
В целом, как отмечается, Польша в начале 1920-х рассматривалась Парижем в качестве безальтернативной опоры Версальского порядка на востоке Европы. Двойная роль - противовеса Германии и барьера между немцами и большевиками обеспечивала ей статус стратегического союзника Парижа, несмотря на целый ряд разногласий по разным вопросам (в т. ч. и «русскому»).
Стремление Парижа минимизировать свои обязательства по союзным соглашениям 1921 года объяснялось как внутренними экономическими и политическими трудностями, так и желанием удержать польского союзника от международных авантюр.
После 1920 года Варшава и Париж последовательно расходились в оценке степени остроты советской угрозы - проволочки с выделением французских кредитов, на три года задержавшие программу перевооружения польской армии, ярко демонстрировали, что Франция не верит в актуальность этой угрозы.
* Так, Анри принимал участие в разработке польских наступательных операций в Малороссии и при захвате Виленского края - вопреки официальной позиции собственного правительства. В конце сентября 1920-го он был отозван на родину и заменен Анри Нисселем.
** Ср. с хроническим мелким жлобством в отношении русского Белого движения.
Румыния
Положение Румынии среди держав-победительниц было несколько двусмысленным. После замирения большевиков с немцами Румыния была вынуждена выйти из войны, в декабре 1917 года подписав перемирие, а в мае 1918-го Бухарестский мир с Центральными державами. Условия последнего, впрочем, были относительно мягкими - румынская армия сокращалась до 8 дивизий, румыны уступали часть территории Болгарии (Южная Добруджа) и Австро-Венгрии и проч. В качестве компенсации за Добруджу за румынами признавались права на русскую Бессарабию.
Румыния не спешила выполнять условия мирного договора, затягивая демобилизацию армии. В Яссах продолжали оставаться представители стран Антанты. Недовольные всем этим немцы в сентябре 1918 года планировали даже нанести превентивный удар по Румынии, однако он не состоялся из-за несогласия австро-венгров и наметившегося падения Болгарии.
10 ноября 1918 года, за день до перемирия в Компьене, Румыния вновь объявила войну Германии, успев обеспечить себе место среди победителей. Несмотря на семимесячное отсутствие в рядах Антанты румыны продолжали рассчитывать на обещанные им при вступлении в войну территориальные приращения. Однако с этим все было не так просто. Клемансо, питавший, помимо прочего, личную неприязнь к румынскому премьеру Брэтиану, считал, что заключением сепаратного мира Румыния освободила союзников от обязательств военных лет. Последние могли теперь служить лишь основой для обсуждения на мирной конференции, а не определять решения союзников. Отмечалось также, что Румыния уже сделала территориальные приобретения в Бессарабии.
30 декабря 1918-го указанная позиция (договоренности 1916 года не имеют силы, вопрос границ Румынии остается открытым) была официально доведена до сведения Бухареста Пишоном*. Бухарест протестовал и в первые месяцы 1919 года франко-румынские отношения все более обострялись. Помимо прочего, Париж раздражала и излишняя активность румын в Трансильвании, толкавшая венгров в объятия большевиков.
Положение резко изменилось в марте - апреле 1919 года. Провозглашение Венгерской Советской республики (21 марта) и наметившаяся угроза соединения венгерских и «русских» большевиков (апрель - начало мая) превратили Румынию в ценного союзника в борьбе с большевизмом и побудили Клемансо пойти навстречу территориальным требованиям Брэтиану.
Наметившееся франко-румынское сближение вскоре была поставлено под удар самими румынами. В начале августа 1919-го румыны заняли Будапешт, предъявив ультиматум венгерскому правительству. В ответ 23 августа Парижская конференция приняла решение ввести эмбарго на военные поставки Румынии (заблокировав доставку нескольких десятков тысяч тонн военных грузов, в основном французских). 15 ноября союзники предъявили Румынии ультиматум, требуя признания ею Сен-Жерменского договора и эвакуации румынских войск. Уже 16 ноября румыны оставили Будапешт, а 22 ноября отошли за Тису, однако запрет на военные поставки Румынии действовал до конца 1919 года. Военно-техническое сотрудничество с Францией возобновилось только весной 1920-го. В рамках этого сотрудничества румыны получили значительное количество военных материалов (в основном - в обмен на нефть).
Французы активно внедрялись и в экономику Румынии, в частности - в нефтедобычу и банковскую сферу.
Выход большевиков на границы Румынии в 1920 году не привел, вопреки опасениям румынских и французских властей к широкомасштабным боевым действиям. Однако малая война на границе велась постоянно - с территории Румынии действовали петлюровцы и пр., а большевики вели пресловутую «активную разведку» в Бессарабии.
Франция сыграла значимую роль в оформлении польско-румынского союза. Он в полной мере отвечал интересам Парижа - взаимная поддержка польской и румынской армий не только сдерживала бы советскую угрозу, но и позволила бы Варшаве выставить больше сил против Германии.
Переговоры о военном и политическом сотрудничестве Польши и Румынии велись уже с марта 1920 года, однако конкретных результатов первое время не давали. В ноябре 1920 года румынский премьер А. Авереску неожиданно предложил Парижу и Варшаве заключить наступательный союз против Советской России, организовав масштабную интервенцию весной 1921 года. Ошарашенному предложениями вроде бы вменяемого румынского политика Парижу пришлось приложить некоторые усилия для нивелирования этой инициативы. Польша также высказалась в пользу «исключительно оборонительного» соглашения. Причины эскапады Авереску остаются неясными.
После затяжных переговоров 3 марта 1921 года Польша и Румыния подписали конвенцию об оборонительном союзе. Он был направлен исключительно против Советской России - стороны гарантировали друг другу помощь при нападении на «нынешние восточные границы» и обязались координировать «мирные усилия» затрагивающие их отношения с «восточными соседями».
Общие силы Румынии определялись в 22 пехотные дивизии. 14 из них (плюс 2 кавалерийские) предполагалось задействовать в непосредственной связи с польскими силами. Польша выставляла 14 дивизий.
В июле 1921 года была подписана также экономическая конвенция. Она, в частности, давала Польше право вести транзитную торговлю через румынские порты.
20 сентября 1922 года Польша и Румыния подписали новую военную конвенцию - в развитие предыдущей. Новая конвенция корректировала планы военного развертывания сторон, предусматривала создание единого командования и пр. Она была по-прежнему направлена исключительно против Советской России. Польша, как и прежде, выставляла 14 дивизий (в течении 24 дней, для наступательной операции - в течении 28 дней), Румыния - 17 (18 и 21 соответственно).
Франция также способствовала и оформлению Малой Антанты. 2 июля 1921-го Румыния подписала направленную против Будапешта оборонительную военную конвенцию с Чехословакией. Чехи подписали также два дополнительных секретных протокола - в одном признавая польско-румынский союз, в другом - соглашаясь поставлять Румынии военные материалы (а также пропускать их транзитом через свою территорию) - в случае конфликта последней «с любым другим государством».
Пика отношения Румынии и Франции достигли в 1922 - первой половине 1923 года. В мае 1923 года нижняя палата французского парламента одобрила 100-миллионный кредит на перевооружение румынской армии. Однако Сенат отложил рассмотрение вопроса о займе - из-за отказа Румынии участвовать в выплате довоенного долга Австро-Венгрии (4 млн франков в год). Дальнейшие переговоры с румынами результата не дали, 25 января 1924 года Бухарест объявил об отказе от получения кредита и франко-румынские отношения вступили в фазу ощутимого охлаждения.
Дополнительным фактором раздражения для Бухареста стал подписанный 25 января 1924-го франко-чехословацкий договор о дружбе и союзе, отодвигавший его на второй план в Малой Антанте.
В качестве компенсации, в феврале 1924-го Пуанкаре предложил Бухаресту подписать аналогичный договор, однако переговоры не задались - как и в случае с Польшей, Париж упорно отказывался гарантировать восточную границу Румынии, не желая ввязываться в потенциальный советско-румынский конфликт.
В качестве некоего жеста доброй воли Париж в марте 1924 года ратифицировал Бессарабский протокол (см. ниже). Таким образом, Франция официально признала румынскую восточную границу, однако никаких обязательств защищать ее на себя брать не желала.
Отдельно автор (Бодров) рассматривает бессарабский вопрос. В декабре 1917 года, на фоне всеобщего развала, в регионе был образован Краевой совет («Сфатул Цэрий») провозгласивший автономную Молдавскую республику. В январе 1918 года Бессарабия была занята румынскими войсками. Организованное румынами провозглашение независимости Молдавской республики от России (6 февраля 1918) привело к разрыву отношений между большевистским правительством и Румынией. 9 апреля 1918 Краевой совет проголосовал за присоединение Бессарабии к Румынии, в ноябре того же года Молдавская республика была окончательно ликвидирована.
Официально Париж долгое время не признавал румынскую аннексию Бессарабии, сначала - не желая полностью порывать с большевистским правительством, а позднее - дабы не подрывать свои позиции в случае победы белых. Фактически же Франция одобряла присоединение Бессарабии к Румынии, однако желала чтобы передача провинции произошла в результате некоего договора румын с русским правительством (которое «вынуждено будет» признать потерю Бессарабии). Попытки французов добиться признания союза Бессарабии и Румынии правительствами Колчака и Деникина успеха не имели.
Позицию молчаливого одобрения аннексии Париж занимал до начала 1920 года. В январе 1920 Верховный совет Антанты фактически выразил готовность признать Бессарабию за румынами, что (по требованию Бухареста) было зафиксирован официальной декларацией от 3 марта 1920-го.
Ближайших последствий эта декларация, впрочем, не имела. Как отмечается, на протяжении 1920 года Париж фактически использовал признание аннексии Бессарабии в качестве морковки для Бухареста, подталкивая его к сотрудничеству с поляками и Врангелем. Для затягивания времени использовался, например, вопрос выплаты компенсаций французским гражданам лишившимся земель в Бессарабии (10 млн франков). Осенью 1920 года, под давлением Британии, Париж все же согласился на подписание Бессарабской конвенции [она же Бессарабский или Парижский протокол]. 28 октября 1920 года конвенция, признававшая суверенитет Румынии над Бессарабией была подписана в Париже представителями Франции, Британии, Италии, Японии и Румынии. США конвенцию подписать отказались - не желая участвовать в расчленении России**.
В целом, таким образом, в процессе признания Францией аннексии Бессарабии выделяются три этапа. В марте 1918 - декабре 1919-го Франция одобряла само присоединение Бессарабии к Румынии, но, в согласии с другими союзниками, медлила с его официальным признанием - дабы не подрывать свои позиции в случае победы белых. В январе - октябре 1920 года Франция уже в одиночку держала Бухарест в подвешенном состоянии, подталкивая его к сотрудничеству с поляками и Врангелем. После благоприятного окончания советско-польской войны и под нажимом англичан Париж пошел и на официальное одобрение аннексии.
Большевики, обычно легко жертвовавшие русскими землями, в бессарабском вопросе по не совсем понятным причинам заняли твердую позицию и упорно отказывались признавать аннексию провинции. Одной из причин возможно были международные сложности создаваемые этим непризнанием Румынии. Бессарабский вопрос вносил раскол в ряды Малой Антанты (Чехословакия и Югославия не признавали провинцию частью Румынии), а также создавал некую общность интересов между Советской Россией, Венгрией и Болгарией.
После заключения Рижского мира с поляками (март 1921) Румыния оставалась единственным западным соседом Советской России отношения с которым не регулировались каким-либо соглашением. Лишь в ноябре 1923 года в Тирасполе была подписана конвенция о предотвращении и разрешении конфликтов на Днестре, призванная прекратить малую войну на совместной границе. Советской стороне удалось добиться исключения из текста документа любых признаков принадлежности Бессарабии Румынии. Конвенция не была ратифицирована Бухарестом, но фактически соблюдалась.
* При этом местные представители Франции - командующий Дунайской армией А. Бертело и посол де Сент-Олер занимали откровенно прорумынские позиции, за что неоднократно получали втык от Парижа.
[** Само соглашение так и не вступило в силу из-за отказа Японии его ратифицировать].
Прибалтика
В прибалтийском регионе в 1918 - 1920 годах главную роль играла Британия. Британская политика здесь фактически следовала линии русофобской части английского кабинета (Бальфур, Керзон и проч.) на максимальное ослабление России (безразлично, «белой» или «красной»), путем отделения ее окраин.
Глава британского МИД А. Бальфур уже 18 октября 1918-го направил Имперскому военному кабинету меморандум с обоснованием необходимости признать независимость трех прибалтийских провинций. 14 ноября британский кабинет решил отправить на Балтику английскую эскадру для помощи прибалтам, 3 декабря 18-го британские корабли были уже у Либавы, в том же месяце включившись в борьбу против большевиков (поддерживали эстонцев огнем под Ревелем).
С союзниками эта военная экспедиция согласована не была и французы были поставлены перед фактом. В конце декабря 1918-го французское правительство, после некоторых колебаний, также решило отправить небольшую эскадру на Балтику, однако ее состав был символическим (крейсер и два авизо) и в боевых действиях против большевиков она не участвовала.
Подход французского руководства к вопросу независимости прибалтийских провинций существенно отличался от британского. Основные принципы французской политики в регионе были сформулированы в программной записке Русской службы МИД от 14 февраля 1919 года - любые формы независимого существования Прибалтики (самостоятельные государства, федерация, соединение с Польшей или Финляндией) нежизнеспособны, будут провоцировать Россию (которая рано или поздно захочет вернуть себе выход к морю) и усиливать позиции Германии. Единственным приемлемым для Франции вариантом, как отмечалось, было возвращение прибалтийских провинций в состав восстановленной России - на правах автономии.
Этой позиции* (защита Прибалтики от большевиков и немецкого влияния, при отсутствии какого-либо официального признания независимости) французское руководство в целом придерживалось в последующие два года.
Роль самой Франции в прибалтийских делах в это время, впрочем, оставалась второстепенной. Прибалтика оставалась зоной преимущественной ответственности Великобритании (взявшей на себя снабжение местных вооруженных формирований). Снабжение Прибалтики продовольствием было возложено на США. Подобное разделение ролей было согласовано в ходе франко - британских переговоров в феврале - марте 1919 года и закреплено решениями Высшего военного совета Антанты (9 - 11 апреля 1919).
Французское военное присутствие ограничивалось небольшой «морской дивизией» на Балтике (действовавшей совместно с англичанами против немцев фон дер Гольца, но не против большевиков) и небольшими военными миссиями в Литве, Латвии и Эстонии. Деятельность последних сводилась к сбору информации и ведению профранцузской пропаганды.
С осени 1919-го участие Франции в местных делах начало постепенно увеличиваться, в связи с сокращением британской активности. В конце сентября 1919 года английское правительство приняло решение перейти к постепенному свертыванию военной помощи прибалтам и сокращению своего военного присутствия в регионе. Уже 25 сентября 1919-го прибалтам было отказано в новых поставках оружия - из-за «сокращения запасов» и «нехватки тоннажа». Лондон оставлял также за прибалтийскими столицами «свободу решения относительно возможных соглашений с советским правительством».
Снабжение прибалтов оружием приняла на себя Франция - 17 сентября, 6 ноября и 16 декабря 1919-го с Ковно, Ригой и Ревелем были подписаны контракты на поставку вооружений, на 7, 11 и 13 млн франков соответственно. Эстония и Латвия должны были оплачивать оружие натуральными поставками льна.
В октябре? 1919-го в Прибалтику была отправлена новая межсоюзническая военная миссия, на этот раз под командованием французского генерала А. Нивеля**. Основной задачей миссии было вытеснение немцев фон дер Гольца из Латвии.
Позднее центром внимания французской политики сделались Литва и клубок связанных с нею противоречий, затрагивающих Польшу, Советскую Россию, Германию и Латвию.
В январе 1920 года Франция признала де-факто правительства Литвы, Латвии и Эстонии, однако позиция французов по части полного признания независимости Прибалтики оставалась неизменной до конца 1920-го. В Эстонии и Латвии Францию с июля 1920 года представлял Высокий комиссар республики Луи де Сартиж, которому были подчинены и военные миссии.
Официальная позиция Франции переменилась лишь в самом конце 1920 года. 29 декабря премьер Лейг неожиданно призвал великие державы признать Латвию. 25 января 1921 года межсоюзническая конференция решила признать независимость Латвии и Эстонии и в тот же день Париж сообщил последним об их признании де-юре.
Вопрос признания Литвы был отложен из-за ее проблем с границами. Литва была признана Францией лишь в декабре 1922 года, однако из-за случившегося вскоре захвата литовцами Мемеля (занимаемого французским батальоном), французский посланник появился в Ковно лишь в 1925 году.
Причина резкой перемены французской позиции не ясна, вероятно французское правительств опасалось, что замирившиеся с поляками и разбившие Врангеля большевики, воспользовавшись благоприятными обстоятельствами решатся прихлопнуть непризнанные никем лимитрофы.
Прибалтийская политика Франции в 1921 - 1924 годах отличалась противоречивостью. Осознавая военную слабость лимитрофов, не способных противостоять большевикам в одиночку, французы, с одной стороны, подталкивали их к сближению с Польшей. С другой стороны, Париж фактически выступал против создания формального военного альянса Польши и прибалтийских стран (Балтийской Антанты), не желая отвлечения внимания Польши от Германии и распыления ее сил, а также не желая лишний раз провоцировать Советскую Россию. В итоге сотрудничество лимитрофов с Польшей сводилось лишь к многочисленным взаимным «консультациям».
Латвия и Эстония, со своей стороны, также опасались излишнего сближения с Польшей, считая ее политику «авантюристичной», а Литва и вовсе оставалась предельно враждебной Польше и участия в польско-прибалтийских консультациях не принимала.
Сама Франция в случае конфликта с большевиками готова была предоставить прибалтам лишь военно-техническую и «дипломатическую» помощь.
Французская морская дивизия на Балтике была расформирована в декабре 1922 года. В мае 1923 года МИД предложил расформировать и военную миссию (к этому времени миссии в лимитрофах были объединены в одну), однако этому воспротивилось военное министерство - миссия играла важную роль в сборе разведдданных о Советской России (расформирована только во второй половине 1920-х).
Военно-техническое сотрудничество с Латвией и Эстонией оставалось ограниченным*** - новым оружием и технологиями французы делиться не желали, опасаясь активности советской и немецкой разведок. Кроме того, Париж готов был продавать оружие лишь на условиях полноценной оплаты / предоставления концессий и проч., на что не желали идти уже местные правительства****.
Экономическое сотрудничество также было весьма скромным. Во внешней торговле лимитрофов господствовала Германия. Французский бизнес смущало активное вмешательство местных правительств в экономику (радикальная аграрная реформа, протекционизм, регулируемые валютные курсы и проч.), что приписывалось вредному влиянию большевизма.
Еще больше французов возмущали нежелание местных властей выплачивать компенсации пострадавшим от революции французским гражданам и признавать свою долю царских долгов. В части царских долгов прибалты ссылались на условия мирных договоров с большевиками - добрый Ленин принял эти долги на себя.
Нежелание платить компенсации французским гражданам обошлось прибалтам недешево - пострадавшие обладали обширными связями в политических и дипломатических кругах и организовали шумную кампанию в прессе, сильно подпортив имидж лимитрофов.
Париж осуждал и мирные договоры лимитрофов с Москвой, считая что установление дипломатических отношений с Советской Россией открывает дорогу политическому и экономическому проникновению большевиков в Прибалтику.
Наиболее жизнеспособным изо всех лимитрофов считалась Латвия. Устойчивость Эстонии вызывала сомнения, развеянные лишь успешным подавлением коммунистического мятежа в декабре 1924 года. Литва воспринималась как мост между большевиками и немцами и отношение к ней было весьма скверным.
* Сформированной в немалой степени под влиянием русских представителей в Париже - В. А. Маклакова и проч.
** Предыдущую, действовавшую с мая 1919-го, возглавляли британские генералы Х. Гоф и Ф. Марш.
*** С Литвой оно и вовсе отсутствовало.
**** Латвия и Эстония, к тому же, не расплатились еще и за поставки 1919 года.
Турция
Турецкий вопрос играл значительную роль во внешней политике Франции начала 1920-х. По итогам Мировой войны Франция получила османскую Сирию, оккупировав также Киликию и (совместно с союзниками) зону Проливов.
Определенное значение при формировании французской политики в регионе имел и «советский» фактор. Более всего французов беспокоило сотрудничество большевиков с кемалистами (богатая фантазия ряда французских деятелей рисовала фантасмагорические картины большевистско-кемалистско-германского блока). Осознавая ограниченность своих сил Париж в целом готов был идти на определенные уступки кемалистам - дабы препятствовать их сближению с большевиками и сохранить наиболее ценные приобретения (Сирия).
Потерпев в первой половине 1920 года ряд поражений от кемалистов в Киликии французы в мае 1920 года заключили здесь локальное перемирие с Кемаль-пашой. 11 марта 1921-го на Лондонской конференции, созванной для пересмотра условий Севрского договора, А. Бриан подписал сепаратное соглашение с кемалистами предусматривающее вывод французских войск из Киликии и содержащее ряд других уступок - в обмен на гарантии защиты французских экономических и культурных интересов.
Соглашение 11 марта было вскоре дезавуировано Кемалем, однако уже 20 октября 1921-го отправленный на переговоры с кемалистами влиятельный французский сенатор-туркофил А. Франклен-Буайон подписал в Анкаре новое соглашение с турками. Париж признал правительство Кемаля де-факто и согласился уйти из Киликии - в обмен на ряд экономических уступок [и признание прав Франции на Сирию].
Линии на сближение с Кемалем Париж придерживался и позднее. «Туркофильская» позиция Франции вызывала все большее недовольство Британии. Пика напряжение между союзниками достигло в ходе Чанакского кризиса (сентябрь - октябрь 1922) когда французы фактически отказались поддержать Лондон. Как отмечается, Чанакский кризис ознаменовал конец англо-французской Антанты на Востоке (также как Рурский - на Западе).
Интерес к закавказским государствам определялся прежде всего их геополитическим положением - они могли служить как «мостом», так и «барьером» между кемалистами и большевиками. Поддержка антибольшевистских сил в Закавказье и на Северном Кавказе должна была также способствовать сдерживанию продвижения большевизма в регионах Среднего Востока и Центральной Азии.
Основные надежды здесь возлагались на Грузию, признанную Верховным Советом Антанты де-юре 26 января 1921 года. Однако надежды эти не оправдались - 16 февраля 1921-го в Грузию вошли части РККА, 25 февраля большевики заняли Тифлис и уже 19 марта грузинское правительство бежало за границу из Батума.
Надежды на разрушение союза кемалистов и большевиков из-за территориальных споров в Закавказье также не оправдались - 21 февраля 1921-го стороны подписали Карсский договор устранявший существующие разногласия. Ради сохранения военно-политического партнерства с Кемалем большевики поступились Карсской губернией и частью Батумского округа. Франция эти территориальные изменения не признала.
Как отмечается, занятая Францией «туркофильская» позиция не принесла ей особых дивидендов. В ходе созванной для окончательного урегулирования турецкого вопроса Лозаннской конференции (ноябрь 1922 - июль 1924) Британия сумела решить в свою пользу большую часть интересовавших ее вопросов (в основном территориальных), тогда как французское «туркофильство» оказалось невознагражденным (не были решены проблемы османского долга и проч.).
Не получили особых дивидендов от «дружбы» с Кемалем, действовавшим исключительно в собственных интересах, и большевики. Добившись восстановления турецкой государственности он пошел на значительное сближение с западными державами, дистанцировавшись от большевиков. Так, вопрос о режиме Черноморских проливов на Лозаннской конференции был решен фактически в пользу западных держав и т. д.
Условия и механизмы формирования «русской политики»
скрытый текст
Суждения французского руководства относительно Советской России в начале 1920-х отличалось заметной неоднородностью. Знак равенства между большевиками и Россией и русским народом в целом не ставился и в большинстве случаев «Россия» и «русский народ» отделялись от «Советов» и «большевиков».
В то же время встречалась и откровенно русофобская позиция - большевикам приписывались возврат к русским имперским традициям и даже потворство русскому национализму (!). Подобные оценки присутствовали в документах французского 2-го бюро (вообще, судя по всему, склонного к какой-то анекдотичной русофобии - в одной из его справок, например, Россия именовалась «азиатской державой» и «потенциальным авангардом желтой угрозы»), в таком же духе высказывался Бюксеншютц (бывший начальник штаба Жанена в Сибири и тоже, к слову, офицер 2-го бюро) и т. д.
В рамках первого подхода допускалось (в перспективе - после падения большевизма) восстановление прежних отношений с Россией (союз против Германии), однако Советская Россия в качестве потенциального союзника не рассматривалась.
Идеологические оценки большевизма также были весьма неоднородными. Большевики, с одной стороны, воспринимались как варвары-анархисты или даже как «вирус» и «чума», несущие бессмысленное разрушение и договориться с которыми невозможно. Биологические метафоры соседствовали с ориенталистскими - «полуазиатская или... неевропейская власть», «варвары с востока» и т. п. Особое внимание уделялось еврейскому фактору - засилью
Наступательный потенциал большевизма, особенно военный, в начале 20-х в целом оценивался уже невысоко и попытки немцев, поляков и проч. использовать фактор советской угрозы воспринимались скептически.
Положение самой Франции после Мировой войны оказалось двойственным. Сделавшись после войны доминирующей силой континентальной Европы, она по основным экономическим и демографическим показателям по-прежнему уступала Германии, вдобавок оказавшись в серьезной финансовой и отчасти сырьевой зависимости от бывших союзников, Британии и США, отношения с которыми были далеко не гладкими. Возможности Франции влиять на положение в странах на восточной и юго-восточной окраинах Европы, на Кавказе и Ближнем Востоке были весьма ограниченными.
Французская политика в отношении Советской России формировалась в условиях дефицита информации - из-за отсутствия официальных отношений сведения о положении в стране часто получались окольными путями и нередко были тенденциозны и неточны.
Одним из основных источников информации являлись французские дипломатические и военные представительства в соседних странах, в первую очередь, в Прибалтике (основным центром активности французов здесь была видимо Рига). До большевизации Закавказья заметную роль играли французские военная (выросшая из представительства при штабе русской Кавказской армии) и дипломатическая миссии на Кавказе. Важными поставщиками информации были также штабы французского оккупационного корпуса и Восточно-Средиземноморской эскадры в Константинополе.
Сбором сведений о Советской России занималась также французская военная разведка - 2-е бюро Генерального штаба. Последнее, впрочем, несмотря на определенные успехи в области агентурной работы и дешифровки, черпало информацию в основном из открытых источников.
Еще одним источником информации были партнеры и союзники Франции. Активный обмен разведданными велся с Британией, ценная информация получалась от поляков и чехов, имевших, в отличии от французов, представительства в Москве (дипломатическую и торговую миссии соответственно).
Источником информации для различных французских структур были, помимо прочего, французские граждане посещавшие Советскую Россию частным образом. Как и в случае с экономическими контактами французские власти формально не запрещали своим гражданам ездить в Россию, однако отказывались брать на себя какую-либо ответственность за возможные последствия таких поездок. Общее число подобных путешествий было невелико - всего за 1918 - 1923 годы Советскую Россию посетило менее 40 человек (включая коммунистов и сочувствующих, ездивших нелегально).
Значительное влияние на формирование французской политики оказывал личностный фактор. Так, А. Мильеран был твердым и последовательным противником большевизма. Его друг и протеже Ж. Лейг придерживался в целом той же линии. Числившийся антисоветчиком А. Бриан был скорее равнодушен к «русскому вопросу» - с Россией его не связывали ни карьерный путь, ни круг знакомств. Считавшийся твердокаменным антибольшевиком Р. Пуанкаре, по мнению многих современников вовсе не был столь уж тверд в своих убеждениях. Э. Эррио не испытывал особых симпатий к большевикам, однако был всегда готов к разнообразным компромиссам (современники и позднейшая литература характеризовали его скорее негативно - «бесхребетный», «нерешительный», «неподготовленный» и т. д.).
Важную роль в формировании внешней политики играл кадровый состав французского МИДа, менявшийся куда реже премьеров и министров. Он комплектовался в основном (примерно на 80%) выпускниками Свободной школы политических наук (École Libre des Sciences Politiques, «Sciences Po»), высокая плата за обучение в которой автоматически отсекала представителей низших социальных групп. Конкурсные требования при принятии на службу в МИД также были весьма высоки, что обеспечивало определенную социальную однородность его кадрового состава. Социальное происхождение французских кадровых дипломатов во многом предопределяло их отношение к большевизму.
Среди французских чиновников, дипломатов и военных работавших на советском направлении имелось немало людей тесно связанных ранее с Россией карьерно и лично. Так, занимавший в январе-декабре 1920-го пост государственного секретаря МИД Морис Палеолог ранее служил послом в России, успев проникнуться сильными чувствами к большевикам. Фернан Гренан, глава русской службы МИД в начале 1920-х, в 1917 - 1918 годах был генеральным консулом республики в Москве (где также натерпелся от большевиков). Ближайший сотрудник А. Мильерана Эжен Пети (возглавлял при Мильеране административный аппарат премьера, а затем президента) был женат на Софье Григорьевне Балаховской*, через которую поддерживал тесные связи с русской эмиграцией. Вице-адмирал Шарль-Анри Дюмениль, в 1920 - 1925 годах командовавший силами французских ВМС в Восточном Средиземноморье и французской эскадрой в Константинополе, ранее (1916 - 1918) служил во французской миссии в России и был женат на гр. Вере Николаевне Фермор**. Генералы Жанен, Ниссель и Бруссо руководившие военными миссиями в России в годы Гражданской войны, до 17-го стажировались в России и т. д.
Значительную роль играли также разного рода ассоциации французов пострадавших от деятельности большевиков - держателей русских ценных бумаг и проч. Общее число французских граждан владеющих русскими ценными бумагами по проведенному правительством в 1919 году опросу доходило до 1,6 млн человек, что делало вопрос «русских долгов» важным внутриполитическим фактором.
Важнейшей ассоциацией французских вкладчиков, как уже отмечалось, была созданная в 1918 году Генеральная комиссия по защите французских интересов в России, с 1920 года возглавляемая Жозефом Нулансом. Последний имел тесные связи с МИД и министерством финансов Франции и прямой выход на Мильерана.
Помимо этого действовали Комитет защиты владельцев займов Российского государства, займов гарантированных Российским государством и городских займов (основан в сентябре 1918-го); Комитет защиты французских владельцев ценных бумаг в сфере российской промышленности и банков (апрель 1919-го); Национальная лига по защите французских интересов в России (1919). Последнюю возглавлял известный московский промышленник Сиу***.
Сами большевики пытались воздействовать на французское общественное мнение с помощь французской прессы. Последняя имела в то время весьма скверную репутацию и полностью ее оправдывала. Так, ведущая правоцентристская газета «Тан» [Le Temps, аналог британской «Таймс»] в августе 1922 - январе 1923 года получила от большевиков 520 тыс. франков «субсидии» - в обмен на снижение градуса критики большевистского режима. Посредниками при передаче денег выступили ведущие журналисты внешнеполитического отдела издания Роллен и Э. Тавернье. Деньги из Москвы получала еще одна ведущая газета - близкая к левым радикалам «Пти Паризьен» [«Le petit parisien»] и возможно другие издания.
В условиях отсутствия официальных отношений связи между большевиками и правящими кругами Франции поддерживались с помощью разнообразных посредников, персонажей, большей частью, весьма сомнительных.
К подобным посредникам среди политиков и государственных служащих Магадеев относит Э. Эррио, А. де Монзи и Ф. де Шевийи (Шевильи).
Эдуард Эррио, в своих стремлениях к восстановлению отношений с Советской Россией, отчасти выражал видимо интересы предпринимательских кругов Лиона, бессменным мэром которого он был в 1905 - 1940 годах.
Сенатор Анатоль де Монзи, наиболее заметный просоветский деятель в правящих кругах Франции поддерживал связи одновременно с политиками центристского толка (Эррио и пр.), предпринимательскими кругами заинтересованными в торговле с Советской Россией и видными советскими деятелями (Раковский и пр.).
Франсуа де Шевийи, в годы Мировой войны служивший в бюро французской пропаганды в Петрограде, с 1920 года занимал пост торгового атташе «по русским странам» (России и лимитрофам), поддерживая связи с предпринимательскими кругами заинтересованными в торговле с Советской Россией и имея какой-то личный интерес в этих делах (торговля нефтью и пр.).
Среди посредников-предпринимателей автор выделяет гр. Армана де Сен-Совер (Armand de Saint-Sauveur), представителя «Шнейдер-Крезо» и шурина главы этой фирмы и, одновременно, близкого знакомого Красина, а также некоего [безымянного] Кювервилля, возглавлявшего Франко-российский офис торговой информации и поддерживавшего связь с Чичериным.
Одним из важнейших посредников в начале 1920-х являлся родившийся в России швейцарец Эдуард Флик. Занимая руководящие должности в Международном Комитете Красного Креста****, он одновременно продолжал заниматься бизнесом, выступая посредником между немецкими и французскими деловыми кругами и большевиками. МИД Франции считал Флика фактическим представителем влиятельного семейства де Люберсаков***** в Германии и СССР. Позднее (1924 год) советские представители, разочарованные сотрудничеством с Фликом, разорвали с ним отношения.
Еще одну группу посредников составляли журналисты. Наиболее ярким представителем этой группы был упоминавшийся выше [безымянный] Роллен. Служивший в годы Мировой войны на флоте, в 1919 - 1920 годах Роллен, в звании капитан-лейтенанта, возглавлял 2-е бюро штаба французских войск в Константинополе. Перейдя позднее на работу во внешнеполитический отдел «Тан», он в 1922 году сопровождал Э. Эррио в поездке в СССР и видимо тогда же установил контакт с большевиками. Помимо прочего Роллен был женат на некой Е. Коган, уроженке Николаева и гражданке СССР. Французская контрразведка (ноябрь 1924 года) считала Роллена платным агентом большевиков. Интересно, что британский Форин оффис тогда же считал его агентом французской секретной полиции и возможно этот персонаж являлся двойным агентом.
Среди прочих посредников встречались не менее сомнительные персонажи. Так, граф Александр дю Шайла, живший в России с 1904 года, принявший русское подданство и участвовавший в Гражданской войне в составе Войска Донского, как минимум с 1921 года находился в тесном контакте с НКИД. Дю Шайла участвовал в деятельности нансеновского комитета по делам беженцев, а с 1924 года состоял в Обществе франко-русской дружбы, возглавляемым упоминавшимся выше де Монзи. Через графа большевики поддерживали, в частности, конфиденциальные контакты с Э. Эррио. По некоторым предположением он являлся даже не посредником, а прямым советским агентом.
Еще одним советским агентом французская контрразведка считала Семена Рехтзаммера, бывшего российского социал-демократа (?)******, входившего в ближнее окружение бывшего (и будущего) премьера Поля Пенлеве, одного из крупнейших французских политиков левоцентристского направления. Через Рехтзаммера Пенлеве сносился, в частности, с Чичериным и, видимо, с Красиным.
В роли посредника большевиков выступал и Сергей Константинович Моркотун (Маркотун), бывший секретарь гетмана Скоропадского, с 1919 года живший во Франции и основавший здесь Украинский национальный комитет (беспартийные федералисты, выступавшие за федерацию России и Украины). К 1922 году, видимо в поисках пропитания, он установил связь с большевиками, пытаясь содействовать установлению экономических связей между ними и Францией, однако заметных успехов не добился. Работая с большевиками он одновременно подробно информировал о своих контактах власти Франции.
Как отмечается, значительную роль во внутренней политике Франции продолжали играть масоны и широкие связи вышеуказанных сомнительных персонажей в какой-то мере объяснялись видимо их масонским бэкграундом. Так, упомянутый Моркотун еще в киевский период своей жизни был довольно известным масоном и использовал соответствующие связи и в эмиграции. Симпатизантом масонства был Э. Эррио, хотя сам видимо в ложах не состоял.
Какие-то связи существовали видимо и между масонами и коммунистами. Так, известный впоследствии деятель компартии и Коминтерна Андре Марти, бывший одним из руководителей мятежа на кораблях французской черноморской эскадры в 1919 году, был масоном еще с довоенных времен. Осужденный за мятеж на 20 лет Марти в 1923 году был помилован при активном участии масонских лож. После освобождения он ушел из масонов и сделал большую карьеру в коммунистическом движении, [однако его родной брат Жан был масоном (или, по-крайней мере, подозревался в этом) уже в конце 1940-х].
Определенную роль в формировании французской политики играл внутренний «коммунистический фактор». Пик леворадикальной активности во Франции пришелся на 1919 - 1920 годы. В 1920 году по стране прокатилась волна массовых забастовок, пиком которой стала всеобщая стачка железнодорожников в мае. Численность главной социалистической партии Франции, СФИО, в 1920 году достигла 150 тыс. чел. (на 1915 год - всего 24 тыс.). В декабре 1920-го на съезде в Туре из СФИО выделилось радикальное левое крыло, оформившееся в Коммунистическую партию Франции.
Развития, впрочем, эти леворадикальные тенденции не получили. Забастовки 1920 года были успешно подавлены властями, стачечное движение пошло на спад и к концу 1921 года число забастовок сократилось в три раза. Число членов социалистической Всеобщей конфедерации труда к концу 1921 года сократилось на 70%. Дополнительно ее ослабило выделение в 1922 году коммунистической Унитарной всеобщей конфедерации труда.
Популярность коммунистической партии также оказалась весьма ограниченной. Так, на съезде СФИО в Туре коммунистов поддержало большинство делегатов-социалистов (3208 из 4731, ~ 68%), а в состав новообразованной партии поначалу вошла большая часть ее местных организаций (109 из 150 тыс. чел.), однако вскоре оказалось, что реальная поддержка коммунистов существенно ниже - к 1923 году численность компартии сократилась до примерно 56 тыс. чел. На выборах 1924 года коммунисты получили 9,8% голосов и всего 26 депутатских мандатов (СФИО - 107 мандатов).
Популярность коммунистов дополнительно подрывалась растущим и все более явным подчинением Москве и откровенно антинациональной позицией по вопросам колоний и антифранцузских выступлений в них (занятой опять же под давлением Москвы).
Французские власти воспринимали компартию в качестве агента Москвы однако особой тревоги ее деятельность в целом не вызывала.
Влияние левых на правительственную политику в описываемые годы было минимальным - в парламенте в ноябре 1919 - апреле 1924 годов безраздельно господствовал правоцентристский Национальный блок (319 мандатов из 620, вместе с непримкнувшими, но сочувствующими - до 450 мандатов).
Собственно советская разведывательная и пропагандистская деятельность во Франции вызывала у французских властей определенное беспокойство, однако в описываемые годы масштабы подобной деятельности были еще относительно невелики.
Не вызывало в описываемые годы особой тревоги (в т. ч. и в плане развития большевистской пропаганды) и положение во французских колониях, где ситуация оставалась достаточно спокойной. Куда больше французские власти беспокоила обстановка в колониях британских.
* [Из семьи киевских евреев-сахарозаводчиков, с конца XIX века жила во Франции, юрист, литератор, меценат.
** У Магадеева - В. П. Фермор. По первому браку - Басина, по второму Басина-Дюмениль. Дочь графини от первого брака Алла Басина-Дюмениль была удочерена адмиралом и прославилась в годы Второй Мировой, став создателем и командиром женский частей в составе авиации «Свободной Франции».
*** Автор (Магадеев) здесь (как и во многих других случаях) имени этого Сиу не приводит и какой именно из представителей этого многочисленного семейства возглавлял Лигу неясно.
**** Его супруга - Маргарита Флик-Крамер, была членом правления этой организации и племянницей основателя и президента МККК Густава Адора.
***** Семейство графов де Люберсак представляло собой влиятельный французский клан. Старший из братьев, Ги де Люберсак был французским сенатором [1920 - 1932], одновременно возглавляя Федерацию кооперативов освобожденных территорий, занимавшихся послевоенным восстановлением северных департаментов страны. Его младший брат Одон возглавлял банкирский дом «Банк де Люберсак», младший из братьев, Жак де Люберсак, в годы Мировой войны служил в России в составе французской военной миссии.
****** Биография этого персонажа вообще полна загадок. В книге А. Павлова и Ф. Гельтона «В кабинетах и окопах: французские военные миссии в России в годы Первой мировой войны» Рехтзаммер упоминается как бывший эсеровский боевик, в 1917 году направленный (в качестве французского офицера) в Россию и занимавшийся здесь изучением немецких связей большевиков и проч.]
Русская эмиграция и «русская политика»
Еще одним фактором оказывавшим влияние на русскую политику Франции была многочисленная русская эмиграция и связанная с ней проблема беженцев. Французские власти в целом видели в масштабном притоке беженцев и эмигрантов проблему - их содержание требовало дополнительных расходов, а само присутствие во Франции и на других важных, с точки зрения Парижа, территориях могло привести к политическим осложнениям разного рода.
В свете вышесказанного, огромной проблемой для французского правительства стала масштабная крымская эвакуация, в результате которой в зону Проливов и в Тунис прибыли организованные силы Русской армии и флота и значительное число гражданских беженцев (всего ок. 150 000 чел.).
Присутствие русской организованной военной силы в зоне Проливов в силу разных причин беспокоило французское правительство. Последнее почти сразу же взяло курс на «распыление» Русской армии (решение Совета министров от 30 ноября 1920-го), с переводом русских военных в статус гражданских беженцев и последующей репатриацией в Россию или перемещением в балканские страны (Югославия, Болгария Греция). Желая поскорее избавиться от русских французские власти не стеснялись и прямого сотрудничества с большевиками, так, в марте 1921 года в Константинополе, с разрешения французских властей, развернул бурную деятельность председатель советского «Азнефтекома» Серебровский, помимо прочего, вербовавший русских беженцев для работы на бакинских промыслах.
Благодаря упорному сопротивлению русского командования добиться распыления Русской армии французам не удалось. Не удалось им добиться и отправки обратно к большевикам существенного числа русских беженцев. Реализован был компромиссный вариант, более-менее приемлемый и для русских и для французов - структуры Русской армии и значительная часть гражданских беженцев, по договоренности с правительствами соответствующих государств, переместились в Югославию и Болгарию.
В целом, балканских странах к 1923 - 1924 годам разместилось до 82 - 89 тысяч русских беженцев. Большая часть из них находилась в Югославии (КСХС) и Болгарии. Прием последними русских беженцев был не совсем бескорыстным. Так, югославское правительство в 1921 году обусловило прием новых беженцев двухгодичным обеспечением каждого из них из расчета 400 динар в месяц. Обеспечение было предоставлено Совещанием русских послов в Париже (фактически русским послом в США Бахметьевым) передавшим югославам 400 тыс. долларов США. Аналогичное обеспечение (300 тыс. долларов) получило видимо и болгарское правительство.
Финансовый аспект проблемы «крымских» беженцев изначально имел большое значение для французского правительства и здесь традиционное французское жлобство также проявилось во всей красе. Уже в записке финансовой службы французского МИДа 17 ноября 1920-го прямо предлагалось «избавиться от русских», отправив их (с помощью англичан) обратно к большевикам.
В другой записке МИД (27 ноября 1920-го) стоимость содержания русских беженцев оценивалась в 10 франков в день на человека (ок. 1 млн франков в день) и правительству рекомендовалось прекратить финансировать их содержание уже с 1 января 1921 года.
На это, впрочем, французское правительство не пошло, не решившись, по политическим соображениям, на прекращение помощи беженцам и позднее, в феврале и апреле 21-го. Пайки гражданским беженцам постепенно перестали выдаваться после 15 июля 1921 года, а военнослужащим - после 4 мая 1922-го. Не решаясь полностью прекратить помощь беженцам французские власти постепенно ее урезали. Так, уже в январе-феврале 1921 года прекратилась выдача муки, мяса и кофе,выдача хлеба сократилась с 500 до 350 грамм в день, а овощей - со 100 до 80 грамм. Офицеры и солдаты получали помимо пайков небольшое жалованье - солдаты по 1 лире в месяц, офицеры по две, высшие чины - до 400 лир.
Сведения об общих расходах французов расходятся. По одним данным к августу 1921-го было потрачено ок. 150 млн франков. По другим (нота французского правительства представителям Врангеля от 17 апреля 1921-го) на нужды русских беженцев было потрачено св. 200 млн франков из которых «едва лишь четверть» покрыта русскими залогами.
Часть французских расходов, как уже отмечено выше, была покрыта русским имуществом. Уже 13 ноября 1920 года Врангель подписал с Высоким комиссаром Франции на Кавказе де Мартелем и адмиралом Дюменилем соглашение о передаче в залог французам кораблей и судов русского флота - в качестве обеспечения расходов Франции на содержание армии и беженцев.
Стоимость этих залогов оценивалась по-разному. Русское командование оценивало его в 144 млн франков, посол в Париже Маклаков - в 104 млн (75 млн - суда, 20 млн - уголь и 10 млн - прочее имущество). Французы стремились всячески занизить стоимость залогов, оценивая их в 30 - 50 млн франков.
В самой Франции французское правительство также стремилось минимизировать затраты и усилия в части помощи русским беженцам - переложив их на плечи самой русской эмиграции.
В январе 1921 года в Париже был образован Российский Земско-Городской комитет помощи российским гражданам за границей («Земгор», «Парижский Земгор»), под председательством кн. Г. Е. Львов (бывшего главноуполномоченного Всероссийского Земского Союза и председателя Объединенного комитета Земгора). Организация содержалась сначала в основном из средств Финансового совета Совещания послов, а позднее - за счет правительств славянских стран. На 1924 год 60,2% бюджета Земгора составляли субсидии правительств славянских стран (главным образом, Чехословакии), 23,2% - средства собранные самими русскими беженцами (сборы, пожертвования, плата за обучение) и 14,6% - ассигнования Совещания послов.
Земгор претендовал на роль главной организации помогающей русским беженцам и в этом качестве поддерживался французским правительством. Последнее к тому же пыталось использовать его для ослабления позиций Врангеля. Деятельность Земгора значительной частью эмиграции оценивалась весьма критически.
Численность русской эмиграции во Франции постепенно росла - за счет притока из менее благополучных стран (Германия, Польша, Болгария и проч.). Этому способствовала и деятельность международных организаций, прежде всего Международной организации труда, возглавляемой Альбером Тома. В Константинополе, Варшаве, Софии и Риге действовали центры найма рабочей силы МОТ - заключенный через них контракт обеспечивал зарплату и социальные гарантии аналогичные получаемым французами.
Из числа французских колоний / протекторатов относительно неплохие условия для русских имелись лишь в Марокко.
Русская эмиграция во Франции и других странах оказывала определенное влияние на формирование французской политики. Она была, прежде всего, одним из источников информации о положении в России и о русских делах вообще. Разные группы эмиграции в это время еще сохраняли связи с родиной, получая из России разнообразную информацию, которой делились и с французами. Разведывательные и контрразведывательные органы Белого движения также, в целом, поддерживали тесные связи с французскими спецслужбами, хотя отношения с последними часто были весьма непростыми. Значительное число русских эмигрантов служило в разнообразных французских учреждениях (дипломатических, военных, полицейских) - как в самой Франции, так и за ее пределами (Константинополь, Варшава и проч.).
Русская эмиграция пыталась также разнообразными способами влиять на формирование французской политики на русском направлении. Немалое число эмигрантов имело связи в военных, дипломатических и деловых кругах Франции. Так, очень заметную роль играл последний посол России во Франции В. А. Маклаков. Он поддерживал тесную связь с ведущими сотрудниками французского МИД (генеральными секретарями Палеологом и Бертело, главой управления политических и торговых связей Перетти и проч.), близкими к Мильерану Э. Пети и Ж. Нулансом, был вхож в парижские политические салоны, выступал во французской печати и в обеих палатах французского Национального собрания.
Среди самих представителей французской верхушки имелось немало русофилов, содействовавших, по мере возможности, русской эмиграции. Помимо уже упоминавшихся можно отметить Ж. Эрлиха и О. Говена. Свободно говоривший на русском уроженец Варшавы Жан Эрлих в 1918 - 1919 году был французским дипломатическим представителем при Деникине. Разочаровавшись в социалистических идеях, он в 1919 году порвал с СФИО и в том же году был избран в парламент по спискам Национального блока, занимая посты секретаря Палаты депутатов, члена комиссии по международным делам и выступая с крайних антибольшевистских позиций.
Огюст Говен, в 1893 - 1908 годах занимавший ряд дипломатических постов, с 1908 года возглавлял внешнеполитический отдел влиятельной консервативной газеты «Журналь де деба» (Journal des Débats Politiques et Littéraires).
Немало русофилов имелось и в академической среде. Среди них автор (Магадеев) отмечает Жюля Легра, видного филолога-слависта, в годы войны служившего во французской миссии в России и Поля Буайе, еще одного видного слависта, управлявшего Школой восточных языков в Париже.
Париж поддерживал тесные связи с различными антибольшевистскими группами, однако, как отмечается, степень французской поддержки сильно преувеличивалась советскими источниками. Французские власти в целом действовали весьма прагматично. Крупные военные акции фактически не поддерживались - какую-то помощь в начале 1920-х получал только Савинков в Польше. Уровень поддержки прочей антибольшевистской активности напрямую зависел от отношений с большевиками - в периоды роста напряженности она увеличивалась, относительного спокойствия - уменьшалась.
Взаимоотношения с разными группами эмиграции отчасти зависели и от личных взглядов французских руководителей. Пуанкаре, Мильеран, Лейг в целом симпатизировали русским правым и правоцентристским группам, тогда как Бриан - скорее левым. Так, в премьерство последнего французские власти рассчитывали, что консолидирующими центрами белой (!) эмиграции станут вышеупоминавшийся парижский [кадетский] Земгор и образованный в том же январе 1921-го Исполком бывших членов Учредительного собрания. Последний объединял «новотактиков» П. Н. Милюкова (сам Милюков, М. М. Винавер. А. И. Коновалов) и правых эсеров (Н. Д. Авксентьев, А. Ф. Керенский, В. М. Зензинов), при главенствующей роли последних. Надежды эти, естественно, не сбылись [и ярко демонстрируют уровень понимания русских дел и Брианом и французским начальством вообще]. Тот же Бриан весьма симпатизировал и лично А. Ф. Керенскому считая его «наиболее серьезным из русских агитаторов» (!!!).
Среди видных фигур правого фланга эмиграции относительные симпатии французы испытывали к вел. кн. Николаю Николаевичу. Отношения с Врангелем в послекрымский период были весьма напряженными - в 1924 году Пуанкаре не поленился лично аннулировать французскую визу полученную бароном в Белграде. Негативным в целом было и отношение к вел. кн. Кириллу Владимировичу и его попыткам объединить вокруг себя монархическую эмиграцию - великого князя подозревали в германофильстве. Аналогичные подозрения вызывали многие представители правой эмиграции (Врангель и проч.) и даже кадеты (Милюков)*.
Укрепление большевистского режима способствовало постепенному падению влияния русской эмиграции, особенно тяжелым ударом для нее стало признание СССР в 1924 году.
Помимо русской во Франции была представлена и «национальная» эмиграция - кавказская, украинская и пр. Она также пыталась воздействовать на французскую политику в своих интересах и в целом ее положение было схоже с эмиграцией русской, в том числе и в плане отношения французских властей. Среди «националов» наиболее заметны были грузины, пользовавшиеся определенной поддержкой во французских социалистических кругах.
* Германофилов французские власти и их конкретные представители, впрочем, вообще исхитрялись находить повсюду, в самых неожиданных местах.
Заключение
скрытый текст
Как отмечается, «однозначно оценить политику Франции в русском и советском вопросах» даже за такой короткий период «практически невозможно». Следуя за частыми изменениями обстановки она постоянно трансформировалась и «говорить о каком-то долгосрочном стратегическом плане или хотя бы о едином политическом курсе не приходится».
Общий контекст, в котором политическому и военному руководству республики приходилось принимать решения, «также не благоприятствовал формированию долгосрочных политических планов. В течении семи лет, прошедших после прихода в России к власти большевиков, перемены происходили на всех уровнях - от глобальной трансформации мирового порядка до локальных социально-политических сдвигов в различных государствах и на различных территориях. Все это формировало весьма пеструю картину, к тому же постоянно и непредсказуемо изменявшуюся.»
Вместе с тем «существовали и некоторые достаточно устойчивые представления, на которых строились французские политические планы и проекты». Наиболее характерным из них «было представление о «большевизме» как угрозе, с существованием которой невозможно было до конца смириться». Четкое понимание сущности «большевизма» отсутствовало, но тем не менее «борьба с большевизмом во всех его воплощениях» влияла на позицию Франции по многим вопросам, «включая участие в Гражданской войне в России, отношения с союзниками и противниками, формирование основ региональной, внутренней и колониальной политики, и прежде всего - по вопросу об отношениях с Советской Россией».
Представление об опасности большевизма оформилось не сразу, какое-то время большевики рассматривались даже как потенциальный союзник в борьбе с германцами. Ко времени окончания Мировой войны сомнений в опасности большевизма и необходимости борьбы с ним уже не было, однако сохранял актуальность вопрос «какие способы для этого следовало использовать в условиях ограниченности имевшихся в распоряжении французского правительства средств».
Пока сохранялась надежда на ликвидацию большевизма силовым путем «Франция готова была поддерживать любые антибольшевистские силы» и побуждать к этому своих союзников. По мере укрепления большевистского режима акцент все больше делался на его изоляцию - и для подрыва власти большевиков в России и для предотвращения распространения большевизма вовне.
Идея формирования «санитарного кордона» возникла еще в период Гражданской войны. После поражения белых Польша, Румыния и лимитрофы стали рассматриваться еще и как барьер между крупнейшими ревизионистскими силами - Веймарской Германией и Советской Россией. «Плоть и кровь» санитарный кордон обрел в начале 1921 года, после заключения франко-польского и польско-румынского соглашений о взаимопомощи. Однако в полной мере концепия «санитарного кордона» так и не была реализована, в силу непростых, а местами и откровенно конфликтных отношений между его потенциальными участниками (Румынией, Польшей, Чехословакией, Литвой и пр.). Отношения самой Франции со странами кордона также были неровными. С точки зрения последних Париж не проявлял в достаточной мере готовность оказать им действенную помощь.
Одновременно с попытками реализовать проект «санитарного кордона» французские правительства рассматривали и варианты восстановления отношений с Россией. Непризнание и изоляция Советской России не означали, «что о России - советской, «трансформированной» или пост-большевистской не думали и не учитывали ее в своих стратегических, экономических и политических планах». Интенсивность подобных «размышлений» возрастала по мере укрепления позиций советской власти.
Как отмечается, среди политиков, дипломатов и военных республики позитивный образ России как «восточного противовеса» Германии сосуществовал с крайне негативными представлениями о большевистском режиме и большевизме («вирус», «варвары», недоговороспособное идеологизированное правительство и пр.). Французских предпринимателей «также тянуло в разные стороны». С одной стороны, «их манили возможность получить прибыль за счет вывоза советского сырья и шанс занять хорошие позиции на советском рынке», с другой - «они опасались вести дела в стране чьи власти не были признаны в Париже, и контакты с которой оказались затруднены в самых разных отношениях».
Советский фактор играл определенную роль во внутренней политике Франции. Правые и крайне правые круги педалируя «коммунистическую угрозу» стремились консолидировать общество на базе антибольшевизма. На левом фланге разногласия по поводу событий в России и отношений с большевиками привели к расколу социалистического движения, создав пропасть между социалистами и коммунистами.
В целом, в 1920 - 1924 годах «можно выделить несколько основных стратегических, внешнеполитических и экономических направлений советской политики Парижа». Во-первых, «французское политическое и военное руководство стремилось не допустить формирования... альянса» или какой-либо системы взаимодействия между большевиками и странами проигравшими Мировую войну - прежде всего Германией и Турцией.
Во-вторых, «Франция стремилась избежать прямого военного столкновения с большевиками, предпочитая воздействовать на Москву иными методами». В-третьих, «у французского правительства и деловых кругов имелся интерес в получении доступа к источникам сырья» на территории России «и предпринимались попытки этот интерес обеспечить».
«Возможность выделить в политике Франции основные направления, не означает, что эта политика была непротиворечивой и стройной. Ограниченность ресурсов, прежде всего военных и финансовых, серьезно подрывала возможность реализации политических планов». Устойчивости курса не способствовали характерные для Третьей республики частая смена правительств, межведомственные разногласия, активная деятельность разнообразных внешних и внутренних групп влияния. Играл свою роль и личностный фактор, так, действующие премьеры, от Мильерана до Эррио, «вносили свой личный вклад в расстановку приоритетов и акцентов в рамках определенных... политических линий».
Возможности «советской» политики Парижа ограничивались также наличием острых противоречий с союзниками, прежде всего - с Британией.
В отношении Парижа к русской и белой эмиграции «доминировал прагматический подход, не лишенный, однако, ряда идеологизированных представлений», частью менявшихся от правительств к правительству, частью остававшмхся неизменными. Содидарность с белыми на антисоветской основе оставалась шаткой, большее внимание Париж обращал на реальные силы и возможности эмиграции, на протяжении начала 1920-х все более сокращавшиеся. Французские власти не были против попыток свержения большевистского режима силами белой или «национальной» эмиграции, однако «оказывать подобным акциям действительно серьезную поддержку Париж не был готов».
В целом, «советский фактор» не играл определяющей роли во внешней и внутренней политике Франции, однако оказывал ощутимое воздействие на разные сферы французской политической жизни.

* * *
Русско-турецкая война 1686–1700 годов
Первое полноценное описание соответствующей войны. Крымские походы освещены очень подробно, Азовские очень бегло. Есть цветные карты. В целом, очень полезный труд.
скрытый текстПредпосылки войны
скрытый текст
Пользуясь переходом правобережного гетмана Дорошенко в османское подданство и разгоревшейся польско-турецкой войной русское правительство в первой половине - середине 1670-х годов предприняло попытку пересмотреть итоги Тринадцатилетней войны, подчинив себе Правобережную Малороссию. Это привело к прямому столкновению с Османской империей, конфликт с которой закончился поражением русского государства. Подписанные по итогам войны 1672 - 1681 года мирные соглашения с Крымом и Османской империей не несли России особых выгод.
После трудных переговоров в январе 1681 года крымский хан Мурад-Гирей одобрил проект мирного соглашения. В соответствии с ним перемирие заключалось на 20 лет, границей между Портой и Россией объявлялся Днепр, на правом берегу за царем признавался Киев с пригородами и земли Запорожской Сечи. При этом хану и султану запрещалось строить города и заселять (в т. ч. за счет перебежчиков с левого берега) территории между Днепром и Южным Бугом и разрешались вольные промыслы запорожских казаков. Восстанавливалась и уплата «поминков», прерванная в 1658 году.
После консультаций со Стамбулом, крымцы переписали текст согласованной грамоты «с убавкой» - были удалены пункты о вольных промыслах для казаков, условие сохранения пустой территории между Бугом и Днепром трансформировалось в обязательство обеих сторон «на Днепре по обоих сторон городов и городков не делать».
4 марта 1681 года Мурад-Гирей присягнул этой, урезанной, грамоте. Русские послы стольник Василий Тяпкин и дьяк Никита Зотов, поначалу отказывавшиеся брать новую грамоту, в конце концов вынуждены были ее принять. Им вручили также грамоту великого везира Кара-Мустафы с одобрением условий мира, при этом в грамоте везира отсутствовало еще и признание за русскими власти над Сечью.
Отправленные в июле 1681 года в Стамбул послы - окольничий Илья Чириков и дьяк Прокофий Возницын, должны были добиваться сохранения за царем Сечи и хотя бы части Правобережья, однако успеха не добились - в султанской «утвердительной грамоте», врученной Возницыну в 1682 году (Чириков к этому времени умер), за Москвой признавались Левобережье и Киев с окрестностями. Обеим сторонам запрещалось строить новые города вдоль Днепра и препятствовать переходу жителей с одного берега на другой, казацкие промыслы допускались при условии уплаты пошлин.
Новые попытки русского правительства пересмотреть условия мира успеха также не имели, при этом русские дипломаты подверглись оскорблениям. Посланного в Стамбул с извещением о новом посольстве подьячего Михаила Тарасова к султану не пустили, посольство принимать отказались, а с самим подьячим обращались подчеркнуто пренебрежительно.
Еще хуже пришлось русским послам в Крыму - в конце декабря 1682 года стольника Никиту Тараканова и подьячего Петра Бурцова ограбили, избили и подвергли пыткам. Оскорблениям подверглись и следующие годовые послы, Иван Протопопов и Дмитрий Парфеньев.
С началом Великой турецкой войны (1683 - 1699) внешнеполитические позиции России существенно укрепились - терпевшие поражения турки опасались ее присоединения к антитурецкой коалиции и лишний раз злить не хотели. Пересматривать условия Бахчисарайского мира османы по-прежнему не желали, однако пошли на некоторые уступки в других вопросах — в 1685 - 1686 годах турецкое правительство санкционировало переход Киевской митрополии под власть патриарха московского.
Пользуясь открывшимся миролюбием Стамбула Москва ужесточила подход к Крыму. В январе 1685 года, при традиционном размене русских и крымских послов (проходившем теперь в Переволочной, сотенном центре Полтавского полка), руководивший «разменой» с русской стороны Леонтий Неплюев объявил татарам, что русские годовые послы в Крым больше посылаться не будут. Не будут больше приниматься и крымские послы. От уплаты поминок Москва, впрочем, не отказывалась, но передавать их готова была только в месте размена.
Объявление Неплюева вызвало среди татар замешательство и последние в итоге покинули место размена даже не взяв поминок. На крымское правительство этот акт также произвел сильное впечатление - новый хан Селим-Гирей в отправленной в Москву грамоте даже принес извинения за насилия над русскими послами, возложив, впрочем, всю вину за них на своего предшественника.
В октябре 1685 года, в той же Переволочной, Л. Неплюев передал крымцам поминки за два года, попутно добившись ряда дипломатических успехов - крымская делегация подписалась под обязательством не заселять Правобережье и не перезывать туда людей с левого берега и проч. Переданные в 1685 году поминки оказались последними в истории русско-крымских отношений.
Оформившаяся в 1684 году в очередную Священную лигу антитурецкая коалиция (Габсбурги, Польша, Венеция, папа) стремилась вовлечь Россию в войну на своей стороне. Однако русское правительство не желало вступать в войну с турками до заключения полноценного мира с Польшей, гарантирующего приобретения Тринадцатилетней войны - на что, в свою очередь не готово было пойти правительство польское. Неудачи на турецком фронте и давление габсбургской и папской дипломатии вскоре вынудили поляков смягчить позицию. В феврале 1686 года в Москву, для переговоров о мире и союзе, прибыло польское великое посольство во главе с познанским воеводой К. Гжимултовским и литовским канцлером М. Огинским. Напряженные переговоры продолжались несколько месяцев, закончившись заключением Вечного мира (26 апреля 1686-го утвержден юными царями Иваном и Петром).
Договор закреплял за Россией все приобретения Тринадцатилетней войны. Сечь признавалась владением России (а не совместным, как в Андрусове), заключался оборонительный союз против Крыма и Турции - навечно, и наступательный - до конца войны.
Россия, таким образом, присоединялась к Священной лиге, но не напрямую, а через союз с Речью Посполитой, что обеспечивало ей определенную свободу рук - позволяло на равных участвовать в будущих переговорах с османами, имея при этом обязательства только перед Польшей.
Кампания 1686 года
скрытый текст
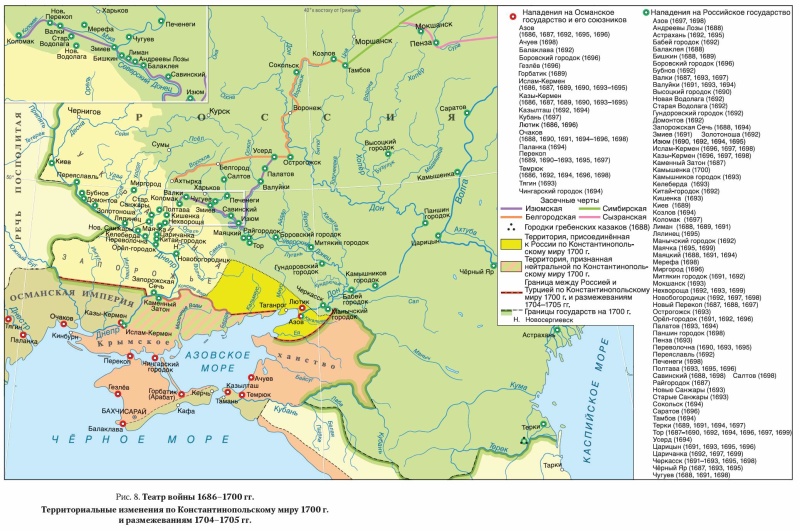
По договору о Вечном мире Москва обещала начать войну уже в 1686 году, перекрыв татарские переправы через Днепр и послав против татар донских казаков. В 1687 году должен был состояться поход «многими силами» на Крым.
Объявлять Крыму войну Москва, впрочем, не спешила. Прибывшие весной 1686 года крымские гонцы 7 июня были отпущены безо всяких официальных заявлений на этот счет. Более того, сопровождавший их толмач Василий Козлов вез в Крым грамоту в которой подтверждалось намерение царей пребывать с ханом «в дружбе». Лишь 21 августа 1686 года новому крымскому гонцу Мубарекше-мурзе Сулешеву было объявлено, что «ныне с ханом и с крымским юртом война», однако сам он был задержан в русской столице.
До конца лета 1686 года русское правительство скрывало от Бахчисарая фактическое присоединение к антиосманской коалиции и даже пыталось (при посредничестве гетмана Самойловича) передать хану Селим-Гирею предложения о переоде под протекторат русских царей.
Летом 1686 года к Запорожью был послан корпус генерал-поручика Григория Косагова. Указ о сборе войск в Колонтаеве Косагов получил уже в первых числах мая, вскоре после заключения Вечного мира. В состав его отряда вошли части Белгородского разряда - рейтарский полк Ивана Гопта (по наряду - 1 032 чел.), солдатские полки Якова Эрнеста (958) и Ивана Гранковского (1 324), новоприборный солдатский полк из Москвы (1 180, фактически 1 014 чел.), белгородские донские, яицкие и орешковские казаки (230) и калмыки-новокрещены (19), 20 пушкарей и 1 500 слободских казаков (по 500 чел. от Сумского, Ахтырского и Острогожского полков), всего - 6 278 человек и 13 пушек.
К 20 июля на службу явилось 5 569 чел., т. е. почти 90% наряда.
25 июля Косагов пришел к Запорожью и вскоре встал в Каменном Затоне, на левом, «крымском», берегу Днепра, напротив Сечи, устроив здесь земляную крепость. Активных действий он не вел, ограничиваясь разведкой и обустройством крепости. Корпус остался зимовать в Каменном Затоне, страдая от дезертирства и болезней (цинги и проч.). К 11 марта 1687 года в нем оставалось 4 696 чел., из которых здоровы были лишь 3 570.
Донские казаки в 1686 году опустошили окрестности Темрюка (800 чел. с атаманом Фомой Голодным), а затем безуспешно осаждали Лютик в районе Азова. Пройти обратно на Дон мимо Азова этот отряд не смог и отошел к реке Миус, откуда часть казаков ушла на Дон сухопутным путем. Позднее, получив подкрепления с Дона, казаки разорили окрестности Азова и беспрепятственно вернулись домой.
По сообщению донского атамана Фрола Минаева, в том же году 30 казацких судов были отправлены на промысел к берегам Турции.
В июле 1686 года отряд запорожцев (ок. 400 чел.), усиленный донцами и калмыками (ок. 100 чел.), ходил к Казы-Кермену, где был наголову разбит, потеряв полторы сотни человек убитыми (в т. ч. примерно 30 донцов и одного калмыка) и 250 пленными (в основном из числа запорожцев).
В ноябре 1686 года крымского гонца Мубарекшу-мурзу Сулешева официально отпустили из Москвы, предписав однако гетману Самойловичу задержать его до Рождества - дабы не дать Селим-Гирею упредить готовящийся поход на Крым набегом. Сам Селим-Гирей, впрочем, уже в октябре прислал в Москву грамоту, в которой извещал, что знает о «зачавшейся» войне и «недружбе» и о посылке Косагова в Запорожье и казаков к Азову. В ответной русской грамоте о войне ничего определенного не сообщалось, а хану предлагалось помириться с Польшей. На это предложение Селим-Гирей ничего не ответил, однако выразил готовность замириться с Москвой - на прежних условиях. Русское правительство, в свою очередь, в начале января 1687 года предложило хану обсудить спорные проблемы на пограничном съезде - между Запорожьем и Казикерменем.
В целом, как отмечают авторы, в 1686 - начале 1687 года русское правительство «вполне сознательно избегало резкого разрыва мирных отношений с ханом, стремясь, с одной стороны, дезориентировать его относительно своих истинных военных планов на будущий год, а с другой — воспользоваться ситуацией, чтобы прозондировать настроения в Бахчисарае касательно перехода под верховную власть царей». При этом «Москва всеми силами стремилась создать впечатление у своего польского союзника, что она полностью выполняет положения договора о союзе...».
Сами поляки летом-осенью 1686 года безуспешно ходили в Молдавию. Неудача похода породила некоторое недовольство заключенным с Москвой союзом, тем более что отдельные крымские отряды дошли в этой кампании до Молдавии и Венгрии.
Прибывшие в Польшу для принятия королевской присяги на Вечном мире русские послы Б. П. Шереметев и И. И. Чаадаев в ответ на польские претензии заявили, что сам крымский хан в этом году оставался в Крыму, а появившиеся в Молдавии татарские отряды прошли туда еще до заключения мира. Полякам сообщили также о подготовке похода на Крым в следующем году, огласив роспись разрядных полков. Претворение этих планов в жизнь послы ставили в зависимость от ратификации Вечного мира и Ян Собеский, после некоторых колебаний, утвердил договор.
Новые разногласия возникли при согласовании планов кампании 1687 года. Русская сторона, опираясь на текст союзного договора, требовала от поляков выступить в поход на Белгородскую орду в марте 1687 года. Коронные и литовские дипломаты, в свою очередь, предлагали русским в начале кампании овладеть крепостями в низовьях Днепра, а оттуда наступать на Крым, синхронно с ударом Речи Посполитой по Белгородской орде. Согласовать позиции сторон не удалось.
В конце декабря 1686-го Ян Собеский предложил свой план кампании уже непосредственно Москве. В соответствии с этим планом, на первом этапе русские должны были основными силами взять турецкие крепости в низовьях Днепра (часть сил направив в район Азова), на втором этапе поляки, усиленные 20-30 тысячами русских служилых людей и казаков, должны были, в свою очередь, разгромить Белгородскую орду, на третьем этапе главные силы русских, усиленные вернувшимися после разгрома орды русскими отрядами и польскими контингентами, должны были наступать на Крым.
Русская сторона отвергла и этот план, соглашаясь атаковать днепровские крепости лишь после окончания похода на Крым и вновь требуя от поляков наступления на Белгородскую орду весной.
Планы кампании 1687 года, таким образом, согласовать не удалось и стороны действовали в ней совершенно обособленно.
Крымский поход 1687 года
скрытый текст
Подготовка и обеспечение похода
1) Сбор служилых людей
19 сентября 1686 года в города были посланы окружные грамоты с распоряжением готовиться к кампании - в связи с намерением крымского хана прийти войной к «государским украинным и малороссийским городам». Сроки и места сбора войск обещалось объявить позднее. 7 октября грамоты были посланы повторно.
22 октября был объявлен указ о составе войск и местах их сосредоточения - для последующего направления в малороссийские города, с целью «береженья и поиску над неприятелскими людми» (см. ниже). Время сбора обещалось объявить дополнительно. 25 октября грамоты с соответствующей информацией были посланы в города. 9 ноября роспись полков была отправлена Яну Собескому (см. выше).
28 ноября с Постельного крыльца были объявлены даты сбора войск - 25 февраля, крайний срок - 1 марта 1687 года, для Белгородского полка - 15 марта для «дальних» и 25 марта для «ближних» городов. 1 декабря соответствующие грамоты были разосланы в города. В уезды для сбора войск были посланы стольники и дворяне с денежным жалованьем.
Люди собирались медленно, в том числе, видимо и из-за установленных сроков сбора*. Так, в Рязанском полку на 23-24 марта имелось лишь 6 895 человек - менее половины наряда.
Правительство реагировало традиционно. Указ от 28 февраля грозил московским чинам, не едущим в полки, опалой и отпиской поместий на государя. Грамота от 13 марта предписывала кн. В. В. Голицыну и другим воеводам «похвалять» и отпускать к Москве стольников и дворян хорошо проведших мобилизацию и не уличенных во взятках и вычетах, не справившихся с мобилизацией оставлять в полках, написав в чины и сотни, а уличенных во взятках, бив кнутом и доправив на них взятое, писать в службу с городом.
29 марта 1687 года, по инициативе Голицына, был издан указ меняющий организацию службы московских чинов (теперь они расписывались по ротам) вызвавший брожение среди знати и местнический скандал.
Указом от 22 октября Большой полк поручался боярину князю В. В. Голицыну и его товарищам - боярину князю К. О. Щербатову, окольничему В. А. Змееву, думному генералу А. А. Шепелеву, думному дьяку Е. И. Украинцеву, дьякам Перфилию Оловенникову, Михаилу Воинову, Григорию Протопопову. Новгородским полком командовал боярин А. С. Шеин, в товарищах у него значились князь Д. А. Барятинский, дьяки Еремей Полянский и Андрей Юдин.
Рязанский полк возглавил боярин князь В. Д. Долгоруков с товарищами - окольничим П. Д. Скуратовым, дьяками Львом Протопоповым и Автомоном (Автономом) Ивановым.
Севским полком командовал окольничий Л. Р. Неплюев, с дьяком Михаилом Жаденовым, Низовым полком - стольник (с 20 февраля 1687-го - думный дворянин) И. Ю. Леонтьев и дьяк Артемий Волков.
Воеводами у большого (так в тексте) наряда были назначены стольники, отец и сын Михаил Петрович и Иван Михайлович Беклемишевы.
Севский и Низовой полки были подчинены кн. Голицыну и фактически оперативных соединений имелось три - Большой, Новгородский и Рязанский полки. В состав Большого, помимо замосковных и проч. формирований фактически вошла и большая часть Белгородского полка, в качестве самостоятельного формирования в этой кампании не выступавшего.
Большой полк собирался в Ахтырке. Здесь же изначально должен был собираться Низовой (позднее место сбора было перенесено в Чугуев).
Новгородский полк собирался в Сумах, Рязанский - в Хотмыжске, Севский полк - в Севске, затем переходя в Красный Кут.
Авторы публикуют также наряд собиравшейся армии.
Большой полк: московские чины и приравненные к ним новокрещены и кормовые иноземцы; дворяне и дети боярские Замосковных, Заоцких, Украинных городов и Белгородского разряда; 2 полка копейщиков; 8 рейтарских полков; 2 выборных полка; 6 стрелецких полков; 8 солдатских полков; слободские казаки Сумского, Харьковского и Ахтырского полков.
Всего:
— 3 926 московских чинов (1 105 стольников, 730 стряпчих, 1 036 дворян, 1 055 жильцов)
— 386 новокрещенов и кормовых иноземцев (в т. ч. 18 стольников, 7 стряпчих, 35 дворян, 36 жильцов, 3 мурзы, 31 романовский и 236 ярославских татар)
— 742 чел. полка смоленской шляхты (смоленская, рославльская, бельская шляхта и проч.)
— 705 дворян и детей боярских Замосковных (228), Украинных (61), Заоцких (10) городов и городов Белгородского разряда (406)
— 3 021 копейщик полков Мартина Болмана ( 1 493, везде с начальными людьми) и Тобиаса Колбрехта (1 526)
— 7 909 рейтар полков генерала Ивана Лукина (1 304), Петра Рыдара (912), Андрея Гулица (1 023), Николая Фанвердина (1 073), Данилы Пулста (1 064), Ягана Фанфеника (907), Ицыхеля Булирта (796)
— 10 390 выборных солдат полков думного генерала А. А. Шепелева (6 893, без самого Шепелева) и генерал-поручика П. Гордона (3 497, с самим Гордоном)
— 5 114 стрельцов московских полков Ивана Цыклера (1 010), Бориса Щербачева (716), Бориса Головнина (811), Семена Резанова (921), Сергея Сергеева (850) и белгородского полка Данилы Юдина (795)
— 13 023 солдата полков генерал-майора графа Давида фон Граама / Давыда Вилгеймона (2 607), Михаила Вестова (1 795), Юрия Фамендина (1 517), Елизария Кро (1 623), Михаила Горезина ( 1340), Петра Эрланта (1 233), Александра Ливенстона (1 274), Гаврилы Фанторнера (1 158) + 467 солдат по полкам не расписанных
— 14 005 слободских казаков Сумского (6 000), Харьковского (4 000) и Ахтырского (4 000) полков
Итого: 59 221 человек (в т. ч. 31 144 чел. конницы (включая слободских казаков) и 28 527 чел. пехоты)
Севский полк: московские чины; дворяне и дети боярские Северских городов; 2 полка копейного и рейтарского строя; 3 солдатских полка.
Всего:
— 18 московских чинов (стольник, жилец и 16 дворян)
— 1 097 дворян и детей боярских Северских городов
— 2 607 копейщиков и рейтар полков генерал-майора Андрея Цея (1 147) и Томаса Юнгора (1 458)
— 4 091 солдат полков Тимофея Фандервидена (1 220), Франца Фангольстена (1 782) и Юрия Шкота (1 086)
Итого: 7 813 человек (в т. ч. 3 722 чел. конницы и 4 091 чел. пехоты)
Низовой полк: дети боярские, стрельцы, казаки, служилые иноземцы и новокрещены Низовых городов, гребенские и яицкие казаки и проч.
Всего:
— 126 детей боярских (вместе с уфимскими стрелецкими сотниками)
— 166 иноземцев и новокрещенов (90 + 76)
— 750 конных стрельцов (500 астраханских, по 100 из Саратова и Уфы и 50 самарских)
— 100 конных уфимских казаков
— 200 гребенских и 300 яицких казаков
— 205 прочих - терских окоченов (75) и узденей (80) и астраханских ногайских мурз и табунных голов (50)
Итого: 1 847 человек (по городам: Астрахань - 568, Терки - 430, Саратов - 119, Самара - 420, Уфа - 305, Царицын - 5).
Новгородский полк: московские чины; дворяне и дети боярские городов Новгородского разряда; гусарский полк и полк копейщиков; 6 рейтарских полков; 2 стрелецких полка; 7 солдатских полков.
Всего:
— 141 московский чин (45 стольников, 10 стряпчих, 54 дворянина, 32 жильца)
— 1 109 дворян и детей боярских городов Новгородского разряда (в т. ч. 138 новгородских новокрещенов и кормовых черкас)
— 994 гусара и копейщика гусарского полка Михаила Челищева ( 479) и копейного Ивана Лопухина (513)
— 5 809 рейтар полков генерал-поручика Афанасия Траурнихта (1 338), Михаила Зыкова (1 177), Карлуса Ригимана (975), Данилы Цея (731), Ивана Вуда (700), Ивана Барова (882)
— 1 679 стрельцов полков Родиона Остафьева (757) и Ильи Дурова (918)
— 9 563 солдата полков Владислава Сербина (1 108), Якова Ловзина (1 047), Артемия Росформа (1 627), Николая Фливерка (1 699 + 921 смоленский стрелец), Варфоломея Ронорта (1 620), два полка Павла Менезия (1 535)
Итого: 19 295 человек (в т. ч. 8 053 чел. конницы и 11 242 чел. пехоты)
Рязанский полк: московские чины; дворяне и дети боярские городов Рязанского разряда и Казани, казанские служилые иноземцы и новокрещены; 5 рейтарских полков; 2 стрелецких полка; 6 солдатских полков.
Всего:
— 68 московских чинов (9 стольников, 15 стряпчих, 18 дворян, 26 жильцов)
— 681 дворянин и сын боярский городов Рязанского разряда и Казани (в т. ч. 500 казанских детей боярских, иноземцев старого и нового выездов и новокрещенов)
— 4 828 рейтар полков Ягана Фанговена (1 125), кн. Никифора Мещерского (1 135), Федора Коха (835), Христофора Ригимана (992) и Ивана Кулика Дорогомира (736)
— 1 697 стрельцов полков Сергея Головцына (976) и Василия Боркова (717)
— 9 048 солдат полков Василия Кунингама (2 026), Ивана Францбекова (1 177), Ивана Девсона (1 067), Николая Балка (1 658), Мартина Болдвина (1 726), Петра Бансыря (1 389)
Итого: 16 322 человека (в т. ч. 5 577 чел. конницы и 10 745 чел. пехоты)
Всего, таким образом, помимо поместной конницы, в состав армии входило 25 конных (гусарский, 3 копейных, 2 рейтарских и копейных и 19 рейтарских), 2 выборных, 21 солдатский и 10 стрелецких полков.
Общая численность армии по наряду достигала почти 105 000 человек (св. 50 000 конницы и ок. 54 000 пехоты). Отдельно в наряд были включены корпус Г. Косагова (6 085 чел.) и стрелецкие полки Петра Борисова и Андрея Нармацкого, находившиеся при Самойловиче (св. 2 000 чел.). С ними общая численность войск доходила до 113 000 чел.
Более половины войск входило в состав Большого полка, с учетом Севского и Низового кн. В. Голицыну подчинялось почти две трети армии.
Численность войск гетмана Самойловича неизвестна и традиционно оценивается примерно в 50 000 чел.
В армию были направлены также медики и дипломаты / переводчики. В феврале 1687 года из Аптекарского приказа на службу были «наряжены» доктор Захарий ван дер Гульст; аптекарь Юрий Госен; лекари-иноземцы Яган Термонт, Андрей Бекер («в полку гетмана Ивана Самойловича»), Адольф Евенгаген, Яков Вульф, Александр Квилон, Яган Фолт, Петр Рабкеев, Карлус Еленгузен; русские лекари Артемий Петров, Яков Починской, Василей Подуруев, Кузьма Семенов, Федор Чаранда, Иван Венедихтов, Андрей Харитонов, Данила Либедев; 13 «лекарского дела учеников» и отдельно — ученик и сторож для заведования «лекарственной казной» - всего 33 человека.
Посольский приказ делегировал в Большой полк Ивана Тяжкогорского (переводчик c «полского, латинского и цесарского языков»), переводчиков «с турского и татарского» Сулеймана Тонкачова (Тонкачеева) и Петра Татаринова и толмачей «татарского языку» Полуекта Кучумова, Петра Хивинца и Василия Козлова.
16 мая был проведен общий смотр армии.
Большой полк кн. В. В. Голицына был разделен на 3 воеводских полка - самого Голицына и его товарищей, генерала В. А. Змеева и кн. К. О. Щербатова.
В воеводском полку Голицына по списку имелось:
— 3 389 московских чинов
— 353 кормовщика московского чина (см. выше)
— 638 чел. смоленской шляхты
— 3 032 копейщика (в 2 полках)
— 3 984? рейтар (в 4? полках)
— 11 941 выборный солдат (обоих полков)
— 6 135 солдат (3 полка)
— 4 077 стрельцов (4 полка)
— 4 028 слободских казаков (Сумский полк)
Всего: 38 079 человек (15 926 конницы и 22 153 пехоты)
В воеводском полку В. А. Змеева имелось:
— 308 чел. сотенной службы (54 завоеводчика, 28 есаулов, 226 прочих)
— 1 761 рейтар (2 полка)
— 4 407 солдат (3 полка)
— 4 569 слободских казаков (Харьковский полк)
Всего: 11 045 человек (6 638 конницы и 4 407 пехоты)
В воеводском полку кн. К. О. Щербатова имелось:
— 112 московских чинов
— 313 городовых дворян и детей боярских
— 1 950 рейтар (в 2 полках)
— 2 667 солдат
— 709 стрельцов (1 московский полк)
Всего: 5 751 человек (2 375 конницы и 3 376 пехоты)
Всего в Большом полку:
— 3 501 московский чин
— 353 кормовщика московского чина (см. выше)
— 638 чел. смоленской шляхты
— 621 городовой дворянин и сын боярский
— 3 032 копейщика
— 7 695? рейтар
— 11 941 выборный солдат
— 12 809 солдат
— 4 786 стрельцов
— 8 597 слободских казаков
Итого: 54 875 человек (24 939 конницы и 29 936 пехоты).
В Севском полку имелось:
— 11 московских чинов
— 975 городовых дворян и детей боярских
— 2 670 копейщиков и рейтар (382 + 2 288, без начальных людей)
— 3 971 солдат (без начальных людей)
— 153 чел. начальных людей полков нового строя
— 422 чел. севских казаков и людей пушкарского чина (все - у наряда)**
Всего: 8 207 человек (3 809 конницы и 4 398 пехоты).
В Низовом полку полку имелось 1 211 человек:
— 123 чел. городовых дворян и детей боярских + 6 сотников
— 110 иноземцев и новокрещенов (с ротмистром и прапорщиком)
— 731 конный стрелец
— 199 казаков
— 42 чел. юртовских мурз, табунных голов и сотников татарских
В Новгородском полку имелось:
— 163 московских чина
— 939 городовых дворян и детей боярских
— 635 гусар и копейщиков (257 + 378, без начальных людей)
— 4 824 рейтара (без начальных людей)
— 4 426 солдат (без начальных людей)
— 321 чел. начальных людей полков нового строя
— 2 315 стрельцов
Всего: 13 623 человека (6 882 конницы и 6 741 пехоты).
В Рязанском полку имелось:
— 81 московский чин
— 480 городовых дворян, детей боярских, служилых иноземцев и новокрещенов
— 5 288 рейтар
— 5 497 солдат
— 1 638 стрельцов
Всего: 13 122 человека (5 987 конницы и 7 135 пехоты).
Всего в главной армии имелось 91 038 человек (42 828 человек конницы, 48 210 пехоты). В целом, как отмечают авторы, явка оказалась высокой - на службу явилось почти 90% служилых людей. Однако сбор войск был закончен на два месяца позднее, чем предполагалось - к концу апреля, вместо конца февраля.
[* Обычно указ о мобилизации объявлялся в конце декабря - начале января, а сроком сбора назначалось начало мая].
** Больше пушкари нигде не упоминаются.
2) Оружие, знамена и проч.
Оружие и снаряжение для армии посылалось из Москвы, Киева, городов Белгородского и Севского разрядов и проч. Так, уже в сентябре 1686-го из Москвы в Белгород было отправлено 3 270 «карабинов с курки и с перевезми» и 4 370 «пар пистолей с олстры» для копейщиков и рейтар и 2 595 мушкетов для солдатских полков. В Севск выслали 2 861 карабин и 4 436 пар пистолетов в ольстрах для рейтар и копейщиков, 1 753 мушкета для солдат и по 2 000 пудов ружейного и пушечного пороха.
8 декабря было приказано свозить полковые припасы, знамена, полковые пушки, ядра и гранаты, огнестрельное оружие, порох, свинец, фитиль и проч. из мест хранения в пункты сосредоточения полков.
В Большой полк (в Ахтырку) следовало доставить оружие и снаряжение из Белгорода, Курска, Суджи, Тамбова и Козлова, Нового Оскола; в Новгородский разряд (в Сумы) - из Путивля, Рыльска, Переяславля-Рязанского (из последнего - солдатские знамена); в Рязанский разряд (в Хотмыжск) - также из Путивля и Рыльска и дополнительно из Севска и Ряжска.
1 марта в Большой полк были отправлены знамена для посыльных воевод и сотенные знамена, большой полковой (разрядный) шатер, а также «полковые припасы» для нужд шатра (свечи, бумага, щипцы, стулья, чернила и проч.).
3) Продовольствие и фураж
Для обеспечения войск провиантом 10 августа 1686 года был введен чрезвычайный налог, запросный сбор хлеба - по полуосьмине ржаной муки (20 кг) и по четверти четверика овсяных круп и толокна (по 2,5 кг) с двора. С 60 000 дворов Белгородского разряда вместо указанного бралось по осьмине сухарей. Дворы участников похода от сбора освобождались.
22 августа «хлебный збор» было поручено ведать думном дворянину и печатнику Д. М. Башмакову в Печатном приказе.
28 августа по городам были отправлены грамоты (позднее рассылка неоднократно повторялась) с приказом собирать стрелецкий и запросный хлеб вместе и отвозить в назначенные пункты «с великим поспешанием». Пунктами сбора были назначены Ахтырка, Сумы, Хотмыжск, Смоленск и Брянск. Из Смоленска и Брянска провиант позднее планировалось спускать по Днепру и Десне к Сечи.
Для приема хлеба в соответствующие города были посланы эмиссары в чине стольника. Не сдавшим хлеб вовремя грозили батогами, соответствующие распоряжения были разосланы городовым воеводам.
Несмотря на это хлеб собирался медленно и правительство в специальном указе, оглашенном 13 февраля, грозило землевладельцам, чьи крестьяне не сдали хлеб, отпиской поместий и вотчин, а их приказчикам торговой казнью и ссылкой в Сибирь.
Необходимый расход хлеба на три месяца был определен в 42 500 четвертей (3 400 тонн)* - 30 000 четей сухарей, 5 000 четей муки, 7 500 четей круп и толокна. Для перевозки запаса в походе требовалось 11 667 подвод.
Общие цифры нарядов, как пишут авторы, неоднократно менялись, по последнему планировалось собрать в общей сложности 155 911 четей с осьминой хлебных запасов. Фактически было собрано более 135 000 четей (почти 11 000 тонн), т. е. почти 90% наряженного.
В Смоленске на 25 июня 1687 года общий запас достигал 30 674 четей муки и 9 628 четей круп и толокна; в Брянске (дата в росписи не указана) - 20 341 четей муки, 2 618 четей круп и 2 636 четей толокна; в Сумах на 10 апреля - 9 403 четей муки, 2 934 четей круп и толокна, 10 245 четей сухарей; в Ахтырке на 24 марта - 5 124 четей муки, 2 122 четей овсяных круп, толченого проса и толокна, 15 428 четей сухарей; в Хотмыжске на 10 апреля - 9 528 четей муки, 4 719 четей круп и толокна, 9 897 четей сухарей.
Для сплава хлеба водным путем в Смоленске и Брянске было указано делать струги (грузоподъемностью до 200 четей). Соответствующая повинность была возложена на население близлежащих городов (в обмен на освобождение от хлебного сбора) - Брянска, Белева, Болхова, Карачева, Орла и проч. Из Брянска в Киев 26 апреля на 127 стругах было отправлено 25 145 четей хлебных припасов, а из Смоленска 25 мая - 29 376 четей (на 177 стругах).
В целом, хлебных запасов было собрано с избытком и часть из них была использована во Втором Крымском походе.
В войска отправлялись и другие продовольственные припасы. Так, 27 января 1687 года в Ахтырку на жалованье служилым людям Большого полка (55 000 чел.) было отправлено 5 626 пудов соли, доставленной ранее из Нижнего Новгорода.
23 февраля в Ахтырку отправлено св. 1 863 пудов коровьего масла и 961 пуд снетков, в Сумы - св. 1 863 пудов коровьего масла, св. 1 007 пудов рыбьего жира, 664 пуда снетков и св. 449 пудов рыбьего кавардаку.
В Севске было приказано сделать по 1 000 ведер сбитня и уксуса, перец и солод для которых (по 10 пудов) высылались из Москвы, а мед (200 пудов) брался с местных дворцовых ухожаев и т. д.
Помимо продовольствия в полки собирались и другие припасы. Так, в марте 1687 года для Большого полка в городах Белгородского разряда было указано собрать деготь - по 8-вершковому (в Коротояке - 7-вершковому) ведру с 10 дворов и пеньку - по разным нормам. Всего было собрано почти 423 ведра дегтя и св. 237 пудов пеньки. Еще 133 ведра дегтя и 50 пудов конопляного холста было прислано харьковским воеводой.
Для обозных лошадей «которые бывают под шатровою казною и под нарядом и подо всякими припасы» в городах Белгородского и Севского полков было указано заготавливать сено - по два «зимних воза» с двора. Всего было заготовлено 140 817 возов** сена (116 427 в Белгородском и 24 390 в Севском полках).
Для организации торговли в полки направлялись члены Гостиной сотни. Так, в Большом полку «для купецких дел» велели быть Ивану Молявке.
* Четверть везде принимается 5 пудовая.
** Как отмечают авторы, неясно были ли эти возы реальными или являлись лишь некой счетной единицей.
4) Обоз
Под хлебные запасы Разряда и «под пушки и под полковые припасы, и под церковную утварь» Иноземского приказа 16 июля 1686 года было приказано мобилизовать лошадей «с телеги и с хомуты, и с узды, и с возжи, и с ужищи».
Лошади и телеги для Иноземского приказа закупались на деньги собранные «с татарских и с черемиских, и всяких ясачных людей, которые ведомы в Казанском приказе» - по 6 алтын 4 деньги (20 копеек) с каждого из 53 211 дворов. Всего было собрано 30 200 рублей, на которые приобретено ок. 4 300 подвод (считая по 6 руб. за лошадь и рубль за подводу).
Лошади и телеги для Разряда собирались за счет натурального сбора. 24 августа 1686 года подводной податью (лошадь с телегой с 5 дворов) были обложены служилые? люди отдельных городов (Тамбов, Верхний и Нижний Ломов и проч.) 19 сентября аналогичной податью (лошадь с телегой и подводчиком с 5 дворов) были обложены города Белгородского и Севского полков. Всего было собрано 11 311 подвод.
Вместе с подводами служилых людей и прочими походный обоз первого Крымского похода включал видимо не менее 20 000 повозок.
5) Деньги
Для обеспечения жалованьем участников похода 20 сентября 1686 года был объявлен единовременный денежный сбор. Исходя из предполагаемой численности участников похода (20 000 рейтар и копейщиков и 40 000 солдат и стрельцов) требовалось собрать от 560 до 700 тыс. рублей [100 тыс. начальным людям и на мелкие расходы, 300 или 400 тыс. на рейтар (при окладе в 15 или 20 руб. соответственно) и 160 или 200 тыс. на солдат и стрельцов при окладе в 4 или 5 руб. соответственно, см. ПСЗ)]. По указу со всех крестьянских и бобыльских дворов нужно было взять по рублю, с посадских - по полтине. С именитых людей Строгановых бралось 20 тыс. руб, а с торговых иноземцев - 2 тыс. руб.
Правительство пыталось добыть деньги и другими способами. Был организован обмен золотых на широко распространенные в Малороссии серебряные польские полтораки* (чехи, как они тут назывались) - к апрелю 1687 года выменяно 12,5 тыс. полтораков. Помимо этого, в Севске был налажен выпуск т. н. севских чехов - по образцу польских, [но с русским гербом и именами русских царей].
Общие результаты вышеуказанных мероприятий неизвестны, однако известны суммы направлявшиеся на жалованье участникам похода.
27 февраля 1687 года на жалованье служилым людям Севского и Белгородского полков, «которые должны быть в Большом полку, Новгородском и Рязанском разрядах» было выдано 80 000 руб. (53 000 из Новгородской чети и 27 000 из Печатного приказа).
10 марта на жалованье служилым людям выдано 32 000 руб. (19 000 из Большой казны и 13 000 из Печатного приказа).
17 апреля на жалованье служилым людям выдано 30 000 руб. (26 700 из Большой казны и 3 300 из Печатного приказа).
Помимо этого «на полковые расходы» кн. В. В. Голицыну в марте было послано 1 900 руб. и соболей на 1 000 руб.
Копейщикам и рейтарам перед походом была выдана половина жалованья (по 10 руб.), другую половину обещали дать «в полкех». Однако до конца похода денег больше не поступало и обещанных рейтарам денег не давали (как и кормовых денег начальным людям и солдатам).
Лишь 5 июля было приказано оправить в армию св. 62 361 руб. Фактически удалось собрать только 55 361 руб. с мелочью (Большая казна - 32 199,62 руб. и чехов на 271 руб., Новгородская четь - 10 000 руб., Большой дворец - 5 000 руб., Казанский дворец - 3 361,16 руб., Печатный приказ - 3 000, Сибирский - 1 000 руб.). Недостающие деньги было приказано добрать на местах - из Калуги и иных городов - 1 000 руб. и из Севска - чехов на 6 000 руб.
Всего в Большой полк за время кампании, по сохранившимся сведениям, было выслано ок. 200 000 рублей (почти 198 100 руб. и чехами на 1 100 руб.** с небольшим).
* У авторов - полугрошевики. Низкопробная серебряная монета достоинством в 1,5 гроша, примерно равная копейке.
** Так у авторов.
6) Сбор информации о маршруте
В процессе подготовки похода собиралась информация о его предполагаемом маршруте. Так, гетман Самойлович по просьбе Москвы прислал подробное описание пути на Крым, с указанием переправ и расстояний между пунктами - «Путь шествия в Крым». В нем особо отмечалось отсутствие между Ислам-Керменом и Перекопом и далее - между Перекопом и Ак-Мечетью (Симферополем) и Карасубазаром значимых источников воды и древесины.
Помимо этого в Москве имелось немало других описаний пути в Крым. Так, статейный список В. Тяпкина и Н. Зотова (1681 год) содержал не только подробное описание пути на полуостров, но и рекомендации военного характера.
Как отмечают авторы «русское правительство должно было прекрасно представлять себе трудности пути, которые могли ожидать войско, характер будущих боевых действий и могло по крайней мере частично к ним подготовиться».
Поход 1687 года
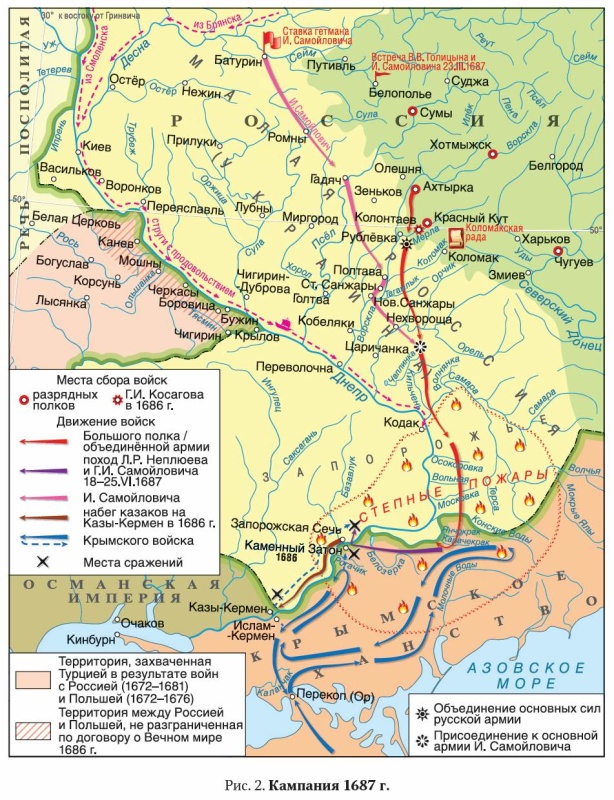
Официально целью войны объявлялось искоренение «басурманского гнезда», распространялись также слухи о намерении создать в крыму вассальное государство во главе с беглым имеретинским царем Арчилом. В реальности русское правительство похоже всерьез рассчитывало, что устрашенный грандиозной военной демонстрацией крымский хан пойдет на переговоры о мире с Россией и Польшей и даже перейдет в русское подданство.
Условия договоренностей с ханом должен был определить главнокомандующий, кн. В. В. Голицын, которому были предоставлены фактически неограниченные полномочия. Вопреки традиции, на отпуске у царей 20 февраля князь не получил даже официального наказа. Сложившаяся ситуация, впрочем, видимо смущала и самого князя и правительство и позднее Голицын все-таки получил сначала «тайный» (28 февраля)*, а затем и официальный (28 марта) правительственный наказ.
16 марта выехавший к войскам кн. В. В. Голицын встретился в Белополье (сотенный город Сумского полка) с гетманом Самойловичем. После совещания с гетманом датой выступления в поход было назначено 23 апреля. К крымскому хану решено было отправить посланца с обвинениями в нарушении мира и с предложением «исправиться» - заключив мир с царями и польским королем.
Как и планировалось, 23 апреля 1687 года передовые части Большого полка вышли в поход из Ахтырки. В тот же день из Батурина выступил гетман Самойлович. Полки русской армии должны были сойтись друг с другом у реки Мерло (Мерла), а с Самойловичем - дальше к югу.
2 мая из строя выбыл второй воевода Рязанского полка окольничий П. Д. Скуратов - упав с лошади, сломал бедро (несколько дней спустя скончался). На его место был назначен кн. Б. Е. Мышецкий.
9 мая Большой полк соединился с Новгородским и Рязанским южнее реки Мерло (по другим сведениям кн. Долгоруков соединился Голицыным еще седьмого числа). 16 мая был проведен смотр армии.
Армия двигалась в целом не быстро. Дополнительно замедлила ее марш царевна Софья, решившая поддержать главнокомандующего отправкой христианских святынь и символических даров. 8 мая в армию с Донской иконой Божией Матери и мощами св. Георгия был послан окольничий кн. В. Ф. Жирово-Засекин. Помимо иконы и мощей он вез также освященный «меч болшой»для В. В. Голицына и аналогичные мечи, палаши и сабли для гетмана Самойловича и прочих военачальников. В ожидании «посылки» Голицын вынужден был сдерживать продвижение войск, о чем неоднократно раздраженно писал в Москву. 27 мая кн. В. Ф. Жирово-Засекин наконец добрался до армии и 30 мая Голицын соединился с Самойловичем у реки Чаплинки.
4 - 7 июня соединенная армия переправилась через реку Самара. Переправа ознаменовалась скандалом - перешедшие речку первыми казаки Самойловича зачем-то сожгли мосты, замедлив продвижение войск и русские воеводы не преминули высказать претензии** гетману. У Самары же обнаружились и первые трудности с водой - войскам приходилось копать колодцы.
Противник все это время никак себя не проявлял. Лишь 3 июня шедшие на соединение с армией донцы и калмыки разбили у Овечьих вод большой разведывательный отряд крымцев (около 1 000 чел.), перебив будто бы 500 татар и взяв в полон 50. Два языка были доставлены к Голицыну. Позднее на Днепре люди Косагова, совместно с запорожцами, захватили 2 турецких ушкола, также взяв языков.
5 июня из лагеря на Самаре к хану с посланием был отправлен вышеупомянутый толмач Петр Хивинец. Послание содержало обвинения в нарушении мира, мучительстве послов и проч. При этом хану предлагали замириться, «наградив» Россию за «помянутые досады». 11 июня П. Хивинец наехал на передовые отряды татар у Перекопа. Встречен посланец был недружелюбно - к хану его не пустили, продержали под арестом до 6 июля и отпустили с ответным посланием лишь узнав об отходе русской армии.
Условия похода, тем временем, становились все более тяжелыми. 11 - 12 июня армия вышла к реке Конские Воды. Здесь обнаружилось, что степи южнее речки выжжены татарами. После бурного и бестолкового военного совета (по свидетельству Гордона «было много прений и мало здравомыслия») решили все же двигаться дальше.
15 - 16 июня страдающая от жары, пыли, нехватки воды и конских кормов армия вышла к реке Карачекрак. Произведенные разведки показали, что степь выжжена на десятки верст вокруг. Более того, догонявшие армию с севера свидетельствовали, что выжжены и значительные территории позади нее.
На новом военном совете, собранном 17 июня, было решено отвести армию севернее, в «места, где обыщутца конские кормы» и далее действовать по обстановке. Часть войск - усиленный другими частями Севский полк Л. Р. Неплюева и часть полков гетмана во главе с его сыном, Григорием Самойловичем, решено было послать к Каменному Затону. Соединившись с Косаговым Неплюев и Самойлович-младший должны были «промышлять» над
днепровскими крепостями «сухим и водяным путем».
В состав Севского полка Леонтия Неплюева к этому времени входило 11 московских чинов, 981 городовой дворянин и сын боярский, 401 копейщик, 2 734 рейтара, 4 216 солдат, 154 начальных людей полков нового строя и 502 севских казака и пушкаря (8 999 чел.). Он был усилен 2 солдатскими полками (5 130 чел.) и слободскими казаками (2 000 сумских, 1 500 харьковских и 500 ахтырских), вместе с которыми общая численность отряда достигала 18 129 человек.
С черниговским полковником Григорием Самойловичем были отправлены Черниговский, Переяславский, Миргородский и Прилуцкий полки, 2 полка сердюков, конный охотный полк И. Новицкого, глуховская сотня, «в которой бол-
ши 1 000 человек добрых», компания Г. Пашковского (500 человек), всего ок. 20 000 чел.
Вместе с отрядом Косагова (примерно 5 000 чел.) корпус Неплюева - Самойловича насчитывал св. 43 000 человек. Корпус сопровождал большой обоз с припасами - 554 подводы (6 296 четей сухарей, муки и круп - при месячной потребности примерно в 5 000 четей).
Выступив с Карачекрака 18 июня Неплюев и Самойлович в двадцатых числах июня с большим трудом добрались по выжженой степи до Каменного Затона. Здесь окончательно выяснилось, что план наступления на нижнеднепровские крепости невыполним - берега Днепра выжжены пожарами, а из плавсредств у Косагова имеются лишь небольшие лодки. Однако Голицын не желал отказываться от иллюзорной надежды добиться хоть какого-то успеха в ходе кампании и категорически требовал от воевод исполнения поставленной перед ними задачи.
Понукаемый Голицыным Неплюев в первых числах июля переправил большую часть сил на правый берег Днепра, оставив с Косаговым 5 солдатских и один рейтарский полк. В этот момент на сцене, наконец, появились татары.
Несмотря на отсутствие официального объявления войны крымский хан уже с зимы 1686 - 1687 гг. активно готовился к обороне, укрепляя Перекоп и собирая войска. К концу мая 1687 года Селим-Гирей стоял с армией у Перекопа, в июне откочевал на северо-восток, встав на Молочных водах и собираясь видимо дать бой Голицыну. Узнав об разделении русской армии и уходе части ее сил к Запорожью хан отошел к низовьям Днепра и 4 июля отправил к Каменному Затону большой отряд под командованием нураддина Азамат-Гирея (около 6 000 чел.). На рассвете 5 июля татары атаковали части Косагова, однако после затяжного боя были отбиты и отступили.
Отбившись от татар, Неплюев, Косагов и Самойлович встали лагерем на правой стороне Днепра, выше Сечи. Состояние их войск было скверным - они страдали от голода, болезней, конской бескормицы и растущего дезертирства. Так, по отписке Косагова, на 1 июля у него имелось 3 046 здоровых служилых людей, 794 человека были больны, 1 363 дезертировало, а 1 300 умерло.
Крымский нураддин Азамат-Гирей (с которым на этот раз было примерно 8 000 - 10 000 татар), тем временем, перевезся на правый берег Днепра у Ислам-Кермена и 17 июля вновь атаковал силы Неплюева-Самойловича - уже на правом берегу. До серьезного боя дело, впрочем, не дошло - все свелось к «травле» (стычкам небольших групп охотников). Русские потеряли убитым одного копейщика, татары возможно одного-двух человек. Крымцы при этом пытались агитировать против Москвы сечевиков и казаков Самойловича (последним стрелой послали подметный лист).
После боя нураддин отошел к Казы-Кермену и перевезся обратно на левый берег, а Селим-Гирей позднее ушел в Крым.
К концу июля упорствующий Голицын достиг, наконец, стадии принятия, 29 июля разрешив Неплюеву, Самойловичу и Косагову отойти к Кодаку***, а оттуда в Малороссию, где и распустить войска. Однако организованного отступления не получилось. Самойлович-младший, узнав о смещении отца, бежал с казаками на север, Неплюев бросился за ним, временно оставив Косагова у Запорожья. Однако люди Косагова, узнав о приказе Голицына, оставаться не захотели, взбунтовались и ушли самовольно (по результатам последовавшего розыска 167 человек было бито кнутом, а семерых вкинули в тюрьму в Путивле).
Тем временем, главные силы армии, начав отход 18-го числа, к 20 июню вышли к Конским Водам, где несколько дней стояли запасаясь конскими кормами. Затем отход был продолжен, 1 июля армия пришла на р. Самара и встала напротив Кодака, позднее отойдя к р. Орель, где были хорошие запасы травы, воды и леса.
12 июля в лагерь на Самаре явился с ответным посланием отпущенный крымцами Петр Хивинец. В переговоры с Голицыным (см. выше), на фоне фактического провала русского похода, крымцы вступать ожидаемо отказались, соглашась, впрочем, замириться на прежних условиях (поминки, годовые послы и проч.).
В Москву отписка Голицына с сообщением об отходе армии пришла 28 июня. 3 июля в армию был срочно отправлен один из ближайших помощников Софьи - Ф. Л. Шакловитый. Последний должен был «похвалять» Голицына, воевод и служилых людей за участие в походе, а также обсудить с главнокомандующим варианты дальнейших действий. Шакловитый прибыл в армию 13 июля и уже 16-го отправился обратно в столицу. Предлагавшиеся Москвой варианты продолжения кампании (снова идти к Перекопу, строить крепости на Самаре и Орели и проч.) Голицын отверг и после возвращения Шакловитого в столицу Москва официально признала неудачу экспедиции и санкционировала роспуск армии.
8 августа был проведен финальный смотр армии, а 15 августа она была официально распущена.
Боевых столкновений с противником армия в ходе кампании почти не имела (а основные ее силы не имели вовсе) и боевые потери были ничтожными. Потери небоевые (от жары, болезней и проч.) неизвестны, однако, по свидетельству участников похода были достаточно велики и могли составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Значительными были потери в конском составе.
Главным политическим итогом похода стало падение гетмана Самойловича, сделанного козлом отпущения за неудачу похода. 25 июля 1687 года Самойлович был смещен на собранной в Коломаке раде, новым левобережным гетманом стал пресловутый Иван Мазепа.
Для защиты границы на случай возможных крымских набегов кн. Голицыну было предписано после роспуска основных сил армии оставить часть войск на рубеже реки Мерло. Здесь была оставлена часть сил Рязанского полка кн. В. Д. Долгорукова (три рейтарских и три солдатских полка), вместе с опоздавшими на службу московскими и городовыми дворянами. Рейтарам за дополнительную службу было указано дать по 2 рубля, солдатам - рубль и хлебные запасы помесячно.
Корпус Долгорукова оставался на службе в августе-сентябре? и на 18 августа включал: 131 московского чина (89 из Большого полка и 42 из Новгородского), 183 городовых дворян (123 Большого полка, 60 - Рязанского), 2 709 рейтар и 2 249 солдат (в обоих случаях с начальными людьми), всего - 5 272 человека.
На время похода главной армии на Крым на Черте также были оставлены дополнительные силы для защиты от татарских набегов. Они включали остатки формирований Белгородского разряда и слободских казаков не ушедшие в поход с В. В. Голицыным, а позднее были усилены подкреплениями из Москвы и Низовых городов.
Всего в трех воеводских полках - белгородского воеводы кн. М. А. Голицына и его товарищей, боярина кн. М. Г. Ромодановского и думного дворянина А. И. Хитрово, предполагалось собрать до 21 000 служилых людей.
Служилые люди в полки кн. М. А. Голицына (Чугуев, по наряду ок. 10,5 тыс. чел.), кн. М. Г. Ромодановского (Царев-Борисов, позднее Маяцкий, по наряду ок. 7 тыс. чел.) и А. И. Хитрово (Валки, позднее Коломак, по наряду ок. 3,5 тыс. чел.) собирались медленно и плохо. Так, в полку Хитрового ко 2 августа имелось 2 087 чел. (включая отставших от главной армии В. В. Голицына), в полку кн. Ромодановского на момент роспуска (18 октября) - 4 837 чел. (бежавших со службы числилось 1 902).
Участвовать в боевых действиях этим войскам, впрочем, почти не пришлось. Татары беспокоили черту лишь в мае - июне, полностью разорив Райгородок и частично Черкасский городок на Изюмской черте и захватив полон и скот у Нового Перекопа и Валок.
Опосредованное вступление в Священную лигу и первый Крымский поход способствовали оживлению международных связей русского государства. В Пруссию, Англию, Голландию и Флоренцию отправились дипломаты с объявлением о Вечном мире и союзе с Речью Посполитой, призывом к борьбе с османами и просьбами о материальной поддержке. Русские послы были направлены в Вену и Венецию, Россия обменялась постоянными резидентами с Речью Посполитой и проч.
* Текст его в архивах не найден и известен по сообщению А. Х. Востокова.
** Как жаловался позднее сам Самойлович, первый воевода Новгородского полка боярин А. С. Шеин его «зело бесчестил» и даже называл изменником.
*** Здесь на острове посреди Днепра еще в начале лета? была устроена большая продовольственная база. Провиант со стругов (св. 26 000 кулей хлебных припасов и проч.), не имевших возможности преодолеть днепровские пороги, был перенесен в укрепленные городовой стеной амбары, охраняемые совместно русскими служилыми людьми и малороссийскими казаками. Летом 1688 года припасы были перевезены в новопостроенный Новобогородицк, а база ликвидирована.
Кампания 1688 года
скрытый текст
Русское правительство ожидало, что татары ответят на поход Голицына зимним набегом и зимой 1687 - 1688 годов воеводам Белгородского и Севского разряда было приказано вновь собрать войска.
Возглавлявший Белгородский разряд Б. П. Шереметев получил грамоту о сборе войск 7 января и уже 22 января выступил с собранными силами из Белгорода. Впрочем, уже 3 февраля, «уведомясь подлинно, что воинских людей в ближних местех нет и приходу их ныне под государевы украинные городы не будет» Шереметев вернулся в Белгород и 21 февраля распустил войска.
А. И. Хитрово 17 декабря 1687 года было приказано собирать войска в Хотмыжске. В Путивле собирал войска Севского разряда Л. Р. Неплюев (полки Хитрово и Неплюева также были распущены в конце февраля).
Как и летом, люди собирались медленно и плохо. У Шереметева к моменту роспуска было ок. 7,5 тысяч, к Хитрово явилось ок. 2,5 тысяч, к Неплюеву на 11 февраля - всего 1 341 человек.
Мазепа на случай татарского набега отправил на пограничье наемные полки, приказав быть в готовности городовым Миргородскому, Полтавскому, Переяславскому и Гадячскому.
Татары в итоге так и не явились и все эти хлопоты оказались напрасными.
Относительно планов кампании 1688 года в верхах видимо велись какие-то дискуссии, отголоски которых долетали до иностранных
Детально обсуждался другой план - наступления на нижнеднепровские крепости, по поводу чего велись переговоры и обширная переписка с Мазепой. Однако в итоге от наступательных операций было решено отказаться вовсе, ограничившись строительством на реке Самара новой русской крепости, Новобогородицка, опорного пункта для будущего наступления на Крым.
В поход к Самаре были отправлены Севский полк Л. Неплюева ( 4 рейтарских, 10 солдатских полков и слободские казаки Харьковского и Ахтырского полков, всего ок. 15 000 человек) и казаки Мазепы (выборные казаки Черниговского, Нежинского, Лубенского, Гадячского, Стародубского, Прилуцкого и Миргородского полков, а также конные и пешие наемные полки, всего св. 20 000 человек). Мазепе «для обережения» были посланы также два полка московских стрельцов.
23 мая 1688 года Неплюев выступил в поход из Рыльска. Мазепа, оправдываясь поздним приходом стрелецких полков, вышел из Батурина только 14 июня. 4 июля войска соединились на реке Коломак и двинулись к Самаре. Придя на место 12 июля, воеводы уже на следующий день приступили к строительству крепости, к 1 августа устроив земляные укрепления, а к 27-му августа - разнообразные внутренние постройки (избы для служилых людей, церковь, погреба и проч.). Строительство велось совместно силами русских служилых людей и казаков Мазепы.
Воеводой Новобогородицка был назначен боярин И. Ф. Волынский (до его прибытия гарнизоном командовал Г. Косагов). В крепости был оставлен гарнизон - по наряду августа 1688 года он должен был включать 4 491 человека (547 копейщиков и рейтар и 3944 солдат). Фактически имелось 4 014 человек (499 рейтар и 3 515 солдат) из севских солдатских полков полковника Юрия Шкота, подполковника Калистрата Данилова и полковника Федора Стремоухова и рейтарского полк Кашпира Гулица. К 1 декабря 1688 года численность гарнизона сократилась до 3 463 человек (489 рейтар и 2 974 солдата).
В Новобогородицке были собраны значительные запасы провианта. К 28 тысячам кулей перевезенным из Кодака (см. выше), в октябре добавилось 10 тысяч четей спущенных из Киева по Днепру и к концу года в крепости имелось более 37,4 тыс. четей хлебных запасов. Позднее предполагалось прислать в Новобогородицк еще 25 тыс. четвертей сухарей.
С октября 1688-го началось заселение посада Новобогородицка «охочими людьми». На жительство сюда назывались казаки и мещане Малороссии (жителей Слобожанщины принимать запрещалось), жившие, в целом, на правах обитателей слободских городов Белгородского разряда - как «в великоросийских слобоцких городех жители пребывают».
Отправляясь на Самару Мазепа, на случай возможных татарских набегов, мобилизовал Киевский, Миргородский, Переяславский и часть Стародубского полка прикрыв ими рубеж вдоль Днепра. По просьбе гетмана в Переяславль в июле был послан также полк С. П. Неплюева (1,5 тыс. служилых людей Севского разряда), простоявший в городе до конца августа.
Татары, в начале 1688 года границы почти не беспокоившие, к началу лета объявились на Изюмской черте, значительными силами (от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) атакуя ее городки. В связи с этим вновь был объявлен сбор войск Белгородского разряда. По наряду в трех полках разряда должно было быть собрано ок. 13 тыс. человек - 5 125 чел. в полку Б. П. Шереметева, 5 130 чел. - в полку А. И. Хитрово и 2 780 чел. в полку С. Б. Ловчикова.
Люди, как и зимой, собирались плохо и медленно. У Шереметева ко времени выступления из Белгорода (23 июля) было всего 2 036 чел., к 5 августа, на реке Коломак - 3 626 человек. В полк Хитрово (вышел из Курска 13 июля, встав в Хотмыжске, а позднее - в Валках) явилось всего 2 620 человек. В полку С. Б. Ловчикова (Чугуев) на момент роспуска (20 сентября) имелось чуть больше 1 200 человек.
Никакого участия в борьбе с татарами эти силы не приняли. Ничего не сделали для этого и стоявшие на Самаре Неплюев с Мазепой (видимо не желая привлекать внимания татар к строящемуся Новобогородицку) и вся тяжесть обороны черты легла на плечи харьковских и изюмских слободских казаков.
В июне - августе 1688 года татарами были разорены Бишкин и Савинский городки, Андреевы Лозы, Балаклея, нападениям подверглись Мерефа, Соколов, Змиев и проч.
Осенью 1688 года, видимо по рекомендации Москвы, желавшей продемонстрировать полякам исполнение союзных обязательств, Мазепой был организован набег на Очаков. В набег пошли 3 000 казаков Переяславского и 1 000 казаков Миргородского полка, усиленные наемными частями - 2 конными охотницкими и 2 пехотными полками.
Придя к Очакову в двадцатых числах октября казаки Мазепы сожгли городские предместья, разгромили вернувшийся из польско-венгерских земель ногайский загон, освободив 100-150 полонянников и благополучно вернулись домой.
Планировавшийся на ноябрь-декабрь набег в район Перекопа не состоялся из-за саботажа сечевиков.
Кампания 1688 года была для России «одновременно и передышкой после затратного и неудачного похода на Крым в предыдущем году, и временем подготовки к попытке нового броска на Перекоп в начале следующего».
Польские союзники, взаимодействие с которыми по-прежнему было почти нулевым и в этом году никаких успехов не добились, малоудачно действуя в Подолии.
На западном фронте австрийцы очистили от османов Венгрию и взяли Белград, а венецианцы овладели Мореей и Афинами. Однако осенью 1688 года Франция вторглась в Пфальц, начав войну за Пфальцское наследство (она же война Аугсбургской лиги и проч.) и в феврале 1689 года Габсбурги вынуждены были начать переговоры о мире с турками (к успеху, впрочем, не приведшие).
Узнав о начале переговоров, Москва направила своего представителя в Вену - для участия в переговорах. Официально Россия собиралась добиваться присоединения Крымского полуострова и Азова к России, выселения всех татар, а также обитателей Азова и окрестностей в Турцию, разрушения османских крепостей в низовьях Днепра и Очакова, освобождения всех русских пленных и контрибуции размером в 2 млн золотых. Программа-минимум была куда скромнее и включала лишь отмену поминок, прекращение татарских набегов, возобновление права свободной рыбной ловли и добычи соли запорожскими казаками в низовьях Днепра.
Крымский поход 1689 года
скрытый текст
Подготовка похода
1) Сбор войск
Царский указ о втором походе на Крым был объявлен с Постельного крыльца 19 сентября 1688 года. 20 сентября в Разряд и другие приказы были посланы памяти о сборе войск - «против наряду 195-го году опричь тех, которые в прошлом во 196-м году и в нынешнем во 197-м году были на их великих государей службе в Белегороде и в походе на Коломку в полку з боярином и воеводами з Борисом Петровичем Шереметевым с товарыщи, с околничим
и воеводами с Леонтьем Романовичем Неплюевым с товарыщи».
28 сентября грамоты с объявлением о походе были разосланы в города.
28 - 29 октября были утверждены воеводы разрядных полков и установлены места и сроки сбора войск. Большой полк на этот раз должен был собираться в Сумах, Новгородский - в Рыльске, Рязанский - в Обояни, Севский - в Межириче, Низовой - в Чугуеве (позднее - в Харькове). Сроками сбора назначались 1 и 10 февраля (так в тексте), последним сроком - 20 февраля.
Сроки сбора войск на Белгородской черте (позднее Казанского полка) устанавливались отдельно и несколько раз менялись. 21 ноября служилым людям было приказано собраться к 1 мая (последний срок - 9 мая). 12 января 1689 года для сбора были указаны общие февральские сроки и т. д.
1 декабря в города были отправлены «высыльщики» - дворяне и стольники с денежным жалованьем.
10? февраля кн. В. В. Голицыну был дан наказ, составленный в целом в духе предыдущего и наделяющий князя широчайшими полномочиями.
Командование большой армии в финальном варианте выглядело следующим образом:
— Большой полк: боярин кн. В. В. Голицын, стольник кн. Я. Ф. Долгоруков, окольничий В. А. Змеев, думный дьяк Е. И. Украинцев, дьяки Е. Полянский, К. Алексеев, Г. Посников, Е. Чорной;
— Новгородский полк: боярин А. С. Шеин, стольник кн. Ф. Ю. Барятинский, дьяки А. Яцкий и Г. Молчанов;
— Рязанский полк: боярин кн. В. Д. Долгоруков, стольник В. Я. Хитрово, дьяки В. Макарьев и А. Хрущов;
— Севский полк: боярин Л. Р. Неплюев, думный дворянин Г. И. Косагов, дьяк П. Исаков;
— Низовой полк: окольничий И. Ю. Леонтьев (19 февраля сменен стольником В. М. Дмитриевым-Мамоновым), дьяк П. Тютчев;
— Казанский полк: боярин Б. П. Шереметев, думный дворянин А. И. Хитрово, дьяк Л. Судейкин.
Воеводами у большого наряда были те же М. П. и И. М. Беклемишевы.
Воеводы прочих разрядных полков писались «сходными товарищами» главнокомандующего кн. В. В. Голицына. «В сходе» с ним писались и воеводы южных городов - Новобогородицка (И. Ф. Волынский), Киева (кн. М. Г. Ромодановский), прочих малороссийских городов и городов Белгородского разряда.
Авторы приводят также наряд армии направлявшейся во второй поход (видимо на 10 февраля 1689) - исправленный вариант опубликованного Н. Г. Устряловым. Из-за повреждений текста источников цифры местами условные и бьются не везде.
Большой полк: московские чины и приравненные к ним новокрещены и кормовые иноземцы; дворяне и дети боярские Замосковных, Заоцких, Украинных городов и Белгородского разряда; 2 полка копейщиков; 9 рейтарских полков; 2 выборных полка; 6 стрелецких полков; 11 солдатских полков; слободские казаки Сумского, Харьковского и Ахтырского полков.
1) Воеводский полк кн. В. В. Голицына:
— 3 274 московских чина (1 068 стольников, 645 стряпчих, 760 дворян, 801 жилец)
— 100 новокрещенов и кормовых иноземцев
— 673 чел. полка смоленской шляхты (смоленская, рославльская, бельская шляхта)
— 2 921 копейщик Московского полка Григория Шишкова ( 1 408) и Белгородского полка Василия Братцева (1 513)
— 4 024 рейтар Московского полка генерал-поручика Ивана Лукина (1 405), Тульского полка Петра Рыдара (905), Ярославского полка Андрея Гулица (964), и Cмоленского полка Богдана Корсака (750)
— 10 375 выборных солдат полков думного генерала А. А. Шепелева? - в наказе не указан (7 132) и генерал-поручика П. Гордона (3 243)
— 4 305 стрельцов московских полков Ивана Цыклера (1 000), Бориса Головнина (803), Семена Резанова (914), Сергея Сергеева (802) и белгородского полка [в тексте - приказа] Данилы Юдина (786)
— 4 022 солдата Белгородского полка генерал-майора графа Давида фон Граама / Давыда Вилгелма (1 277), Яблоновского полка Вилима Фанзалена (890), Курского полка Александра Ливенстона (1 855)
— 6 000 слободских казаков Сумского полка А. Кондратьева (из 8 800 имевшихся в полку)
Всего: 35 694 человека
2) Воеводский полк кн. Я. Ф. Долгорукова:
— 311 городовых дворян и детей боярских Замосковных, Заокских и Украинных городов
— 1 882 рейтара Можайского полка Николая Фанвердина (965) и Мценского полка Ицыхеля Буларта (917)
— 709 стрельцов московского полка Бориса Щербачева
— 3 824 солдата Ефремовского полка Юрия Фамендина (1 464), Добринского полка Александра Форота (1 267) и Мценского полка Петра Эрланта (1 093)
— 4 000 слободских казаков Ахтырского полка полковника И. Перекрестова (из 5 096 имевшихся в полку)
Всего: 10 726 человек
3) Воеводский полк В. А. Змеева:
— 289 городовых дворян и детей боярских городов Белгородского разряда (50 завоеводчиков, 40 есаулов и 199 полковой службы)
— 1 703 рейтара Белгородского полка Данилы Пулста (1 023) и Лихвинского полка Ивана Фанфеникбира (680)
— 4 464 солдата Ливенского полка Андрея Шарфа (1 571), Елецкого полка Франца Лефорта (1 796) и Усманского полка Гаврилы Фантурнера (1 097)
— 4 000 слободских казаков Харьковского полка Г. и К. Донцов (из 7 557 имевшихся в полку)
Всего: 10 456 человек
4) Воеводский полк Г. И. Косагова:
— 915 рейтар Курского полка Ивана Гопта
— 21 курский калмык-новокрещен
— 2 462 солдата Старооскольского полка Петра Гасениуса (1 292) и Хотмыжского полка Якова Эрнеста (1 170)
Всего: 3 398 человек
Всего в Большом полку:
— 3 274 московских чина
— 100 новокрещенов и кормовых иноземцев
— 673 чел. полка смоленской шляхты
— 621 городовой дворянин (включая курских новокрещенов)
— 2 921 копейщик
— 8 524 рейтара
— 10 375 выборных солдат
— 5 014 стрельцов
— 14 772 солдата
— 14 000 слободских казаков
Итого: 60 274 человека
Севский полк: московские чины; дворяне и дети боярские Северских городов; донские казаки Белгородского разряда и севские казаки и пушкари; копейная шквадрона и 2 рейтарских полка; 5 солдатских полков
Всего:
— 13 московских чинов (стольник, жилец и 11 дворян)
—861 дворянин и сын боярский Северских городов
— 2 959 копейщиков и рейтар копейной шквадроны майора Григория Веревкина (393), Брянского полка генерал-майора Андрея Цея (1 285) и Белевского полка Томаса Юнгора (1 281)
— 3 422 солдата Рыльского полка Федора Стремоухова (622), Белевского полка Франца Фангольстена (668), Путивльского полка Юрия Шкота (745), Орловского полка Константина Малеева (625) и Брянского полка Тимофея Фандервидена (762)
— 386 прочих (361 севский полковой казак, 24 пушкаря и кузнеца и некий белевец)
— 223 донских казака Белгородского разряда
— 424 белгородских солдата (которые в 1688 году в полку Л. Р. Неплюева в Новобогородицке «не были, а были в домех», ныне им велено быть в Севском разряде)
Итого: 11 288 человек
Низовой полк: дети боярские, стрельцы, казаки, служилые иноземцы и новокрещены Низовых городов, гребенские и яицкие казаки и проч.
Всего:
— 124 чел. дворян и детей боярских (вместе с уфимскими стрелецкими сотниками)
— 118 иноземцев и новокрещенов (83 + 35)
— 734 конных стрельца (492 астраханских, 96 из Саратова, 97 из Уфы и 49 самарских)
— 101 конный уфимский казак
— 98 гребенских и 150 яицких казаков
— 122 прочих - терских окоченов (16) и узденей (13), астраханских ногайских мурз и табунных голов (43) и уфимских мещерян (50)
Итого: 1 447 человек (по городам: Астрахань - 552, Уфа - 352, Терки - 313, Cаратов - 108, Самара - 117, Царицын - 5).
Новгородский полк: московские чины и кормовщики; дворяне и дети боярские рязанских городов; гусарский полк и полк копейщиков; 6 рейтарских полков; 2 московских и 2 смоленских стрелецких полка; 6 солдатских полков.
1) Воеводский полк А. С. Шеина:
— 79 московских чинов (7 стольников, 8 стряпчих, 47 дворян, 17 жильцов)
— 561 гусар и копейщик гусарского полка Михаила Челищева (247) и копейного Ивана Лопухина (314)
— 4 307 рейтар Новгородского полка генерал-поручика Афанасия Траурнихта (1 477), Псковского полка Михаила Зыкова (967), Великолуцкого полка Вилима Лексина (860) и Обоянского полка Ивана Барова (733)
— 1 609 московских стрельцов полков Родиона Остафьева (700) и Ильи Дурова (909)
— 3 453 солдата и стрельца Новгородского полка Михаила Вестова (642), Псковского полка Федора Зборовского (832), Владимирского полка Варфоломея Ронорта (1 009) и двух полков смоленских стрельцов (по 485, полковники не указаны)
— 262 московских кормовщика из Большого полка
— 952 «москвич» [московских чинов?] написанных «вместо новгородцов и иных городов полковые службы»
Всего: 10 983 человека
2) Воеводский полк кн. Ф. Ю. Барятинского:
— 144 чел. дворян и детей боярских «резанских городов»
— 1 601 рейтар Казанского полка Захария Кро (849, в т. ч. 105 копейщиков) и елецкого полка Ивана Гулица (752)
— 3 378 солдат и стрельцов Великолуцкого полка Христофора Кро (872), Костромского полка Матвея Фливерка (1 119) и Смоленского полка Павла Менезия (1 387)
Всего: 5 123 человека
Всего в Новгородском полку:
— 1 031? московский чин (79 + 952)
— 262 московских кормовщика
— 144 чел. городовых дворян и детей боярских
— 561 гусар и копейщик (с казанскими - 666)
— 5 908 рейтар (без казанских копейщиков - 5 803)
— 1 609 стрельцов (со смоленскими - 2 579)
— 6 831 солдат (без смоленских стрельцов - 5 861)
Итого: 16 106 человек
Рязанский полк: дворяне и дети боярские Низовых городов и Рязани, казанские служилые иноземцы и новокрещены; 5 рейтарских полков; 2 стрелецких полка; 6 солдатских полков.
1) Воеводский полк кн. В. Д. Долгорукова:
— 682 чел. дворян и детей боярских Низовых городов (523) и Рязани (159)
— 2 673 рейтара Рязанских полков Федора Коха (966) и Ягана Вреда (1 040) и Ряжского полка Дорофея Траурнихта (667)
— 1 677 стрельцов полков Сергея Головцына (967) и Василия Боркова (710)
— 3 876 солдат Рязанского полка Василия Нилсона (669), Ряжского полка Николая Балка (1 900) и Козловского полка Мартина Болдвина (1 307)
Всего: 8 908 человек
2) Воеводский полк А. И. Хитрово:
— 266 казанских иноземцев старого и нового выезда и новокрещен
— 2 224 рейтара Нижегородского полка Ивана Кулика Дорогомира (641) и некоего (текст источника поврежден) полка Белгородского? разряда (1 583)
— 3 110 солдат Тульских полков Ивана Францбекова (618) и Григория Буйнова (711) и Касимовского полка Якова Ловзына / Ловзина (1 781)
Всего: 5 600 человек
Всего в Рязанском полку:
— 948 городовых дворян, детей боярских, иноземцев и новокрещенов
— 4 897 рейтар
— 1 677 стрельцов
— 6 986 солдат
Итого: 14 508 человек
Всего в армии по наряду: 103 623 человека.
Часть войск предполагалось оставить на Белгородской черте для защиты от татар. По «Росписи рейтарских и салдацких полков и иных чинов ратным людем, которых ныне велено выслать на службу великих государей на черту» от 28 декабря 1688 года, с белгородским воеводой Б. П. Шереметевым должны были остаться 4 рейтарских (М. Болмана, Д. Цея, И. Гопта, Христофора Ригимона) и 5 солдатских (Я. Ловзына, Ю. Литензона, Е. Липстрома, А. Девсона и П. Гасениуса) полков.
Позднее большую часть войск Шереметева было решено также отправить в поход на Крым и на их основе был создан новый Казанский разрядный полк. Первым воеводой полка стал Б. П. Шереметев, вторым - переведенный из Рязанского полка А. И. Хитрово. Состав Казанского полка известен по перечневой росписи на момент выступления из Белгорода (конец марта 1689 года). Он включал:
— 5 московских чинов (2 стряпчих, 3 жильца)
— 153? чел. казанских дворян, детей боярских и иноземцев
— 3 128 рейтар в полках М. Болмана (703), Д. Цея (597), И. Гопта (1023) и Х. Ригимона (805)
— 928 солдат в полках Я. Ловзина (3 начальных человека), Ю. Литензона (5 начальных людей), Ефимия Липстрома (7 начальных людей), А. Девсона (278) и П. Гасениуса (635)
— 786 чел. «очередной» половины солдат и драгун белгородских городов
Всего: 5 009 человек
Не явилось к этому времени на службу 9 815 человек, в т. ч. 531 московский чин (114 стольников, 163 стряпчих, 9 дворян, 245 жильцов), 1 941 чел. городовых дворян и детей боярских «розных городов» и стрелецкий полк Семена Кровкова (620 человек) - из Батурина. Таким образом, общая численность полка по наряду должна была составлять 14 824 человека.
Позднее фактическая численность полка видимо выросла за счет подтянувшихся опоздавших, а в состав его были видимо включены новые части - в списках потерь полка по итогам кампании, помимо указанных (включая стрелецкий полк Кровкова) фигурируют еще и солдатский полк Б. Беника и копейная шквадрона Александра Шарфа.
Создание Казанского полка привело к ликвидации воеводского полка Г. И. Косагова, у которого забрали большую часть людей. Сам Косагов позднее значился товарищем Л. Р. Неплюева, первого воеводы Севского полка.
Общую нарядную численность армии Голицына авторы определяют в 117 532 человека, прибавив к числу людей в других разрядных полках число людей Казанского, с вычетом из него полка И. Гопта (915 человек) «который уже учтен в составе воеводского полка Г. И. Косагова».
[Непонятно почему при этом не вычтены также полки Петра Гасениуса (1 292) и
Якова Ловзына / Ловзина (1 781) уже учтенные по Большому (с Косаговым) и Рязанскому (с Хитрово) полкам. Без них общая численность армии составит 114 459 человек].
Артиллерия главной армии насчитывала ок. 350 орудий.
Фактическая численность армии кн. В. В. Голицына неизвестна - ее перечневые росписи в архивах не найдены. Известны лишь отрывочные данные по московским чинам и перечневая роспись Новгородского полка.
Новгородский полк по итогам смотра 24 апреля 1689 года включал:
— 594 московских чинов (33 ротмистра, поручика и хорунжих, 92 стольника, 167 стряпчих, 91 дворянин, 211 жильцов)
— 542 гусара и копейщика (232 + 310)
— 4 521 рейтара
— 189 начальных людей гусарского, копейного и рейтарского строя
— 1 618 московских стрельцов (с 22 начальными людьми)
— 999 смоленских стрельцов (с 15 начальными людьми)
— 5 589 солдат (со 173 начальными людьми)
Всего: 14 052 человека (недобор - 13%).
Московских чинов по росписи от 17 марта 1689 года имелось, в Большом полку - 3 486 (1 211 стольников, 611 стряпчих, 695 дворян, 969 жильцов), в Новгородском полку - 892 (168 стольников, 254 стряпчих, 120 дворян, 350 жильцов), в Рязанском полку - 63 (14 стольников, 22 стряпчих,
12 дворян, 15 жильцов), итого - 4 441 человек (еще 653 московских чина оставались на черте).
Как указывают авторы, по изначальному наряду в Большом полку должно было служить 3 274 московских чина (с Севским полком - 3 287) и в Новгородском - 79, т. е. явка сильно превысила план. [С учетом 952 «москвич» (если под ними подразумевались московские чины), по наряду Новгородского полка заменяющих в нем новгородцев общий наряд возрастает до 4 318 человек и превышение наряда становится уже не столь значительным].
Позднее, как указывается, цифры наряда по московским чинам были увеличены, для Большого полка составив 4 139 чел. (1 209 стольников, 740 стряпчих,
1 034 дворян, 1 156 жильцов) и, следовательно, на 17 марта имелся даже недобор примерно в 15%. При этом на службу явилось много людей сверх списка - не менее 652 человек.
В целом, как отмечают авторы, можно «осторожно предположить, что неявка на службу была вполне сравнима с первым Крымским походом, и общая численность выступившей против ханских войск армии более-менее соответствовала количеству тех войск, которые отправились в поход два года назад».
8 февраля в Разряд были присланы назначенные в поход (в Большой, Рязанский и Новгородский полки) медики - всего 25 человек, в т. ч. доктор Андрей фан Келлерман, лекари-иноземцы Яган Термант (Термонт), Андрей Бекер, Адольф Эвенгагин, Александр Квилон, Яган фохт Диштинларт, Роман Шлятор, русские врачи «чепучинного дела» Артемий Петров, Кузьма Семенов, Василий Подуруев, Андрей Харитонов, Еким Алексеев, Данило Лебедев, Фрол Семенов, Алексей Григорьев, Яков Иванов, Тимофей Петров, Роман Гарасимов, врачи-«костоправы» Иван Федоров и Алексей Феофанов и др.
25 февраля к ним добавился лекарь Христофор Карстен.
Медики были приписаны к полковым разрядным шатрам.
Как и в первом походе к Большому полку были приписаны и дипломаты / переводчики Посольского приказа. Упоминаются переводчики Польского приказа Сулейман Тонкачеева и Петра Татаринов и толмач Полиевкт (Полуект) Кучумов.
2) Прочие приготовления
Как уже отмечалось, запасы провианта для первого похода в Крым были собраны с излишком и значительная их часть продолжала храниться на складах. К осени 1688 года в Ахтырке, Сумах и Хотмыжске имелось ок. 17 853 четвертей хлебных припасов (7 420,5 четверти муки, 7 234,5 четверти сухарей, 1 853,5 четверти толокна, 1 344 четверти «с получетвериком» круп), св. 1 909 пудов соли и проч.
Помимо этого, значительные запасы хлеба имелись и в других местах. Так, в Киеве на 10 февраля 1689 года (после отсылки 10 или даже 15 тыс. четей в Новобогородицк) оставалось св. 12 825 четей хлебных припасов («брянской присылки» 1687 года и купленных на месте) и 5 822 куля овсяных круп и толокна смоленской присылки 1687 года, т. е. всего (если кули были четвертные) примерно 18 647 четей.
Производились ли новые хлебные сборы для армии неясно (авторы ничего на этот счет не пишут), однако заготовки других продуктов делались по нормам первого похода. Так, в городах Белгородского и Севского разряда вновь собирались смола, пенька, деготь и сено. Последнего полагалось заготовить 23 688 возов. В пункты сбора полков высылались соль, коровье масло, снетки, рыбий жир, рыбий кавардак, уксус и сбитень. Всего в Сумы, Рыльск и Обоянь полагалось выслать 24 577 четей сухарей, 6 000 пудов соли, 3 000 пудов коровьего масла, 2 000 пудов рыбьего жира, 1 000 пудов кавардака, 1 000 четей снетков и по 1 000 ведер уксуса и сбитня.
Огромные запасы провианта были сосредоточены в Новобогородицке. По расчетам Разрядного приказа к 1 сентября 1689 года здесь (после выдачи жалованья гарнизону и разовой дачи армии Голицына), должно было оставаться еще почти 57 000 четвертей хлебных припасов (более 29 тыс. четвертей муки, почти 25 тыс. четвертей сухарей, около 1,6 тыс. четвертей толокна, около 1,2 тыс. четвертей круп).
Для обеспечения войск жалованьем 1 ноября 1688 года был издан указ о новом чрезвычайном денежном сборе - аналогичном сбору 1686 года. Деньги полагалось собрать к 6 января 1689-го. В феврале 1689 года в армию было выслано 55 321 рубля, в марте - еще 22 000 руб.
Для обеспечения переправы армии через Самару в Новобогородицк заранее были посланы 7 «струговых мастеров» (они же «карбасные плотники») из северных уездов, делавших здесь карбасы (5-6 сажен длиной, вместимость 15-30 человек).
Учтя опыт прежнего похода русское командование приняло меры для борьбы со степными пожарами. Начиная с сентября 1687 года русские служилые люди и казаки Мазепы систематически выжигали сухую траву в степях, дабы минимизировать риски в ходе самого похода.
Был также скорректирован маршрут похода, в первую очередь за счет финальной стадии - между Карачекраком и Перекопом, с целью минимизировать проблемы с водой и конскими кормами.
В целом, как отмечают авторы: «подготовительные и организационные усилия русского правительства по организации второго Крымского похода следует оценить весьма высоко». Русская «военно-бюрократическая машина не только смогла повторить масштабные организационные шаги двухлетней давности, мобилизовав огромные запасы продовольствия, фуража, транспортного скота и др., но и учесть опыт предыдущей экспедиции», обеспечив ранний сбор войск, организовав передовую базу снабжения в Новобогродицке, приняв меры по борьбе со степными пожарами и скорректировав маршрут похода.
Поход 1689 года
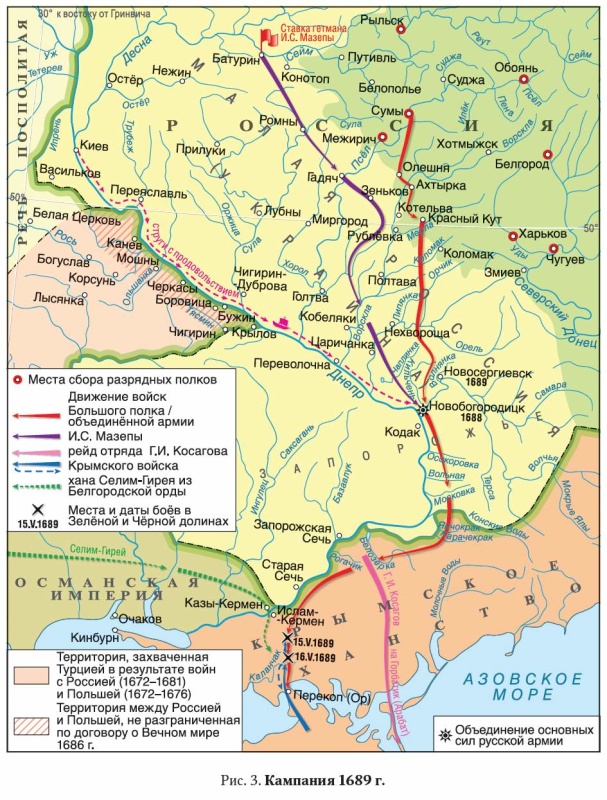
На этот раз войска в целом удалось собрать к намеченному сроку. 27 февраля на встрече Голицына и Мазепы в Севске поход было решено начать 17 марта.
17 марта кн. Голицын выступил из Сум (большая часть его войск к этому времени видимо располагалась уже в районе Ахтырки). 26 марта передовые отряды Большого полка двинулись из Ахтырки к Красному Куту.
Зима в этом году задержалась и в начале похода войска страдали сначала от морозов, а затем от распутицы. По словам самого Голицына из Ахтырки «шли с великим трудом, за великими грязьми и за располнением малых речек». Разлившиеся реки задерживали движение войск и к Красному Куту Большой полк пришел лишь 4 апреля, соединившись здесь с Севским полком Л. Неплюева.
8 апреля, дождавшись в лагере у реки Мерло подхода отставших частей, Голицын продолжил поход. Соединиться с войсками Мазепы изначально планировалось у реки Коломак, однако гетман из-за распутицы запаздывал и ждать его Голицын не стал, двинувшись к Новобогородицку.
13 апреля у реки Орель с основными силами соединился полк Шереметева вышедший из Белгорода 26 марта.
20 апреля Голицын пришел к Новобогородицку. Сюда же позднее подошли оставшиеся разрядные полки и войско Мазепы (ок. 40 000 человек).
У Новобогородицка был проведен смотр армии, войскам роздано денежное и хлебное жалованье.
На состоявшемся 24 апреля военном совете новобогородицкого воеводу боярина И. Ф. Волынского было решено оставить в верховьях Самары со сводным отрядом - на случай татарских набегов. В отряд Волынского включались дети боярские из Новгорода и Пскова и служилые люди опоздавшие в главную армию (прибывшие к Самаре после 29 апреля).
С 10 апреля по 23 мая в полк к Волынскому прибыло 317 московских чинов (139 стольников, 45 стряпчих, 15 дворян, 118 жильцов), 503 человека новгородцев, псковичей «и иных городов дворян и детей боярских», 13 «началных людей рейтарского строю и салдатцкого», 136 рядовых копейщиков и рейтар, 1 544 человека «салдат, стрельцов, казаков, пушкарей и пушкарского чину людей», всего 2 513 человек.
Из числа прибывших солдат 724 человека по приказу Голицына отослали в Переяславль и на замену им Волынский временно взял 400 рейтар и 326 солдат из гарнизона Новобогородицка. К концу мая в отряде Волынского имелось 2 515 человек.
26 апреля армия (к этому времени стоявшая в 15 верстах от Самары, у реки Татарки) продолжила поход к Перекопу. 2 мая Голицын вышел к Конским Водам, а 4 мая - к Карачекраку. 7 мая армия достигла реки Белозерки и видимо отсюда в набег на Арабатскую стрелку был послан отряд Г. Косагова (см. ниже).
От Белозерки армия двинулась далее, держась ближе к Днепру и, не доходя до Ислам-Кермена, повернула к Перекопу, 14 мая встав лагерем в Зеленой долине. Особых трудностей со снабжением она на этом этапе похода не испытывала.
Татары вблизи русских войск начали появляться начиная с 12 мая, 15 мая выступившая из лагеря в Зеленой долине армия была атакована татарами.
Крымский хан Селим-Гирей, вместе с калгой и нураддином зимовал в Белгородской орде. Весной 1689 года (первая половина апреля?), узнав о готовящемся русском походе Селим-Гирей отправил в Крым калгу и нураддина , занявшихся сбором войск у Перекопа, а сам вернулся лишь во вторую неделю мая, присоединившись к армии непосредственно перед столкновением с русскими.
Бой 15 мая (Зеленая долина) свелся видимо к серии конных стычек. Русская армия двигалась обозом / табором / вагенбургом, а татары на протяжении нескольких часов пытались прощупать ее боевые порядки, «травясь» с русской конницей. Наиболее жарко видимо было на участке Новгородского полка, понесшего в этот день наибольшие потери.
16 мая (Черная долина) бой возобновился и принял куда-более ожесточенный характер. На этот раз крымцы большими силами пытались прорвать строй вагенбурга на разных участках. Татарам удалось загнать русскую конницу внутрь обоза, однако строй его они прорвать нигде не могли. Слабое место в итоге обнаружилось на участке Сумского и Ахтырского слободских полков, шедших в арьергарде Большого полка. Ворвавшиеся в обоз татары были однако отброшены огнем частей Рязанского полка и казаков Мазепы. Жарко было видимо и на участке Казанского полка, понесшего в этот день значительные потери (в основном ранеными от стрел). За день русские с боем прошли 9 верст.
17 мая русская армия возобновила движение, поставив, на этот раз, конницу внутрь вагенбурга. Татары кружили вокруг армии, однако попыток прорвать ее строй больше не предпринимали и дело свелось к перестрелкам.
Убедившись, что не может не только разбить, но даже и остановить русскую армию, Селим-Гирей ушел в Крым и встал за Перекопом.
Потери русских в боях 15-17 мая были относительно небольшими (серьезные потери понесли только слободские казаки). Потери татар неизвестны «однако они, как представляется, должны были быть значительными». В Крыму ходили слухи о ранении самого хана, ранении или гибели его сына, ранении или гибели нураддина и других знатных татар. «Не исключено, что крупные потери татар стали одной из причин формирования героического нарратива об упорном и кровавом сражении в Черной долине».
Не встречая больше сопротивления, 20 мая русская армия вышла к Перекопу, встав здесь лагерем. Между Каланчаком и Перекопом совсем не было воды и конских кормов и вариантов, как отмечают авторы, у Голицына было два - брать штурмом Перекоп и прорываться в Крым [где между Перекопом и крымским предгорьем его ждали такие же безводные и бесплодные степи], либо отойти в более безопасное место с расчетом на начало переговоров. Вариант со штурмом видимо рассматривался - еще 10 мая у р. Рогачик были заготовлены колья и прутья для туров, придя к Перекопу Голицын (вместе с Мазепой и проч.) провел рекогносцировку крепости и т. д., однако в итоге был избран второй вариант.
Первый контакт с крымцами был установлен еще 17 мая (как отмечают авторы - по инициативе татар), 20 мая в русский лагерь у Перекопа прибыл представлявший хана Кеман-мурза Сулешев. Голицын объявил Сулешеву русские условия: 1) освобождение всех находившихся в ханстве русских пленных; 2) прекращение крымских набегов на российские и польские территории; 3) отказ Крыма от получения с России ежегодной казны (поминок). Помимо этого хану видимо предложили и переход в русское подданство.
21 мая русская армия отошла от Перекопа, встав новым лагерем в такой же безводной степи. В тот же день сюда явился Кеман-мурза Сулешев, принесший ответ на предложения Голицына. Все они были отвергнуты, мириться хан был готов лишь на условиях Бахчисарайского мира. Голицын выразил готовность пойти на уступки, ограничившись требованием отказа от поминок и от набегов на «украйные и полские городы», однако крымцы вновь ответили отказом.
Провал переговоров и быстро ухудшающаяся ситуация со снабжением войск вынудили Голицына отдать приказ об отходе. С большим трудом, теряя обозных и артиллерийских лошадей, армия вернулась назад к Днепру у Ислам-Кермена и двинулась вверх по реке, к 1 июня встав лагерем на Белозерке.
Селим-Гирей шел вслед за отступающей русской армией, но убедившись что она не собирается штурмовать днепровские городки, повернул обратно в Крым, позднее (осень 1689-го) отправившись на помощь к туркам.
11 июня армия была уже у Новобогородицка, 23 июня у реки Коломак (где от нее отделился Мазепа). 28 июня было объявлено о роспуске армии.
Отряд Г. И. Косагова посланный в набег на Арабатскую стрелку включал 3 000 выборных казаков Лубенского полка (полковник Л. Н. Свечка) из войска Мазепы и харьковских и изюмских* слободских казаков полковников Григория и Константина Донцов (ок. 4 000? чел.). Задачей Косагова было видимо произвести демонстрацию, прорвавшись в Крым, оттянув на себя часть сил татар и посеяв панику среди населения.
14 мая отряд подошел к Тонким водам (пролив между Арабатом и материком в районе современного Геническа) и переправившись на косу вскоре вышел к крепости Арабат (Горбатик). Последняя была построена в середине XVII века для защиты от казацких набегов и перекрывала проход с косы на полуостров. К 1689 году ее укрепления состояли из рва соединявшего Сиваш и Азовское море, вала с каменной стеной и 4 башнями и старого «замка» (большой каменной башни). Постоянный гарнизон крепости составляли турецкие янычары. Татары, обнаружившие подход отряда Косагова заранее, успели также стянуть к Арабату значительные силы из других мест.
Казаки Мазепы подошли к крепости 17 мая, Косагов с остальными силами - утром 18-го. Попытка овладеть крепостью («под городом ошанцовалися, даже под самой вал и с самого утра до полудня силно к стенам чинили приступ») успеха не имела, более того, турки и татары большими силами сами пошли на вылазку, с трудом отбитую казаками. Видя «многолюдство великое» противника Косагов со старшиной решили отступать и 19 мая ушли на север. Преследуемый татарами отряд с трудом переправился обратно на материк и пошел было к Перекопу, но узнав об отходе армии повернул на север и благополучно соединился с основными силами у Карачекрака.
Возвращаясь из похода Голицын приказал И. Ф. Волынскому устроить еще одну крепость на реке Самаре. Получив распоряжение главнокомандующего 15 июня, И. Ф. Волынский, вскоре (20 июня - 18 июля), силами войск выстроил выше Новобогородицка небольшую крепость Новосергиевск, рассчитанную на гарнизон в 500 человек. Вокруг крепости позднее предполагалось устроить посад. В Новосергиевске был оставлен гарнизон (300 солдат), который позднее планировалось усилить стрельцами.
После роспуска армии Голицына часть войск, на случай татарских набегов, была оставлена на рубеже Днепра - Самары - Орели. В Новобогородицке оставался полк И. Ф. Волынского (служилые люди разных разрядных полков опоздавшие в главную армию), усиленный острогожскими слободскими казаками (1 500 человек), пришедшим из Батурина московским стрелецким полком стольника Ф. Колзакова и сердюцким пехотным полком Еремея Андреева. На Орели - 3 конных компанейских и 2 пехотных сердюцких полка Мазепы. Общее руководство этими силами поручалось Волынскому.
Помимо этого, на Днепре у Переволочной были поставлены стрелецкий полк А. А. Чубарова, 500 киевских казаков Г. Коровченко и еще один сердюцкий полк.
Общие потери армии во Втором Крымском походе согласно отписке Голицына составляли 1 272 человека: 203 убитых, 1 005 раненых, 41 пленный и 23 пропавших без вести.
Большая их часть приходилась на ахтырских и сумских слободских казаков - 717 человек (142 убитых, 563 раненых и 12 пленных). Среди прочих частей наибольшие потери понесла конница нового строя - гусарские, копейные и рейтарские части потеряли совокупно 313 человек (34 убитыми, 256 ранеными, 16 пропавшими без вести и 7 пленными).
Согласно росписям разрядных полков (по Большому неполным) потери были несколько выше, без учета слободских казаков - 589 человек (72 убитых, 458 раненых, 25 без вести пропавших и 34 пленных), против 555 у Голицына (61 убитый, 442 раненых, 23 без вести пропавших и 29 пленных).
Помимо этого, согласно сказкам московских чинов Большого полка, было потеряно 46 боевых холопов (8 убито, 7 ранено, 4 пропало без вести, 27 попало в плен).
Таким образом, общие боевые потери русской армии (с учетом боевых холопов и слободских казаков) составили, по подсчетам авторов, 1 323 человека (222 убитых, 1 028 раненых, 73 пленных). [Так в тексте. Пропавшие без вести почему-то опущены, с ними (29 человек) - 1 352 человека].
Небоевые потери и потери казаков Мазепы неизвестны.
Татары в ходе кампании 1689 года границы беспокоили нечасто. Ряд нападений был отмечен в районе Изюмской черты. В конце мая под Киев пришел большой отряд белгородских ногаев (1 200 чел.), под предводительством Бек-мурзы Кантемирова сына Уракова, разбитый совместными усилиями киевского гарнизона и выдвинутого в район Киева в начале кампании соединенного русско-казацкого отряда (стрелецкий полк А. А. Чубарова и казаки Киевского и Переяславского полков).
На западных фронтах в 1689 году новыми успехами отметились австрийцы, выбившие турок из Южной Сербии. Поляки вновь неудачно ходили к Каменцу. Взаимодействие с польским союзников в ходе кампании ограничивалось взаимным информированием о военных операциях и обменом претензиями в невыполнении союзнических обязательств.
* [Изюмский слободской полк выделен из Харьковского в 1688 году]. В наряде армии изюмских казаков отдельно нет, есть только харьковские.
***
В целом, как считают авторы, стратегические замыслы русского правительства в первый («крымский») период войны сводились к следующему. Задачи завоевания Крыма фактически не ставилось, вместо этого предполагалось: «путем прямого натиска армии, превышавшей силы Селим-Гирея, в условиях, когда последний не мог получить действенной османской помощи... принудить хана к переговорам и заключению нового договора на условиях, варьировавшихся от признания верховной власти царя до официального отказа Бахчисарая от ежегодных поминок». Т. е., по сути, хана пытались лишь напугать масштабными военными демонстрациями.
Заинтересованность в реальном взаимодействии с польским союзником также фактически отсутствовала. О польских предложениях (атака на нижнеднепровские крепости и проч.) вспоминали лишь в критической ситуации (провал похода 1687 года) и забывали сразу после стабилизации обстановки. Нежелание атаковать османские крепости на Днепре и Азов объяснялось видимо также и стремлением избежать углубления конфронтации с собственно Турцией, что «могло помешать выходу из войны в случае достижения соглашения с Крымом».
Военная машина русского государства в ходе первого периода войны демонстрировала весьма высокую эффективность, не только организовав два грандиозных по масштабам похода, но и показав способность учиться на собственных ошибках. В ходе второго похода она «смогла выполнить поставленную перед ней чисто военную задачу: преодолеть огромное расстояние по пустынной и ненаселенной местности, нанести поражение вышедшим ей навстречу крымским войскам и прорваться к Перекопу», продемонстрировав, «что причины неудачи первого, «крымского», периода войны лежали в большей степени в политической плоскости, нежели в военной: изначально неверная стратегия не позволила эффективно использовать имевшийся в руках Голицына мощный инструмент российских вооруженных сил».
Боевые действия в 1690 - 1694 годах
скрытый текст
В сентябре 1689 года правительство Софьи было свергнуто в результате переворота. Пришедшее к власти «нарышкинское» правительство особого желания продолжать войну не демонстрировало, в 1692 году даже предложив Крыму замириться - на «голицынских» условиях (отказ от поминок, освобождение пленных без выкупа и проч.) и, ожидаемо, получив отказ. Боевые действия в этих условиях свелись к малой пограничной войне.
Русские войска наступательных операций не вели, ограничиваясь обороной Черты. Интенсивность службы в этот период существенно снизилась даже для служилых людей Белгородского разряда, служивших теперь по переменам. Значительные силы собирались только по вестям о появлении крупных сил татар, однако крупных татарских нападений в этот период не случалось.
С 1692 года полки Белгородского разряда регулярно выдвигались уже на Изюмскую черту. Последняя продолжала усиливаться за счет строительства новых городков на западном ее фланге.
Из заметных событий можно отметить лишь следующие. В августе 1690 года сборный отряд (татары, калмыки и старообрядцы-«ахреяне») примерно в 1 000 чел. напал на окрестности Тора взяв около тысячи человек полона.
Наиболее заметным событием 1692 года (и всего описываемого периода) стала осада Новобогородицка Петриком (см. ниже).
В 1693 году из Азова под Царицын пришел большой отряд некоего Кубек-
аги (ок. 3 000 чел, татары, калмыки, ахреяне) захватив ок. 200 купцов с товарами и рыболовов.
Осенью 1694 году случилась типичная «военная тревога». Б. П. Шереметев, извещенный о движении к границе больших сил татар, собрав войска, выдвинулся на Изюмскую черту. Татары [если они вообще были] повернули назад и уже через неделю Шереметев вернулся в Белгород и распустил людей. Между тем, в связи со сбором войск Белгородского разряда, в Крыму распространились слухи о новом большом московском походе и к Перекопу был отправлен нураддин с войсками.
В Малороссии в этот период положение было достаточно напряженным. Воспользовавшись переворотом в Москве Сечь в ноябре 1689 года попыталась передаться польскому королю, однако Ян Собеский навстречу запорожцам не пошел. Позднее отряды запорожцев регулярно нанимались на польскую службу в Молдавии.
В 1692 году против Мазепы выступил его бывший канцелярист Петрик, объявивший себя гетманом и получивший поддержку Крыма. Сечь Петрику в поддержке отказала, однако желающим было разрешено примкнуть к мятежному канцеляристу.
Летом 1692 года Петрик и крымский калга Кара-Девлет-Гирей осадили Новобогородицк. Город защищал сводный русско-казацкий гарнизон, возглавляемый воеводой С. П. Неплюевым: 1 100 солдат Яблоновского и Добринского полков, 130 местных «жилых черкас», 60 слободских сумских казаков, 50 полтавских казаков Мазепы и 40 мазепинских же сердюков и проч., всего 1 473 человека.
Передовые отряды татар объявились у Новобогородицка 23 июля. 29 июля к городу пришли калга и Петрик с основными силами (20 000 татар и 2 000 казаков). Силы самого Петрика состояли из 500 «своевольных» сечевиков, также левобережных казаков шедших на добычу соли и насильно мобилизованных «гетманом». Последние при любой возможности бежали и от изначально мобилизованных 3 тысяч ко времени осады осталась половина.
В ночь с 30 на 31 июля казаки и татары (по показаниям пленных 2 000 казаков и 500 татар) пошли на приступ. Гарнизон боя не принял и отступил в «малый город» - из-за «малолюдства» и сомнений в лояльности гарнизонных казаков. Ворвавшиеся в посад татары и казаки Петрика частично его разграбили однако утром были выбиты из города пошедшим на вылазку гарнизоном. Продолжать осаду Петрик и калга не стали и 31 июля ушли «под малороссийские городы».
Вскоре поход был свернут - калге приказали возвращаться в Крым: крымские власти не желали видимо лишний раз провоцировать Москву и раздражать Стамбул ненужной активностью. С Петриком в Крым вернулось всего 50 - 80 казаков.
В следующем, 1693 году, татары (нураддин Шахин-Гирей с войском в 10 - 12 тыс. чел.) и Петрик (70 казаков) вновь явились к Сечи, агитируя сечевиков в пользу «гетмана». Сечь и на этот раз Петрику отказала и нураддин с «гетманом» пошли к Переволочной, где пытались бунтовать уже жителей пограничных малороссийских городов - столь же неудачно.
Сам Мазепа, не ограничиваясь защитой Малороссии от татар, отметился несколькими крупными набегами против татар и турок - при активном участии Семена Палия, лидера правобережных казаков, тесно сотрудничавшего с Москвой.
В 1690 году казаки Мазепы ходили в набеги на Казы-Кермен и Очаков. Зимой 1693 года С. Палей, вместе с гетманским Лубенским полком (всего ок. 10 000 казаков), ходил в набег на Казы-Кермен, спалив его предместья. Осенью того же года Палей (вместе с казаками Переяславского полка и наемниками Мазепы) ходил в Бессарабию.
В феврале 1694 года Палей (опять с лубенскими казаками) снова ходил на Казы-Кермен, вновь спалив его предместья, а в августе того же года (уже с киевскими казаками) - на Очаков, побив вышедших из города турок, взяв пленных и бунчуки и получив за это государево тканевое жалованье. Осенью того же года неутомимый Палей (уже с прилуцкими казаками) успешно ходил на Белгородскую орду, взяв там большую добычу.
Донские казаки продолжали вести традиционную малую войну с крымцами, ногаями, калмыками и старообрядцами-«ахреянами». Особенно напряженными были отношения казаков с калмыками. Донцы имели большой зуб на калмыцкого хана Аюку, тщательно отслеживая все проявления его нелояльности Москве и регулярно сообщая о них в столицу. Москва однако фактически ограничивала антикалмыцкую военную активность донцов, а русские низовые воеводы и вовсе норовили калмыкам, на что казаки также регулярно жаловались в столицу.
Неприязнь к Аюке не мешала, впрочем, существованию традиционного донского «интернационала» - на Дону жило и участвовало в казацких походах немало калмыков (до 600 человек), периодически сюда «отъезжали» отдельные калмыцкие владетели и т. д. Помимо калмыков среди казаков постоянно присутствовали и астраханские татары.
Среди прочих противников казаков (и вообще русских людей) наиболее неприятным являлись старообрядцы-«ахрияне» - из-за их способности выдавать себя за своих.
Помимо малой войны донцы отметились и рядом относительно крупных морских походов. В 1691 году 800 донцов ходили в поход на Азовское море (видимо на Кубань), разорив два черкесских и ногайских улуса. В 1692 году на Темрюк и Казылташ ходило 1 200 казаков (взято 130 чел. полона, освобождено 200 русских). В 1694 году ок. 1 000 казаков безуспешно ходило на Темрюк и Казылташ, позднее донцы вместе с запорожцами (700 чел.) разорили Чингарский городок на Чонгаре.
Среди прочих событий можно отметить разгром большого (500 - 1 000 чел., азовцы, ногаи, калмыки) отряда Кубек-аги под Черкасском в октябре 1692 года (от 50 до 100 чел. взято в плен).
Калмыцкий хан Аюка, числившийся союзником и даже подданным Москвы, фактически был себе на уме, поддерживая тесные связи с Крымом. Небольшие отряды калмыков регулярно совершали нападения на русские границы, фактически ведя малую войну против донских и яицких казаков, башкир и проч. Сам хан списывал эти нападения на частную инициативу.
***
Как указывают авторы, [«нарышкинский»] период войны «со всей ясностью показал тесную связь между военной активностью России на юге и ее политическими позициями в буферных и пограничных регионах». Заметная «военная пассивность и полное прекращение сколь-нибудь крупных наступательных операций силами царских войск немедленно отозвались ухудшением для русского государства ситуации в тех регионах, где лояльность местных «политий» царской власти была слабой и обставлялась рядом условий» (Сечь, калмыки). Таким образом, «скорейшее возобновление активных военных действий имело для России не только чисто военное (захват новых земель) и дипломатическое (демонстрация хоть каких-то успехов союзникам по коалиции) значение, но и было необходимо для укрепления влияния Москвы в тех пограничных регионах, на которые формально распространялось ее политическое верховенство».
Кампания 1695 года. Первый Азовский поход и взятие Казы-Кермена
скрытый текст
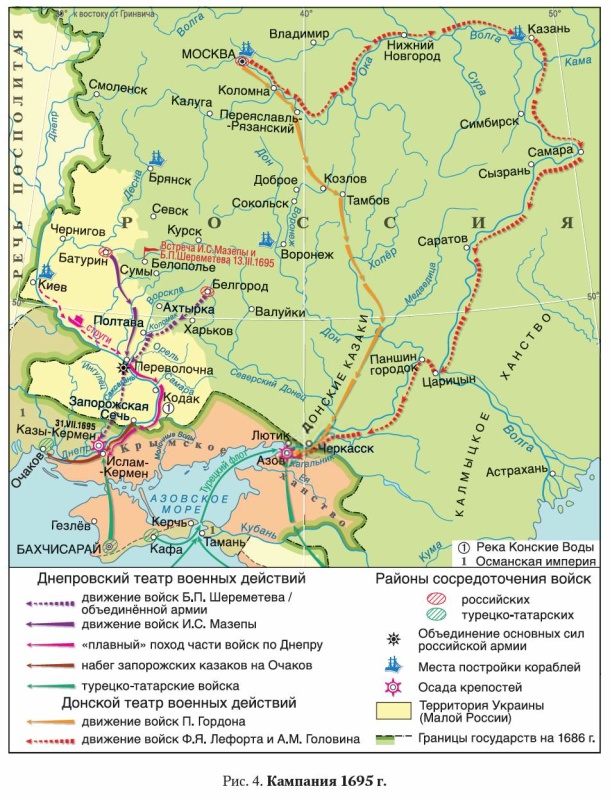
В январе 1694 года умерла царица Наталья Кирилловна и фактическая власть перешла в руки Петра. В скором времени это привело к резкой активизации боевых действий на крымско-турецком фронте.
Каким образом происходила выработка стратегического плана кампании и определялись ее цели неясно - в архивных документах этот процесс никак не отобразился.
Планы будущей кампании видимо обсуждались с Мазепой, Шереметевым и проч. с декабря 1694 года. К началу февраля в целом оформился план наступления на Азов (впервые как цель кампании упоминается в дневнике П. Гордона 6 февраля). 12 февраля был обнародован царский указ, извещавший заинтересованную общественность о посылке плавной рати на Азов «вешним ранним времянем». Шереметеву и Мазепе тем же указом предписывалось идти «для воинского же промыслу и для отвращения и удержания хана крымского с ордами от азовской помочи и обороны, на которые места пристойно». Прикрывать границу по Черте назначался воевода Севского разряда кн. П. Л. Львов, с товарищами - курским воеводой И. М. Дмитриевым-Мамоновым и чугуевским воеводой В. П. Вердеревским.
Устанавливались сроки сбора служилых людей в полки Шереметева - 1 апреля для «украинных, и резанских, и заоцких городов» и 15 апреля для «замосковных и низовых городов».
При этом конкретных задач Мазепе и Шереметеву не ставилось, в поход они должны были идти «в которое время пристойно» по «общему... совету и согласию» и «не отписываясь к... великим государем».
Несколько обескураженные внезапно свалившейся на них свободой Шереметев и Мазепа просили Москву все же дать им какие-то конкретные указания, однако последняя упорствовала и 13 марта 1696 года съехавшиеся в Белополье гетман и будущий фельдмаршал решили идти на реки Миус и Кальмиус, дабы не дать крымскому хану помочь Азову. Однако Москва этот план забраковала - 30 марта Шереметеву и Мазепе велели на Миус и Кальмиус не ходить, а идти «под городки турецкие, под которые будет удобнее и прибыльнее». Указанные в черновике документа Казы-Кермен и Ислам-Кермен в беловом варианте отсутствовали и Шереметев с Мазепой должны были видимо сами догадаться куда им совершенно самостоятельно следует идти.
Днепровский поход
Оба с этой задачей справились. Шереметев 10 мая вышел с войсками из Белгорода и 12 июня соединился у Переволочной с войсками Мазепы, вышедшего из Батурина 17 мая.
Днепровский поход, планировавшийся как вспомогательный, по масштабам в итоге превзошел Азовский. Общая численность объединенной армии составляла 68 000 - 73 000 человек (включая примерно 35 000 казаков Мазепы).
[При описании «азовского» периода войны авторы, по каким-то причинам, большей частью не приводят сведений о структуре войск участвовавших в кампаниях, хотя они имеются в использованной ими литературе.
Согласно диссертации А. В. Багро в состав войск Б. П. Шереметева входили московские чины, полк смоленской шляхты, копейный полк, 4 рейтарских полка, 8 солдатских полков, 5 стрелецких полков, корпорации белгородских донских, яицких и орешковских казаков и курских новокрещенов и слободские казаки, всего по росписи:
— 1 584 московских чина
— 636 чел. смоленской шляхты
— 148 городовых дворян Белгородского разряда
— 1 427 копейщиков Белгородского копейного полка
— 4 127 рейтар Белгородского (1 053), Обоянского (1 069), Ливенского (912) и Козловского (1 093) полков
— 9 761 солдат Белгородского (1 276), Яблоновского (1 237), Старооскольского (955), Хотмышского (1 518), Ливенского (1 124) полков, Добренского (1 159), Усманского (924), Смоленского (1568) полков
— 4 837 стрельцов московского (1 117), белгородского (1 145), курского (954) и двух смоленских (684 + 937) полков
— 425 донских, орешковских и яицких казаков и курских новокрещенов
— 5 896 слободских казаков
Итого: 28 841 человек (из них под Казы-Керменом были 25 273 чел.)
Армия Шереметева включала два воеводских полка - самого Б. П. Шереметева и С. П. Неплюева]*.
Как указывают авторы, помимо них имелся еще и воеводский полк И. М. Дмитриева-Мамонова, у Багро неучтенный и ранее назначенный охранять Черту. В его состав входили московские чины, городовые дворяне, Курский рейтарский и Курский, Козловский и Воронежский солдатские полки. Численность его не приводится (вероятно более 4 тыс. чел.).
[В состав войск Мазепы входили казаки всех 10 городовых полков, а также наемные кампанейские и сердюцкие полки. Точная их численность неизвестна и приблизительно оценивается в 35 000 человек. Мазепу сопровождали также 2 стрелецких полка - стольников и полковников Степана Стрекалова (656 стрельцов) и Григория Анненкова (?), общей численностью примерно в 1 тыс. человек]*.
В походе участвовали также запорожцы-сечевики - примерно 2 000 человек.
Около 14 июня войска Шереметева и Мазепы начали переправляться на правый берег Днепра у Переволочной. Переправа растянулась более чем на три недели и лишь 11 июля объединенная армия выступила от Переволочной к Казы-Кермену. Продвижению армии мешали многочисленные речные балки и к Казы-Кермену основные ее силы подошли лишь 24 июля. Еще до подхода основных сил к городу была послана «плавная рать» (300 русских служилых людей, казаки Мазепы и примкнувшие к ним сечевики), блокировавшая Казы-Кермен со стороны Днепра.
Силы турок в Казы-Кермене и прочих укреплениях оцениваются примерно в 4 000 человек. Крымский хан выслал на помощь туркам нураддина Шахин-Гирея, однако тот, стоя на левом берегу Днепра, ничем не смог помочь османам.
25 июля было начато рытье шанцев и строительство батарей, а 26 июля - бомбардировка крепости. Параллельно с бомбардировкой под одну из башен была подведена минная галерея. 30 июня взрыв мины обрушил угловую башню и часть стены Казы-Кермена и осаждающие пошли на штурм. После пятичасового боя турки оставили «большой город» и отступили в «малый» (замок). На следующий день остатки гарнизона (примерно 1 500 человек) сдались. Всего, таким образом, на взятие крепости ушло около недели.
Небольшая крепость Мустрит-Кермен (Тавань), располагавшаяся на острове рядом с Казы-Керменом, сдалась в тот же день. Турецкие городки на левом берегу Днепра (Мубарек-Кермен и Ислам-Кермен) были брошены бежавшими гарнизонами 2-3 августа.
[Помимо пленных, в Казы-Кермене и Мустрит-Кермене были взяты богатые трофеи - одних исправных пушек захвачено 58 штук. Потери Шереметева неизвестны, казаки Мазепы, по его отписке, потеряли в кампании 262 чел. убитыми и 342 ранеными]*.
Восстанавливать сильно пострадавший Казы-Кермен не стали и русско-казацкий гарнизон (200 солдат, 600 сердюков + сечевики) разместился в Мустрит-Кермене, переименованном в Тавань.
Осенью 1695 года, воспользовавшись снятием турецкой блокады, сечевики совершили большой набег на Очаков, разорив окрестности города.
* А. В. Багро Украинское казачество и первый Азово-Днепровский поход.
Первый Азовский поход
Отправившаяся к Азову армия состояла из трех «дивизий» - П. Гордона, Ф. Лефорта и А. Головина.
В состав «дивизии» Патрика Гордона входили Бутырский полк (Второй выборный, 894 чел.), 7 московских стрелецких полков (4 620 чел.) и 4 тамбовсих солдатских полка (3 879 чел.), всего - 9 393 человека, с нарядом и проч. - ок. 10 000 чел.
[«Дивизия» Автонома Головина включала преображенцев (1 200 чел.), семеновцев (938 чел.) и 6 стрелецких полков (4 785 чел.), всего - ок. 7 000 чел.
«Дивизию» Франца Лефорта составляли Лефортовский (Первый выборный) и несколько солдатских и стрелецких полков, всего ок. 10 000 чел.]*
Общая численность армии доходила видимо до 31 000 чел. В походе участвовало также ок. 6 000 донских казаков, а также другие формирования (астраханские татары, яицкие казаки, башкиры? калмыки?). С ними численность армии могла, по мнению авторов доходить до примерно 40 000 человек.
[Армия управлялась военным советом (Гордон, Лефорт, Головин), сам же юный 24-летний монарх предпочитал большей частью играть в «великого бомбардира»]*.
Изначально предполагалось, что «дивизия» Гордона, следующая из Тамбова сухим путем, соединившись с донскими казаками блокирует Азов до подхода основных сил. Последние («дивизии» Лефорта и Головина, с царем и осадной артиллерией) должны были водным путем спуститься по Оке и Волге до Царицына, оттуда перейти на Дон и (снова водой) спуститься к Азову.
Однако Гордон надолго задержался в Тамбове (прибыл в город 18 марта, вышел в поход 1 мая) и пришел к Азову только 27 июня. Основные силы выступили из Москвы 28 апреля, 6 июня достигли Царицына, 14 июня - Дона. Начав сплавляться вниз по реке 19 июня, 29 июня Лефорт и Головин высадились в районе Азова. К 5 июля все силы армии сосредоточились у города.
Гарнизон Азова накануне осады был усилен и насчитывал видимо ок. 6 000 человек. Помимо этого в окрестностях города действовали конные отряды, постоянно беспокоившие осадную армию - крымские татары (с нураддином), турецкая конница из состава гарнизона (Муртаза-ага) и сборный отряд упоминавшегося Кубек-аги (азовские татары, калмыки и проч.), всего видимо ок. 3 000 - 4 000 человек.
Осада шла в целом неудачно. Турки упорно сопротивлялись, успешно ведя минную войну и совершая вылазки. В середине июля в Азов перебежал [один из петровских любимчиков]* голландец Яков Янсен, указавший туркам слабое место русских позиций. Пользуясь указаниями перебежчика османы 15 июля совершили удачную вылазку на участке «дивизии» Гордона, перебив до 400 и ранив около 500 человек и захватив несколько пушек.
Предпринятый 5 августа штурм был отбит с большими потерями (до 1 500 чел.). 25 сентября была предпринята еще одна попытка штурма, снова закончившаяся провалом [и 27 сентября на военном совете решено было осаду прекратить. Отход армии проходил в тяжелых условиях - идущие от Азова войска подвергались постоянным нападениям татар, позднее возвращающиеся с Дона полки тяжело пострадали от начавшихся холодов. Боевые и небоевые потери армии были весьма велики]*. Турки, впрочем, тоже понесли тяжелые потери - выбито было вероятно до 2/3 гарнизона, включая и его командира.
Едва ли не единственным успехом операции стал захват турецких «каланчей», перекрывавших один из рукавов Дона (14 - 16 июля). На месте одной из них был устроен русский форт Сергиев (или Новосергиев), в котором при отходе был оставлен большой гарнизон (ок. 3 000 чел.), весьма стеснявший турок.
Главной причиной неудачи похода было видимо дурное руководство - изо всех главных командиров опытным военачальником был лишь П. Гордон, да и тот действовал небезупречно.
***
Результаты кампании, таким образом, оказались неоднозначными. На Днепре был достигнут полный успех - перекрыта важнейшая татарская переправа через реку, Черное море открыто для казацких набегов. Под Азовом русская армия потерпела неудачу, обзаведясь, однако, важным форпостом вблизи города (а ее «великий бомбардир» получил ценный урок).
* Н. Г. Устрялов История царствования Петра Великого. Том второй
Кампания 1696 года. Второй Азовский поход
скрытый текст
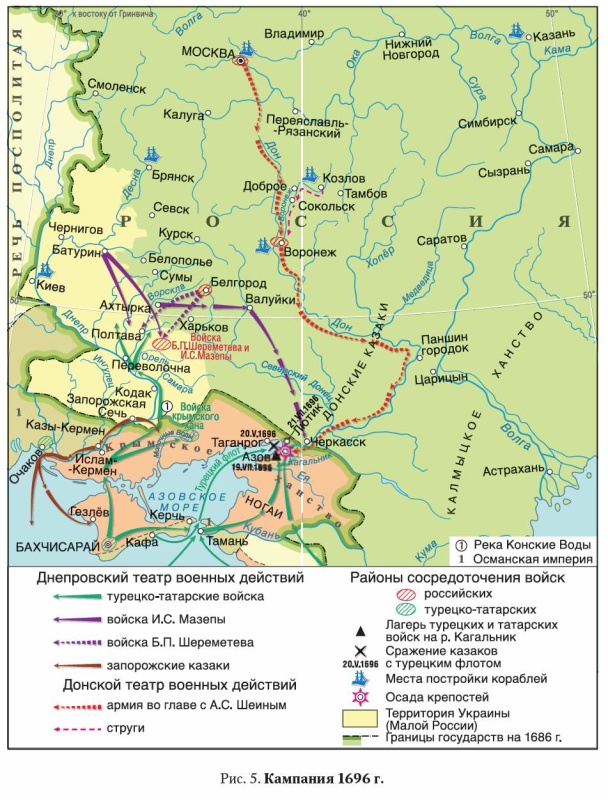
Второй Азовский поход
[Указ о новом походе на Азов был объявлен уже 27 ноября 1695 года. Местом сбора основных сил был назначен Воронеж. Здесь же, и в других местах, строились корабли флота, которым предполагалось блокировать Азов с моря.
Главнокомандующим сухопутной армией (Большим полком) в январе 1696 года был назначен генералиссимус боярин А. С. Шеин.
В состав Большого полка входили полки / «дивизии»:
— П. Гордона (Бутырский, 9 солдатских (4 тамбовских, 2 рязанских, 2 низовых) и 7 стрелецких полков; 369 начальных людей, 9 060 солдат, 4 688 стрельцов, всего - 14 117 чел.)
— А. Головина (преображенцы, семеновцы, 9 солдатских, 7 стрелецких полков; св. 300 начальных людей, 8 520 солдат, 4 909 стрельцов, всего - св. 14 000 чел.)
— К. Ригимона (7 белгородских солдатских полков; 178 начальных людей, 10 299 солдат, всего - 10 477 чел.).
Помимо этого в состав армии входило 3 816 московских чинов (3 500 в 27 ротах + 316 завоеводчиков, есаулов и проч.). К ним должны были добавиться низовые стрельцы и казаки и казаки яицкие (всего 500 чел.), донские казаки (5 000), 6 городовых малороссийских полков Мазепы (15 000), калмыки Аюки (3 000).
Назначенный адмиралом Ф. Лефорт командовал «морским караваном» (29 судов), к которому было приписано ок. 4 500 солдат (преображенцы, семеновцы, новоприборные солдаты).
Всего, таким образом, русских служилых людей должно было быть ок. 47 000, вместе с казаками и калмыками - св. 70 000 чел]*.
Фактическая численность армии вероятно отличалась от приведенной. Как указывают авторы, полки Мазепы, под командованием наказного гетмана, черниговского полковника Я. К. Лизогуба пришли к Азову только 17 июня (а численность их возможно была выше нарядной - до 20 000 чел.), низовые служилые люди - 30 июня, а калмыки Аюки пришли уже после капитуляции Азова.
Передовые части русской армии появились под Азовом в последних числах мая, сосредоточение сил было, в целом, завершено к 7 июля.
«Морской караван» (вместе с Петром) пришел к Азову 18 мая. 19 мая в море у Азова вышло 9 галер под командованием Петра, однако 20 мая они вернулись к Азову из-за мелководья. В тот же день стоявшие у Азова турецкие суда были атакованы донскими казаками, потопившими 2 турецких корабля и 9 тунбасов (мелких судов использовавшихся для перевалки грузов). Как отмечают авторы позднее этот успех был приписан Петру и петровскому флоту, в деле не участвовавшим. В целом же, как отмечается, основную роль в блокировании Азова с моря сыграли не петровский флот и даже не донские казаки, а береговые укрепления устроенные П. Гордоном.
Турки не сумели в полной мере восстановить боеспособность Азова после предыдущей осады. Подкрепления в город начали прибывать с января 1696 года и к началу новой осады численность гарнизона составляла вероятно 4-5 тысяч человек. Ветеранов первой осады среди них осталось очень мало, большую часть гарнизона составляли видимо новоприборные янычары и прочие османские служилые люди, собранные с бору по сосенке, не имевшие боевого опыта и часто малопригодные к службе. Часть подкреплений в город до начала осады попасть уже не успела, оставаясь на подошедших с моря судах (по разным оценкам - от 1,5 до 4 тыс.)
Как отмечают авторы, вопреки ранее высказывавшимся предположениям**, сколько-нибудь заметного числа ахреян в составе гарнизона не имелось.
Разрушенные каменные укрепления города турки восстановить не успели, заменив по возможности дерево-земляными. Не были срыты и фортификационные сооружения русских устроенные во время первой осады, что существенно облегчило жизнь осаждающим.
К югу от Азова, на реке Кагальник, в ходе осады располагались конные турецкие и татарские отряды, тревожившие осадную армию (татары, турки, ногаи, черкесы). Ими руководили кафинский наместник Муртаза-паша, нураддин Шахин-Гирей и неоднократно уже упоминавшийся Кубек-ага. Перед самым падением города на Кагальник пришел с большим отрядом еще и калга Девлет-Гирей. Общее численность отрядов стоявших на Кагальнике единовременно, по мнению авторов, не превышала 7 тыс. человек и на ход осады их деятельность серьезно не повлияла.
Сама осада на этот раз велась куда более успешно. Город был полностью блокирован, энергично велись инженерные работы, 16 июня была начата бомбардировка Азова. Положение гарнизона быстро ухудшалось и 18 июля он вступил в переговоры о сдаче, а 19 июля капитулировал. 21 июля без боя сдался и форт Лютик (Сед-Ислам), блокировавший один из рукавов Дона.
Развивать успех Петр по каким-то причинам не стал, отказавшись и от предлагавшегося похода на Кубань, даже силами калмыков.
Основные силы русской армии покинули Азов 16 августа. В городе был оставлен внушительный гарнизон (8 - 10 тыс. чел.) под командованием стольника кн. Петра Григорьевича Львова.
* Н. Г. Устрялов История царствования Петра Великого. Том II и М. М. Богословский Петр I. Материалы для биографии. Том I.
** По А. Сеню костяк гарнизона составляли 500 ахреян.
Днепровский район
Б. П. Шереметеву и Мазепе, как и в прошлый раз, была предоставлена свобода рук - «тот поход велено положить на их разсуждение». Мазепа предлагал в этот раз идти на Очаков, однако в итоге на Очаков гетман и белгородский воевода не пошли, почти все лето простояв с основными силами на реках Орчик и Берестовая [правые притоки Орели], карауля крымского хана стоявшего, в свою очередь, без дела на Молочных водах. 1 сентября армия была распущена.
Помимо этого, летом к Тавани (гарнизон которой к этому времени большей частью разбежался) для охранения был послан с отрядом С. П. Неплюев (Белгородский солдатский полк, стрелецкий полк И. Дурова, белгородские донские казаки и проч., всего 2 500 чел.). По предложению Неплюева была восстановлена крепость Муберек-Кермен (теперь Шингерей). Позднее было начато и восстановление Казы-Кермена.
Запорожцы-сечевики, пользуясь открытием Днепра, совершили в этом году несколько крупных походов. В апреле большой отряд казаков (по одним сведениям 500 сечевиков, по другим - 2 000 сечевиков и 2 000 наемников Мазепы) захватил 9 турецких судов у Очакова. Позднее другой отряд (300 - 340 сечевиков) напал на Козлов (Гезлев, Евпатория), но на обратном пути почти целиком попал в плен. Вышедшие в море в конце июня сечевики (1 740 чел. на 40 судах) захватили 2 турецких судна у Кафы.
Венское соглашение
Кампания 1695 года способствовала активизации русской внешней политики и росту заинтересованности во взаимодействии с союзниками. К этому времени Россия, фактически входившая в антитурецкую Священную лигу, формально была связана союзным договором только с Польшей. Активизировавшее боевые действия против турок петровское правительство очевидно желало упрочить позиции России в рамках союзной коалиции. Еще более актуальным этот вопрос сделала смерть Яна Собеского летом 1696 года и возникшая, в связи с этим, угроза выхода из войны Польши.
В декабре 1695 года в Вену в качестве посланника был отправлен дьяк Посольского приказа Козьма Нефимонов. Целью его миссии было заключение прямого наступательно-оборонительного союза с императором на срок от 3 до 7 лет.
До Вены посланец русского царя добрался в марте 1696 года. Переговоры с цесарцами оказались весьма сложными и затянулись в итоге на целый год. Затягиванию переговоров способствовали сложности коммуникации с Москвой*, ошибки самого посланника и разного рода внешние обстоятельства.
Так, по настоянию представителей Венеции, в изначально двусторонний договор была, качестве участницы, включена и Республика Св. Марка. Позднее, по инициативе цесарцев, в соглашение решили было включить и Польшу, но затем от этого отказались.
На ход переговоров влияло и положение на фронтах. Так, цесарцы, изначально желавшие заключения договора на максимальный срок (в идеале - бессрочного), после завершения войны Аугсбургской лиги и высвобождения сил имперской армии на западе, радикально переменили позицию и настаивали теперь на минимальном трехлетнем сроке.
Договор был подписан 29 января / 8 февраля 1697 года. В Москве его текст был получен 28 февраля 1697-го, однако обмен ратификационными грамотами завершился лишь 12 января 1698 года.
В соответствии с договором стороны обязались вести войну с турками, поддерживая и информируя друг друга и не заключая сепаратных договоров с врагом. Прежние обязательства сторон друг перед другом и перед другими державами (Польша) сохранялись. Договор заключался на 3 года (с момента подписания) и мог быть продлен.
По итогам венских переговоров дипломатическая конструкция антитурецкой коалиции выглядела следующим образом:
1) «Святой союз» между папой римским, императором, Венецией и Польшей (бессрочный — до победы)
2) «Вечный мир» с оборонительным (без срока действия) и наступательным (до конца войны) союзами между Россией и Речью Посполитой
3) «Венский союз» между императором, Россией и Венецией (на 3 года, с возможной пролонгацией).
* Цикл «запрос посланника из Вены - получение инструкций из Москвы» занимал от 2-2,5 (когда Петр был в Москве) до 3-3,5 (когда царь был под Азовом) месяцев.
***
Важнейшим результатом кампании стало взятие Азова. Падение города существенно ухудшало связь Крыма с Кубанью и Черкесией и открывало донским казакам свободный выход в море (для предотвращения которого туркам пришлось спешно усиливать оборону Керченского пролива).
Боевые действия в 1697 - 1700 годах
скрытый текст
После всплеска в 1695 - 1696 годах военная активность русского государства снова пошла на спад и оно фактически вернулось к оборонительной стратегии. Как отмечают авторы, смена стратегии была не сознательным решением, а результатом сочетания нескольких факторов - отъезда Петра в Великое посольство, смены командования Белгородского разряда и активизации противника, пытавшегося вернуть потерянное.
1697 год
Донской район
В донском районе русское правительство ожидало попытки отбить Азов и к городу была послана большая армия - Большой полк под командованием того же А. С. Шеина.
[По наряду в состав армии должны были входить 5 429 московских чинов, 990 чел. смоленской шляхты, 3 152 копейщика и рейтара (в трех полках), 9 695 выборных солдат (в полках Лефорта и Гордона), 4 500 солдат (в 5 полках), 5 817 стрельцов (в 6 московских и 2 смоленских полках), 1 067 слободских казаков Острогожского полка, 3 825 донских казаков, 3 000 калмыков, всего 37 475 человек (без донцов и калмыков - 30 650). Фактически на службу явилось 33 779 человек]*.
Шеин пришел к Азову 5 июня и практически без дела простоял здесь до начала августа. Турки его не беспокоили, ограничившись устройством нового города Ачуева в низовьях Кубани. Единственным заметным событием стал крупный бой с татарами 20 июля. По реляции самого Шеина к русскому лагерю пришло будто бы 16 000 татар, черкесов, янычар и проч., бой с которыми («зело велик и страшен») окончился решительной победой русских. Как отмечают авторы, по сообщению того же Шеина, в «великом и страшном» бою русские не потеряли ни одного человека, а татары ок. 70 чел. По оценке П. Гордона силы противника не превышали 6 000 чел., а сам бой был скорее демонстрацией.
Оборона Тавани
На Черте татары весной большими силами (нураддин и 6 000 татар) атаковали Тор, спалив его посад. Отряды татар приходили также под Валки и Новый Перекоп.
В Днепровском районе русское командование планировало большой поход на Очаков. Способного и опытного Б. П. Шереметева на посту воеводы Белгородского разряда сменил бесталанный боярин кн. Яков Федорович Долгоруков. Товарищами его были младший брат, стольник кн. Лука Федорович Долгоруков (назначенный севским воеводой) и курский воевода думный дворянин Семен Протасьевич Неплюев. Общие силы Долгорукова и Мазепы авторы оценивают примерно в 60 000 человек (по тридцать тысяч и у того и у другого).
Изначально поход планировался как «водяной морской». С. П. Неплюев должен был принять в Брянске суда и припасы и передать их у Переволочной Мазепе и Долгорукову. Отсюда последние должны были идти на судах до Очакова.
Однако встретившиеся 18-19 апреля Мазепа и Долгоруков решили вместо Переволочной идти к Новобогородицку и грузиться на суда уже здесь. В целом, как отмечают авторы, при оценке кампании складывается впечатление, что и гетман и белгородский воевода вообще в бой не рвались, опасаясь неудачи и не желая за нее отвечать.
Соединившись на Коломаке 26 мая, 24 июня Мазепа и Долгоруков пришли к Новобогородицку. Л. Ф. Долгоруков был с частью сил (4 565 человек) оставлен на Коломаке «для охранения» от татар.
Неплюев пришел к Кодаку уже 2 июня, однако перевод судов через днепровские пороги вылился в затяжную эпопею, завершившуюся лишь 15 июля, когда воевода «объявил» суда Долгорукову (часть судов и лодок была потеряна при прохождении порогов). Основные силы армии к этому времени уже перешли на правый берег Днепра и стояли ниже порогов.
18 июля все еще стоявшие у порогов Мазепа и Долгоруков получили известия о появлении татар у Тавани. По «татарским вестям» Долгоруков отправил подкрепления младшему брату на Коломак (1 200 чел.) и запросил (для него же) подкреплений у А. С. Шеина, стоявшего под Азовом. Подкрепления были посланы и к Тавани, за ними к городку двинулись с основными силами, следующими частью сушей, частью на судах, и сами гетман и воевода.
25 июля Мазепа и Долгоруков пришли к Казы-Кермену и занялись укреплением Тавани.
Османы в кампании 1697 года планировали восстановить свои позиции в низовьях Днепра. В Очаков был направлен силистрийский [т. е. очаковский же] паша Юсуф со значительными силами. Ему поручалось восстановить запущенные укрепления Очакова, а затем идти под днепровские городки.
Устроив в Очакове «новый город» Юсуф-паша по левому берегу Днепра двинулся к Тавани.
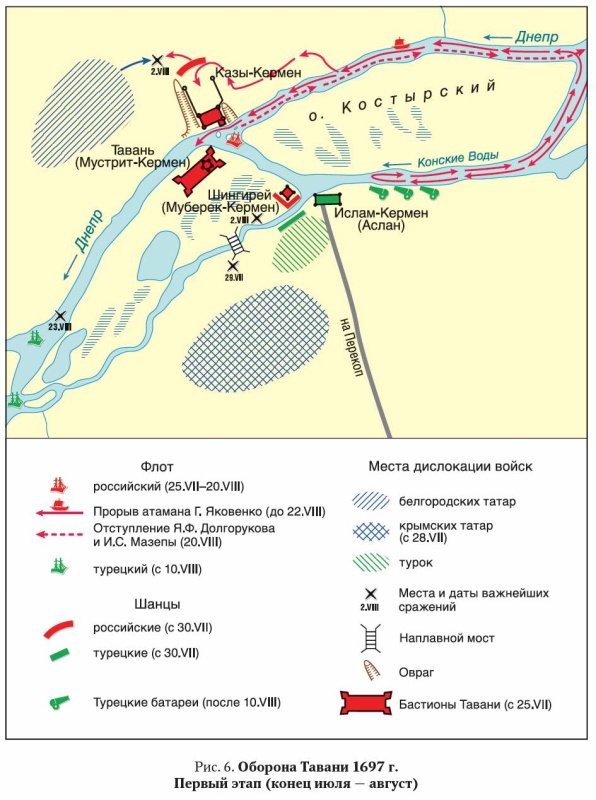
30 июля к Тавани подошли основные силы турок и крымского хана, вставшие на левом берегу у Ислам-Кермена. «Ошанцевавшись» и установив артиллерийские орудия, турки принялись обстреливать Шингерей из мортир, пушек и «мелкого ружья». 2 августа турки и татары перешли было на Таванский остров у Шингерея, но были отбиты. В тот же день по правому берегу Днепра под Казы-Кермен пришла Белгородская орда во главе с сераскиром Гази-Гиреем. Ногайцы выманили из шанцев и разгромили стоявший у Казы-Кермена отряд нежинских казаков, потерявший ок. 200 человек.
10 августа к Тавани пришла турецкая флотилия поднявшаяся вверх по Днепру от Очакова.
Мазепа и Долгоруков видимо не особенно верили в удержание Тавани и вскоре решили отступить, ссылаясь на нехватку припасов. Последнее, как отмечают авторы, вызывает большие сомнения - припасы собирались для долгого похода к Очакову.
20 августа гетман и белгородский воевода оставили район Тавани, уйдя вверх по Днепру. Морские суда были оставлены частью в Сечи, частью в Тавани (последние позднее разбиты турецкой артиллерией). [Долгоруков к началу сентября пришел на Коломак, где соединился с братом]**.
В Тавани был оставлен думный дворянин Василий Борисович Бухвостов, сидевший здесь воеводой и ранее. С ним было оставлено ок. 5 000 чел. - 2 231 русский служилый человек (Курский солдатский полк, бывший в гарнизоне и раньше, новоприборный солдатский полк и по половине московских стрелецких полков Василия Елчанинова и Михаила Кривцов), примерно столько же казаков Мазепы и 500 сечевиков, которым было дано жалованье «чтоб им сидеть в городе неотступно до весны».
Шингерей и Казы-Кермен были при отходе главной армии брошены. Казы-Кермен Бухвостов успел 21 августа снова занять гарнизоном, однако брошенный Шингерей был занят турками и использован при осаде Тавани.
4 сентября в Тавань прорвались посланные гетманом и Долгоруковым подкрепления - ок. 1 800 чел. (491 стрелец с полковником Василием Елчаниновым, 340 казаков Мазепы и 957 сечевиков с кошевым атаманом Григорием Яковенко).
Дождавшись подхода подкреплений турки перешли к решительным действиям. 6 сентября 36 турецких судов поднялись по Днепру выше Тавани, блокировав крепость и обстреливая русские позиции. У Тавани активно рылись траншеи и оборудовались новые батареи.
8 сентября был начат обстрел Казы-Кермена. Здесь русский гарнизон оборонялся в малом городе / замке, уцелевшим после осады 1695 года. 9 сентября турки пошли на штурм замка, но были отбиты. 14 сентября осаждающим удалось обрушить часть стены взрывом мины, однако новая попытка штурма также была отражена. К 28 сентября турецкая артиллерия снесла до подошвы половину стены замка, однако новых попыток штурма турки отчего-то не предпринимали и 28-го числа совсем ушли от Казы-Кермена.
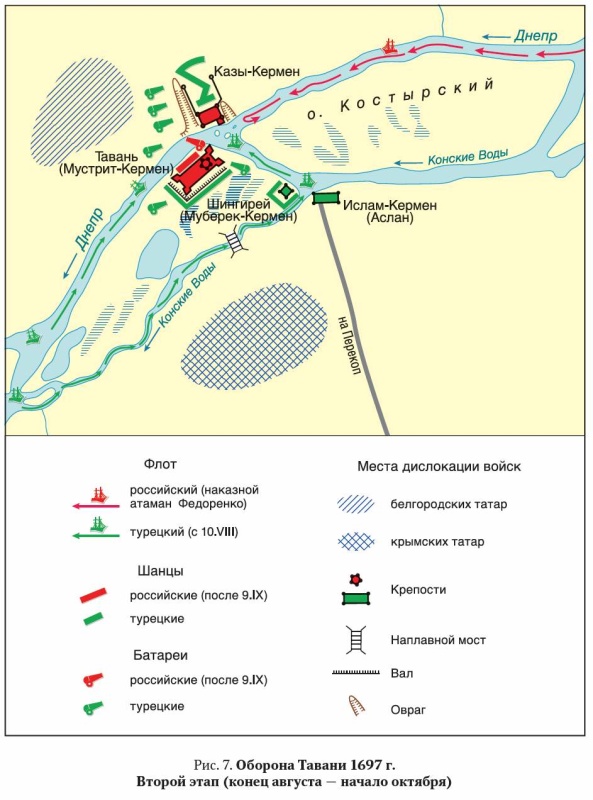
В конце сентября к Тавани вновь пытались прорваться запорожцы (800 человек с наказным кошевым Федоренко), однако турецкая флотилия не дала им пройти к городу.
Под самой Таванью турки к концу сентября вывели траншеи в ров и 25 сентября, взорвав 2 мины, пошли на приступ. Мины оказались взорваны неудачно и причинили большой ущерб самим осаждающим, однако османы упорно атаковали и трижды «з знаменами взбегали» на стену, каждый раз отбрасываясь защитниками. Два из трех водруженных турками знамен были захвачены обороняющимися.
Провал штурма не заставил османов отступиться, осадные работы продолжались еще две недели. Лишь в ночь с 9 на 10 октября, узнав о подходе русской армии противник начал отступать и 11 октября покинул окрестности днепровских городков.
А. С. Шеин, узнав о положении на Днепре, уже 3 августа приказал П. Гордону (8 363 чел., 23 пушки) спешно идти к Валуйкам, а оттуда - на соединение с Мазепой и Долгоруковым. Помимо этого подкрепления были посланы на Черту - в Новый Оскол, Изюм, Царев-Борисов, Маяцкий и на Коломак.
23 сентября в Опошне [у р. Мерло] состоялся военный совет [Долгоруков, Мазепа, Гордон]** решивший послать к Тавани 20 или 30 тыс. служилых людей и казаков. Царскими служилыми людьми должны были командовать П. Гордон и Л. Ф. Долгоруков. Турки, впрочем, ушли от Тавани задолго до подхода русских войск [Гордон и Л. Ф. Долгоруков 15 октября был только в районе Орели]**.
В обороне Тавани участвовало, в общей сложности, ок. 6 500 человек (по отписке Бухвостова - 6 260), погибло (согласно той же отписке) 602 человека, ранено было 1 185.
Относительно сил противника имеются разные сведения. Максимальная оценка принадлежала воеводе Бухвостову - 41 800 турок с 4 пашами: «с пашею с Ысупом — янычан и спаев и чжебеджей конных и на судах семнатцать тысяч, с пашею с Алеем — янычан волохов, сербен и мылтян восмь тысяч, да на каторгах, на голетах, на фуркатах с пашею Мемет Дербишем — три тысячи восмьсот, с пашею з Гасаном, которой зимовал в Ачакове, — тринатцать тысяч», пушек с ними «в шанцах за турами — больших ломавых дватцать три пушки да пять
мозжер, а на каторгах и на голетах — больших ломавых по пять, малых по десяти
пушек, на фуркатах — по пяти пушек на судне» плюс 100 тысяч татар с ханом и сераскером. Потери противника Бухвостов оценивал в 4 500 убитыми (4 000 под Таванью и 500 под Казы-Керменом).
Волохи-перебежчики сообщали, что турок было 23 000 чел. - 8 000 с Юсуфом-пашой, 5 000 с упомянутым Алеем и 10 000 с Келчауш-пашой / Мемет Дербишем и флотом. Помимо этого с ханом пришло 4 000 сейменов.
Посольский приказ в официальном отчете силы турок оценивал в 30 000 чел., Белгородской орды - в 10 000 чел. турецкий флот - в 38 боевых (22 галеры и 16 галиасов) и 22 грузовых судна. Потери турок оценивались в 4,5 тыс. человек.
По мнению самих авторов, пехоты враг имел вероятно от 27 до 32 тыс. человек (турки плюс крымские сеймены), конницы - 30-35 тыс. человек (20 тыс. крымцев и 10 тыс. Белгородской орды).
Одним из последствий неудачной осады Тавани стала смена крымского хана. Из под Тавани Селим-Гирей был отозван в Стамбул «для некакого совету». Его место занял калга Девлет-Гирей (официально правил с 1699 года).
* Н. Г. Устрялов История царствования Петра Великого. Том III.
** П. Гордон. Дневник. 1696 - 1698.
1698 год
Днепровский район
Русское правительство не желало отказываться от активных действий - уже 1 декабря 1697 года Долгорукову и Мазепе было приказано в следующем году вновь идти к Тавани и Очакову. Товарищами Долгорукова вновь назначались Л. Ф. Долгоруков и С. Н. Неплюев, к ним добавился также чугуевский воевода Степан Коробьин.
В феврале 1698 года татары вновь большими силами (калга Шахбаз-Гирей и 10 - 12 тыс. татар) атаковали Изюмскую черту. Ущерб оказался весьма значительным - было угнано до 10 тыс. человек полона.
Зимой-весной от языков и перебежчиков были получены сведения о новом походе османов к Тавани. Совещавшиеся 28 - 31 марта в Путивле Мазепа и Долгоруков решили в этом году снова идти к Тавани, выслав вперед себя подкрепления для тамошнего гарнизона.
Выйдя из Белгорода 15 мая, кн. Я. Ф. Долгоруков в конце мая соединился с младшим братом и Неплюевым на Коломаке, а в июне - с Мазепой. Защищать Черту был оставлен С. Коробьин (3 466 чел.). В конце июня, «по татарским вестям», к нему на подмогу был послан Л. Ф. Долгоруков с Мценскими солдатским и рейтарским полками и слободским Острогожским полком.
К Тавани соединенная армия пришла только 21 июля.
Турки и татары в этом году видимо действительно собирались идти к Тавани. По полученным от языков сведениям в Очаков к этому времени пришли силистрийский паша Юсуф (12 000 чел.) и османская эскадра (ок. 70 разнотипных судов, 9 606 человек). Крым обещал выслать в поход 20 000 конницы и несколько тысяч пехоты. Всего противник, таким образом мог собрать до 45 000 чел.
Логика дальнейших событий из текста неясна. Как пишут авторы, узнав о намерении Долгорукова и Мазепы идти к Перекопу (?!)*, крымский калга потребовал от турок перебросить войска Юсуф-паши в Крым для защиты полуострова. 29 июня татары и турецкая конница атаковали лагерь стоявших обозом Мазепы и Долгорукова и были отбиты после многочасового боя. 3 августа Долгоруков и Мазепа решили к Перекопу не ходить, а вместо этого послать к Очакову сборное войско на судах (примерно 10 000 русских служилых людей и казаков), однако «поход окончился безрезультатно, поскольку воеводы не рискнули пройти между Очаковым и Кинбурном».
Так или иначе, турки и татары в этом году к Тавани не пошли, а Мазепа и Долгоруков, постояв какое-то время у Ислам-Кермена, вернулись назад.
Относительно численности русской армии в этом походе имеются разные сведения. [По наряду у Долгорукова должно было видимо быть около 60 000 человек (включая св. 2 000 донцов и калмыков), а со слободскими? казаками 81 000 - 84 000 человек. Фактически на 28 июля имелось ок. 40 000 человек]**.
* Ранее в тексте о таком намерении не сообщалось.
** Петрухинцев Н. Н., Никитина А. А. Последний натиск на степь в XVII столетии: военная кампания 1698 г. как финал «петровской войны» с Турцией
Донской район
В Азов в этом году был послан Рязанский полк А. П. Салтыкова, [по наряду - 12 417 человек]*фактически, на 5 июня - 3 984 человека. Противник его не беспокоил.
Дабы воспрепятствовать походам донских казаков на Черное море в Керчь была послана турецкая флотилия (13 галер), все лето простоявшая в Керченском проливе.
В регионе продолжалась и обычная малая война всех со всеми.
* Петрухинцев Н. Н., Никитина А. А. Последний натиск на степь в XVII столетии: военная кампания 1698 г. как финал «петровской войны» с Турцией
1699 - 1700 годы
7 / 17 октября 1698 года было объявлено о перемирии между турками и членами антитурецкой коалиции - на время проведения переговоров в Карловице (Сремских-Карловцах). 14 /24 января 1699 года Россия заключила с турками двухлетнее перемирие.
Активных боевых действий в это время стороны уже не вели, однако малая война продолжалась повсеместно.
***
Таким образом, на завершающем этапе войны в боевые действия на «русском фронте» оказалась в значительной мере вовлечена сама Османская империя. Турки потеряли Азов и нижнеднепровские крепости, попытки вернуть последние провалились, однако османам удалось остановить дальнейшее продвижение русской армии и удержать Очаков.
Война на Северном Кавказе и в Северном Прикаспии
скрытый текст
Под Северным Кавказом тут у авторов понимается в основном то, что во времена Кавказской войны именовалось Левым флангом - пространство между Кабардой и Каспием.
Османские войска здесь совершенно не появлялись, крупные силы крымцев появлялись трижды - в 1688 году калга приходил разорять терские городки; в 1689 году крымцы осаждали Терки; в 1697 году крымцы, теперь возглавляемые калгой, снова осаждали Терки. Детали этих походов и осад практически неизвестны. Помимо этого кто-то из крымских Гиреев - калга, нураддин, султаны, почти постоянно стоял в Кабарде, обеспечивая лояльность местных черкесов.
Из местных владетелей наибольшие проблемы России создавал тарковский шамхал Будай, формально числившийся в русском подданстве, но давно не получавший государева жалованья. Шамхал постоянно захватывал выброшенные на берег штормами торговые русские и персидские суда, игнорируя требования русских властей о возврате людей и товаров, а с 1687 года начал уже и прямо нападать на русские владения, посылая людей под Астрахань и в другие места. В 1689 году шамхал вместе с крымцами и черкесами осаждал Терки. Единственным желанием шамхала было при этом возобновление государева жалованья.
В 1688 году в регионе впервые появляются беглые донские казаки-старообрядцы. Часть из них поселилась на Куме (в урочище Можары - нынешний Буденновск) во владениях князя Большой Кабарды Мисоста Казыева (вскоре большая часть поселенцев ушла отсюда к шамхалу), а большая часть во владениях шамхала, на острове Аграхань. Устроившись на Аграхани, раскольники занялись морским разбоем (1690 год) и весьма преуспели - морское сообщение с Терками оказалось фактически прервано, а русско-персидская торговля терпела большой урон. На промысел в море ходило до 5 раскольничьих стругов (по 70 человек на каждом), т. е. всего до 350 человек, включая 50 людей самого шамхала. В октябре 1691 года обнаглевшие раскольники пытались даже захватить посланного в Терки морем нового воеводу - Василия Нарбекова.
Дабы решить, наконец, этот вопрос русское правительство в 1692 году отправило шамхалу казну, одновременно послав какие-то войска на Аграхань. Шамхал согласился вывести раскольников с Аграхани - «с полтораста человек» из них пришли на Терек с повинной, остальные («человек с семьсот, кроме жен и детей») ушли на Кубань, но по дороге были атакованы и разгромлены на Сунже кем-то из местных владельцев (сентябрь 1692 года). Детали этого разгрома, число побитых и уцелевших раскольников, состав победителей и проч. чрезвычайно разнятся в показаниях разных свидетелей. В любом случае, какая-то часть раскольников уцелела и благополучно дошла до Кубани, соединившись с тамошними ахреянами.
Посылка казны шамхалу оказалась одноразовым действием и уже в 1693 году он вернулся к прежним занятиям. Вскоре к шамхалу вернулась и какая-то часть раскольников, с весны 1694 года вновь занявшись морским разбоем. Постоянно на Аграхани жило теперь, впрочем, немного людей и большая часть раскольников видимо эпизодически приходила на промысел с Кубани. Окончательно справиться с морским разбоем русским властям удалось видимо лишь на рубеже веков, заведя в Астрахани морскую «яхтенную» флотилию.
В 1697 году шамхал вновь помогал крымцам осаждать Терки (безрезультатно).
В последние годы войны обострились отношения татар и Аюки. В 1696 разные группы ногаев, ранее подчинившихся калмыцкому хану (едисанцы и проч.), откочевали на Кубань и передались под власть Крыма. Аюка ответил на это масштабными походами на Кубань. Так, на рубеже 1697 - 1698 года на Кубань ходили сыновья хана Гунджаб и Санджаб с 6 000 калмыков, отогнав у ногаев несколько десятков тысяч лошадей и взяв 200 пленных.
Сам Аюка, вместе с племянником Мункотемир и 20 000 калмыков в конце 1697 года ходил в верховья Кубани и Кабарду, громя ногаев и черкесов и отогнав 17 000 лошадей.
В целом, к концу войны влияние Крыма в регионе снизилось, часть черкесских владетелей и традиционно многовекторных ногаев выражала даже желание перейти в русское подданство. В 1698 году замириться с русскими возжелал и шамхал. Существенно возросло влияние Аюки, в начале войны ограничивавшегося нападениями на наиболее слабых кумыкских владетелей, а к концу 1690-х предпринимавшего уже масштабные походы против соседей.
Русское правительство здесь придерживалось, по мнению авторов, «сугубо оборонительной стратегии, стремясь сохранить имеющиеся позиции и лишь отвечая на нападения противника».
Война и идеология: распространение информации и презентация событий в публичном пространстве
скрытый текст
Как отмечают авторы, война 1686 – 1700 годов была первым в истории России конфликтом материалы о котором российские власти систематически передавали европейским газетчикам. Эта практика ненадолго прервалась после переворота 1689 года, но позднее возобновилась. При этом публикации зарубежной печати использовались и во внутриполитической борьбе. Так, в 1680-х статьи иностранных газет, основанные на переданных кн. В. В. Голицыным материалах, переводились, включались в куранты и зачитывались в Думе. Информация о военных усилиях русского государства распространялась также через русских резидентов за границей, иностранных в России и проч.
Население самой России информировалось о военных событиях традиционным способом - сообщения разного рода зачитывались в церквах и выкликались на торгах. С 1695 года сведения о военных действиях начинают распространяться также посредством рукописных сборников. Как отмечают авторы, соответствующие тексты основывались на официальных документах, а инициатором их распространения был видимо близкий в то время к Петру думный дьяк Андрей Виниус.
Из прочих нововведений можно отметить триумф устроенный в Москве возвращавшемся после взятия Азова войскам. За Большим каменным мостом через Москву-реку была возведена триумфальная арка, с которой А. Виниус читал стихотворные поздравления Ф. Я. Лефорту и А. С. Шеину. По другой версии, поздравления «по письму» зачитывал, через «великую жестяную трубу» с раструбом, вставший на арке «в скрытном месте» подьячий Посольского приказа И. Герасимов, «и та ево речь всему народу была слышна и явна будто гром гремел».
Российская дипломатия на завершающем этапе войны. Константинопольский мир
скрытый текст
Взятие Азова породило у Петра надежды на успешное продолжение войны. В марте 1697 года в дипломатическое турне по Европе отправилось Великое посольство, основной задачей которого было укрепление и расширение антитурецкого союза. Довольно быстро выявилась тщетность этих надежд. Катастрофический разгром османской армии при Зенте (11 сентября 1697-го) сделал поражение турок неизбежным, а надвигающийся конфликт вокруг испанского наследства, требовал скорейшего высвобождения сил империи для борьбы на западе. Этого же хотели будущие союзники Габсбургов в Войне за испанское наследство, Англия и Голландия, выступившие посредниками в переговорах с турками. Предварительные консультации о заключении мира начались уже в декабре 1697 года.
Неизбежность скорого замирения союзников с турками вскоре стала ясна и Петру, посетившему, вместе с Великим посольством, Вену (июнь - июль 1698 года). Сам Петр к этому времени еще не определился с будущим турецкой войны - продолжать ли воевать с османами в одиночку или добиваться своих целей на совместных мирных переговорах с Портой. Так и не сделав окончательного выбора, царь решил оставить русского представителя для участия в предстоящем мирном конгрессе.
Этим представителем стал один из руководителей Великого посольства, опытный дипломат* думный дьяк Прокофий Богданович Возницын, произведенный в специально придуманный чин «думного советника». Возницыну были даны официальные полномочия для заключения мирного договора и неофициальная инструкция саботировать работу конгресса.
Мирный конгресс открылся в октябре 1698 года и проходил в лагере устроенном в полях у Карловиц (Сремских-Карловиц). Переговоры с турками представители четырех держав-союзниц (Габсбурги, Венеция, Польша, Россия) вели раздельно и не напрямую, а посредством медиаторов-посредников (англичан и голландцев).
Возницын, войдя в прямой контакт с руководством турецкой делегации, в рамках данных ему инструкций, пытался сорвать конгресс - туркам было неофициально предложено заключить с Россией временное перемирие, продолжив войну с другими державами. Успеха эта попытка, впрочем, не имела.
Камнем преткновения в официальных переговорах с османами стала судьба днепровских городков - турки категорически настаивали на их возвращении. Поддержки у союзников в этом вопросе Возницын не нашел, времени на получение инструкций от Петра не имел (дать необходимую отсрочку союзники также не пожелали) и предпочел ограничиться заключением временного перемирия. 14 / 24 января 1699 года между Россией и Османской империей было заключено перемирие на 2 года. Условия окончательного примирения должны были определиться на новых переговорах.
16 / 26 января были подписаны мирные соглашения между другими участвовавшими в войне державами. Габсбурги заключили с турками перемирие на 25 лет, получив Венгрию, Славонию и Трансильванию. Польша подписала с турками Вечный мир, получив назад Подолию с Каменцом и Правобережную Малороссию. От имени Венеции был подписан предварительный договор (позднее утвержден правительством республики) - венецианцы получали Далмацию, Ионические острова и Морею. Все союзники России при этом поступились частью контролируемых территорий - поляки, в частности, вернули османам ряд крепостей в Молдавии.
Петр к весне 1699 года определился в целом с перспективами своей внешней политики - воевать было решено со шведами, а с турками, соответственно, мириться. Летом 1699 года в Стамбул было отправлено новое русское посольство, во главе с думным дьяком Емельяном Игнатьевичем Украинцевым и дьяком Иваном Чередеевым.
Послов на этот раз отправили морем - на свежепостроенном на Дону корабле «Крепость» (46, по другим сведениям 36 пушек, экипаж большей частью из иноземцев + 111 преображенцев и семеновцев).
В августе 1699 года «Крепость», сопровождаемая ведомой лично Петром Азовской флотилией пришла к Керченскому проливу. После двухнедельных переговоров с османами последние согласились пропустить посольский корабль в Стамбул и 6 сентября он прибыл в турецкую столицу.
Переговорная позиция России сводились к следующему: заключение мира или перемирия на длительный срок; сохранение всех занятых русскими территорий; прекращение выплаты поминок Крыму; обмен пленными; взаимная свобода торговли; свобода православного исповедания; передача Гроба Господня православным. Последние три позиции рассматривались как дополнительные и по ним допускался компромисс.
Турки, в свою очередь, официально желали возврата к довоенному положению по всем позициям.
Главным камнем преткновения на переговорах вновь стали днепровские городки - турки требовали их возврата в полной сохранности, русская сторона отдавать поначалу отказывалась вообще.
Переговоры проходили в сложнейших условиях - с трудом преодолевавшему сопротивление оппонентов Украинцеву приходилось одновременно отбиваться от Петра, жаждавшего поскорее начать войну со шведами. Так, получив от Петра в феврале 1700-го указание согласиться на передачу туркам днепровских городков, Украинцев его фактически игнорировал, добившись в итоге приемлемого для России компромисса.
Итогом трудных переговоров стало заключение 3 / 14 июля 1700 года Константинопольского мирного договора.
По условиям договора стороны заключали перемирие на 30 лет. Город Азов с прилегающими территориями («старые и новые городки, и меж теми городками лежащая… земля… вода») переходил к России. Земли к востоку от Азова на 10 часов «ездою конскою обыкновенным… обычаем» также переходили к России. Территория днепровских городков возвращалась туркам, однако сами городки полностью разрушались (в течении 30 дней после ратификации договора) и строительство новых укреплений здесь запрещалось.
Часть крымских и турецких земель Северной Таврии объявлялась буферной зоной - здесь разрешались свободные промыслы и запрещалось строительство новых поселений.
Выплата поминков Крыму отменялась, запрещались взаимные набеги, устанавливались условия обмена пленными.
Вопросы свободы торговли, свободы веры и Гроба Господня были отложены на будущее.
Помимо прочего, как отмечается, договор заключался напрямую с султаном, без участия Крыма, дипломатический статус которого соответственно резко понижался - он переставал быть стороной конфликта.
В Москве о заключении мира узнали 9 августа, 16 августа сюда прибыли гонцы от Украинцева с официальными бумагами и копией трактата, 18 августа Петр официально объявил о мире с турками и на следующей же день объявил войну шведам.
Сами посланники вернулись в Москву 10 ноября. Ратификационная «утвердительная грамота» была подписана 30 декабря 1700 года, посольство кн. Д. М. Голицына, везущее ее в Стамбул, покинуло Москву 19 января 1701 года. До Адрианополя, где проводил лето султанский двор, Голицын добрался в мае, 17 июня русская ратификационная грамота была вручена султану, ответную османскую, датированную 25 июля, Голицын получил 7 августа. В Москву она прибыла только в январе 1702 года.
Приказы об оставлении днепровских городков были высланы на места уже в августе 1700 года, однако из-за задержки с ратификацией мирного договора их эвакуацию отложили до лета 1701-го. В сентябре того же, 1701 года, на левом берегу Днепра, напротив Сечи, была устроена новая крепость - Каменный Затон [на том же месте, что и голицынская?].
Осенью 1704 года было проведено межевание границы к востоку (и видимо к западу) от Азова. Осенью 1705 года было проведено разграничение к западу от Днепра.
* В 1668 году ездил гонцом в Вену и Вененцию, в 1671 - 1676 ездил с дипломатическими поручениями в Польшу, в 1681 - 1682 годах возглавлял посольство в Стамбул, в 1686 году участвовал в подготовке Вечного мира с Польшей, в 1688 - 1689 годах был резидентом в Польше.
***
Как отмечают авторы, «положения Константинопольского мира 1700 г. оказали значительное влияние на весь Черноморский регион и граничащие с ним страны. Для России и Османской империи впервые устанавливалась общая сухопутная граница, что создало новую «модель взаимоотношений», в рамках которой предпринимались попытки установить «пограничный режим без участия таких второстепенных субъектов международных отношений, как Крымское ханство и Войско Запорожское Низовое». По итогам мирного соглашения наиболее «пострадавшей» стороной оказалось Крымское ханство, исключенное, несмотря на активнейшее участие в боевых действиях, как из переговорного процесса (и, соответственно, лишенное возможности влиять на выработку условий договора), так и из системы его субъектов (сторон, заключающих
трактат). Результатом стало снижение статуса крымского хана до уровня правителя вассального регионального полугосударственного образования, с которым вели переговоры такие же руководители приграничного региона: азовский воевода (губернатор) или малороссийский (украинский) гетман».

* * *
К известном спору о боевых холопах. В Крымском походе 1689 года в официальных росписях потерь никаких послужильцев нет, а потери среди них фактически есть - известны по сказкам московских чинов (см. А. Г. Гуськов, К. А. Кочегаров, С. М. Шамин «Русско-турецкая война 1686 - 1700 годов»).
При этом всего авторы насчитали в потерях 1 323 человека (222 убитых, 1 028 раненых и 73 пленных), а боевых холопов только по известным сказкам московских чинов Большого полка потеряно 42 (8 убитых, 7 раненых, 27 пленных) + 4 без вести пропавших, т. е. примерно 3% от общего числа.
Если считать только русских служилых людей, без слободских казаков, всего потеряно 606 человек и 42 послужильца это уже почти 7%. А самих московских чинов Большого полка потеряно всего 22 человека и 42 послужильца это почти по двое на каждого.

* * *
Пушки первых Романовых: русская артиллерия 1619–1676 годов
Автор остается верен прежнему... хаотическому, скажем так, стилю. Есть интересное, особенно по Алексею Михайловичу.
скрытый текст
Михаил Федорович
скрытый текст
Компетенция Пушкарского приказа в описываемый период то сужалась, то расширялась. К началу XVII века приказ ведал городовым делом во всех городах (кроме поволжских и сибирских, до 1672 года ведавшихся Казанским дворцом и Сибирским приказом). С 1637 года городовое дело в городах Северо-Запада России (Новгород, Псков и окрестности) ведалось Новгородской четвертью. В части прочих городов городовое дело оказалось в руках Разряда и Устюжской четверти. На 1629 год Пушкарский приказ ведал 83 городами, на 1637 год - 64, на 1647 год, по неполным данным - примерно 100 городами. Города не находящиеся в ведении приказа снабжались артиллерией по запросу.
Восстановленный Пушечный двор возобновил работу в 1616 году, однако производил в основном орудия малых и средних калибров. В 1616 году была отлита 23-фунтовая пищаль «Ахиллес», затем отливка тяжелых орудий вновь прервалась и ненадолго возобновилась лишь в конце 1620-х. В 1627 году здесь, под руководством Андрея Чохова, были отлиты две новые проломные пищали - 30-фунтовый «Кречет» и 40-фунтовый (пудовый) «Волк» (уже третий по счету). Сведений о производстве в 1620 - начале 1630-х других тяжелых орудий, как пищалей, так и мортир, не имеется.
В начале 1630-х русское правительство начинает покупать тяжелые орудия (12 - 55 фунтов) в Голландии. Большая часть этих орудий отливалась голландскими литейщиками по заказу русских властей. Так, в 1630 году известный литейщик Элиас Трип через Томаса де Свана («торгового человека голландской земли Томаса Романова Свана») подрядился отлить для русского правительства 12 орудий и уже в том же году изготовил в Амстердаме 10 из них. В 1633 году упомянутый де Сван подрядился поставить в Россию 72 орудия и т. д.
Таким образом, к началу Смоленской войны русская осадная артиллерия состояла из сохранившихся к этому времени орудий произведенных в конце XVI - начале XVII века, трех проломных пищалей отлитых при царе Михаиле и некоторого числа успевших доехать до России голландских орудий.
Основу производства Пушечного двора в начале царствования царя Михаила составляли более актуальные орудия средних и малых калибров. [Продолжали массово производиться «полуторные» пищали, в основном «большие» 6-фунтовые]. «Малые» (3-фунтовые, весом до 25 пудов и длиной ствола чуть больше 4 аршин / 285-290 см) и «средние» (4-фунтовые, весом от 33 пудов и длиной ствола св. 4 аршин / от 290 см) полуторные пищали производились видимо в небольшом количестве.
[С 1617 года массово производились также полковые пушки «русково литья» (калибр 1,5 и 2 фунта, вес 8-9 пудов, длина ствола аршин и 10 вершков / ок. 115 см), использовавшиеся и в качестве крепостных орудий, а также тюфяки. В провинции (Устюжна, Тула) массово делались малокалиберные кованые железные орудия - затинные пищали и, вероятно, фальконеты].

2-фунтовая пищаль «русково литья».
1640-е годы. Мастер Тимофей Феоктистов. Калибр 2 гривенки / фунта (63 мм). Длина 1 аршин 10 вершков (без винограда - 118 см, с виноградом - 130 см). Масса - 10 пудов 24 фунта (173,5 кг). ГИМ (фото мои, этикетка гимовская).
Сближение со Швецией в начале 1630-х годов привело к появлению в производственной программе Пушечного двора орудий нового типа - скандинавы оказались готовы поделиться технологиями.
В 1630 году прибывший из Швеции пушечный мастер Юлиус Коет (валлонец Жиллем Койе, в России - «немчин Елисей Коет») начал делать на Пушечном дворе кожаные пушки шведского образца (тонкостенный бронзовый ствол в кожаном кожухе, позволявший стрелять только картечью, калибр 1-3 фунта, вес 3-4 пуда).
Как и в Швеции, новинка не прижилась - из-за плохой теплопроводимости ствол орудия часто разрывался. Из 104 сделанных Коетом пушек испытания пережили всего 32 орудия. Позднее они видимо были распределены по крепостям - встречаются в описях артиллерии Переяславля-Рязанского (1646 год, 2 шт.), Смоленска (1671 год, 1 шт.), Пскова (1696 год, 5 шт.).
Вместо кожаных пушек в 1631 году тот же Коет начал делать на Пушечном дворе другие пушки шведского типа - аналог известных regementsstycke (калибр 3-4 фунта, вес 8 пудов, длина - 1,5 аршина / ок. 100 см). К августу 1632 года к походу было готово 116 таких орудий, составивших артиллерию полков нового строя (по 1 пушке на роту). Все они были потеряны под Смоленском.
Крупнейшим военным мероприятием царствования стала осада Смоленска в 1632 - 1634 годах. Армию Шеина сопровождал внушительный наряд включавший 158 орудий, обслуживаемых 184 московскими пушкарями.
Большой наряд состоял из 26 стволов - 19 пищалей, в т. ч. 12 русских (70-фунтовый «Инрог», 55-фунтовый «Пасынок», 40-фунтовый «Волк», 30-фунтовый «Кречет», 23-фунтовый «Ахиллес», 16-фунтовая «Грановитая», 14-фунтовый «Коваль», 13-фунтовая «Гладкая», 12-фунтовые «Стрела», «Вепрь» и «Гладкая», 10-фунтовая «Гладкая») и 7 безымянных голландских (по одной 26- и 20-фунтовой и 5 13-фунтовых) и 7 крупнокалиберных мортир (2 6-пудовых, 4 4-пудовых и одной 2-пудовой).
Имелось также 16 пищалей среднего калибра - 2 8-фунтовых, 2 6-фунтовых, 6 4-фунтовых и 6 3-фунтовых.
Полковой наряд состоял из 116 коротких 3-фунтовых пушек шведского образца.
Все это богатство было потеряно под Смоленском.
В ходе Смоленской войны на Пушечном дворе было отлито несколько новых осадных орудий. В 1632? году был отлит 50-фунтовый «Троил»* на войну из-за доделок уже не попавший. В 1634 году были отлиты сразу четыре крупнокалиберных пищали - 35-фунтовый «Аспид», 18-фунтовые «Барс» и «Грановитая» и 15-фунтовый «Соловей»**. Помимо этого было изготовлено какое-то число мортир, так, известны 2 2-пудовые мортиры отлитые в 1633 году. В 1636 году немецким мастером Гансом Фальком были отлиты две 15-фунтовые пищали «Лев» («Левик») - обе позднее потеряны под Нарвой.
Основным способом пополнения осадной артиллерии сделались, однако, зарубежные закупки. В 1634 - 1636 годах в Голландии были произведены новые крупные заказы осадных орудий. Купленные «галанки» составили основу русского осадного парка и были в большом количестве распределены по крепостям. Всего в 1630-х годах в Россию было ввезено не менее 50 голландских орудий калибром от 13 до 58 фунтов.
Основной продукцией Пушечного двора после Смоленской войны вновь сделались орудия среднего и малого калибра. Производство полуторных 6-фунтовых пищалей продолжалось (хотя видимо уже и в небольшом количестве) до 1648 года, когда было отлито два последних орудия этого типа.
Выпуск пушек шведского образца после окончания Смоленской войны и смерти Юлиуса Коета (1634 год) прекратился и Пушечный двор вернулся к выпуску орудий «русково литья», временно прерванному? шведскими экспериментами.
Со второй половины 1630-х годов, параллельно с пушками «русково литья» начинают массово выпускаться полковые орудия нового типа - однотипные 2-, 3- и 4-фунтовые (длина ствола 2 аршина «бес чети» (ок. 130 см), вес около 9-11 пудов). Только в 1638 - 1641 годах на Пушечном дворе было отлито 210 орудий этого типа (53 2-фунтовых, 30 3-фунтовых, 34 4-фунтовых + 93 ствола калибр которых точно неизвестен). Большая их часть также шла не в полки, а в крепости, в основном на юге России. На изготовление каждой такой пушки требовалось, в среднем, 15,5 пудов меди и ок. 1,57 пуда олова.

2-фунтовая пищаль длиной два аршина без чети.
1640-е годы. Калибр 2 гривенки / фунта (63,5 мм). Длина 2 аршина без чети (без винограда - 133,5 см, с виноградом - 145 см). Масса - 6 пудов 24 фунта (108 кг). ГИМ.
Главным литейщиком Пушечного двора, сменившим умершего Коэта, в 1635 году становится выходец из Нюрнберга Ганс Фальк, известный и опытный специалист. Долгое господство русских мастеров на Пушечном дворе в 1630-х годах, таким образом, заканчивается - после смерти Чохова главную скрипку вновь начинают играть приглашенные иноземные специалисты, сначала Коет, затем Фальк.
На 1645 год на Пушечном дворе числилось 6 литейщиков - Иван (Ганс) Фальк, Григорий Наумов, Алексей Якимов, Михаил Иванов, Давыд Кондратьев, Николай Баранов и 33 их ученика (от 3 до 8 у каждого мастера). Наумов и Якимов были учениками Андрея Чохова, Кондратьев и Баранов - Кондратия Михайлова, а Иванов - упомянутого А. Якимова.
В 1641 - 1643 годах Пушечный двор был реконструирован - устроены новые амбары и литейная, водяная мельница и проч. На время реконструкции производство видимо пытались перенести в другие места. Так, известный Христофор Рыльский был послан в Ливны и делал там какие-то пушечки и органки, позднее привезя их в Москву. В Костроме некий А. Комаев взялся лить пищали по присланным образцам, но не преуспел - «те его пищали худы, не против образца».
* Автор Григорий Наумов. К этому времени имелся еще один, более ранний, 60-фунтовый «Троил», отлитый в 1590 году А. Чоховым.
** Пищали с такими названиями также отливались неоднократно. «Барс», «Грановитая» и «Соловей» отлитые в 1634 году были потеряны под Нарвой. Калибр этих орудий в тексте не указывается и приведен по другой работе автора - Великанов В.С. Лобин А.Н. Русская артиллерия в Нарвском походе 1700 г. В следующей главе сам автор приводит другие значения.
Алексей Михайлович
скрытый текст
Царь Алексей проявлял большой интерес к военному делу и, в частности, к артиллерии, в артиллерийской области интересуясь прежде всего мортирами и снарядами к ним, а также разного рода новинками.
Крупнокалиберных пищалей в новое царствование по-прежнему практически не делали, лишь в последние годы правления Алексея Михайловича было изготовлено два больших орудия.
В 1669 году Харитон Иванов отлил 50-фунтовую пищаль «Кречет» весом почти в 582 пуда. В 1670 году Мартьян Осипов отлил на Пушечном дворе огромную 70-фунтовую пищаль «Единорог» (длина ствола 10 аршин = 7,1 метр, вес - 779 пудов = 12 467 кг, калибр - 220 мм).
Имеются также сведения о работах по отливке в 1651 году большой пищали «Юнак», однако в описях она не встречается - видимо так и не была закончена.
Состав проломных пищалей пополнялся в основном за счет новых закупок в Голландии, где в 1660-х годах делались новые заказы, а также трофеев.
При этом Пушечный двор в значительных количествах лил осадные мортиры, в основном 2- и 3-пудовые (всего было отлито не менее нескольких десятков стволов). Крупнейшая из них была отлита к походу 1654 года - вес орудия достигал 87 пудов, а калибр - 3 пудов 25 фунтов.
К концу царствования наметилось снижение веса производимых мортир - при сохранении той же длины ствола они «похудели» примерно на 30%. Так, 2-пудовые мортиры отлитые в 1650-х годах весили примерно 36 пудов, а отлитые в конце 1660-х - примерно 22,5 - 25 пудов. Вес 3-пудовых мортир снизился с 70 до 45,5 - 55 пудов.
В Государевом походе 1654 года и осаде Смоленска участвовало 40 пищалей Большого наряда - 34 «голанки» (2 58-фунтовых, 2 55-фунтовых, 6 50-фунтовых и 6 47-фунтовых), 6 русских пищалей (чоховский 60-фунтовый«Троил» и отлитые при царе Михаиле 35-фунтовый «Аспид», 25-фунтовый «Соловей», 20-фунтовый «Барс», 16-фунтовая «Грановитая», 15-фунтовый «Левик»)* и 6 тяжелых мортир.
По опыту Смоленска состав Большого наряда был признан чрезмерно громоздким и в походе на Вильну в 1655 году участвовали лишь 22 крупнокалиберных пищали и 8 мортир.
В 1656 году в походе на Ригу в состав Большого наряда входили 22 крупнокалиберных пищали - 6 русских (тех же, что и под Смоленском) и 16 голландских (2 58-фунтовых, 2 55-фунтовых, 6 50-фунтовых и 6 47-фунтовых) и уже 11 тяжелых мортир.
Число используемых проломных пищалей, таким образом, сократилось, а число тяжелых мортир, напротив, росло от похода к походу.
Позднее в рамках Большого наряда оформилось отдельное формирование почти целиком вооружавшееся голландскими осадными орудиями - «Большой голландский наряд». В марте 1673 года, указом царя Алексея, велено было «для государского походу по турским вестям» отправить в Путивль «Большой галанский наряд» в составе 25 орудий: 6 30-фунтовых, 4 25-фунтовых, одной 20-фунтовой, одной 12-фунтовой, 7 8-фунтовых и 5 6-фунтовых голландских пищалей и 28-фунтовой пищали «Перо» (трофейная быховская).
К ноябрю 1676 года «Большой государев и голландский наряд», хранившийся в «пушечном болшом анбаре» позади иконного ряда Китай-города, включал 83 пищали.
После 1656 года крупнокалиберные пищали в походах практически не участвовали и при осадах полковая артиллерия обычно усиливалась тяжелыми мортирами. Так, в армии кн. А. Н. Трубецкого, осаждавшей в 1659 году Конотоп, имелось 38 полковых и 10-12 скорострельных пушек и 3 тяжелых мортиры - 2 3-пудовые и гигантская 12?-пудовая мортира, отлитая при Самозванце в 1605 году. Последняя из-за огромного веса была брошена при отступлении и захвачена казаками, позднее вернувшими ее русским властям.
Мортиры, огневые возможности которых существенно возросли за счет массового использования разрывных снарядов - гранат и бомб, в это время вообще стали использоваться гораздо шире чем раньше. Помимо тяжелых 2- и 3-пудовых осадных мортир русская армия широко использовала пудовые мортиры, весом в 16-20 пудов, придававшиеся солдатским полкам, в незначительных количествах (по описям 1670-х известно не более 5-10 единиц) использовались также полупудовые мортиры.
В части производства орудий среднего и малого калибров произошли определенные изменения. Выпуск 6-фунтовых полуторных пищалей в 1648 году прекратился. Полковые пушки в начале царствования Алексея Михайловича лились по прежним образцам - параллельно выпускались 2-, 3- и 4-фунтовые орудия длиной в 2 аршина без чети и 1,5 - 2-фунтовые короткие пушки «руского литья».
Последние в начале Тринадцатилетней войны являлись фактически стандартным типом полковых орудий. Так, к походу 1654 года было заготовлено 115 таких орудий, поступивших на вооружение солдатских, стрелецких и драгунских полков. Производство орудий этого типа с перерывами продолжалось до 1661 года.
Результатом боевого опыта полученного в годы Тринадцатилетней войны стал переход на более дальнобойные системы. В 1662 году в производство пошла новая 2-фунтовая полковая пищаль. Длина ствола нового полкового орудия была существенно увеличена (3 аршина 7 вершков против 1 аршина 10 вершков у пушек «русково литья»). Пищаль вскоре сделалась стандартным типом полкового орудия и в больших количествах выпускалось до 1698 года. В 1662 - 1698 годах было выпущено не менее 800 орудий этого типа: в 1662 - 1663 году - 100 шт., в 1664 году - 60, в 1671 году - 165 (заказано, неизвестно был ли заказ выполнен полностью), в 1676 году - не менее 41 и т. д.
Орудия имели стандартные характеристики - калибр 2 фунта (62-65 мм), длину ствола в 3 аршина 7 вершков (ок. 250 см), вес 19 - 23 пуда и отличались только внешней отделкой (что и отражалось на весе).

2-фунтовая пищаль длиной 3 аршина 7 вершков.
1666 год. Мастер Мартьян Осипов. Калибр 2 гривенки / фунта (67 мм). Длина 3 аршина 7 вершков (без винограда - 243,4 см, с виноградом - 254 см). Масса - на стволе указано два веса: 19 пудов 25 гривенок (321,5 кг) и 18 пудов 30 гривенок (307 кг). ГИМ.
Помимо этого в 1660 - 1670-х годах в довольно значительном количестве выпускались «инновационные» скорострельные пушки - казнозарядные орудия с железным клиновым затвором и картузным заряжением.
Автором конструкций этих орудий был видимо известный инженер, полковник и генерал русской службы Николай Бауман. Часть из них заказывалась в Германии (в Любеке и пр.), часть делалась на Пушечном дворе. Так, в 1660 году в Россию из Германии были доставлены заказанные у мастеров Николаса Визе и Германа Генинга 3-фунтовые скорострельные пищали «мерою 2 аршина» (142 см). В 1662 году Харитон Иванов отлил на Пушечном дворе 2 аналогичных орудия.
Позднее изготавливались также 3-фунтовые орудия с длиной ствола в 3 аршина (213 см) и весом в 10 пудов. Сохранилось описание 5 подобных орудий отлитых для русской армии в Германии.
В дальнейшем выпускались и пищали с еще более длинным стволом (4 аршина). По описаниям известны 11 орудий произведенных в 1662 - 1671 годах (из которых в 1662 году отлито четыре, в 1669 году - шесть, в 1671 году - одно), калибром в 3 фунта, длиной ствола в 4 аршина и весом от 29 пудов до 36 пудов 30 фунтов.
Известны также легкие «драгунские» скорострельные орудия, калибром в 3/4 фунта, длиной ствола в 2 аршина и весом в 5-6 пудов, выпускавшиеся видимо в совсем малом количестве.
Помимо пищалей стрелявших ядрами изготавливались также пищали дробовые, с коротким стволом и раструбом в дульной части. По описаниям известны 8 таких орудий сделанных в Германии. 6-фунтовые орудия, с длиной ствола в аршин и 6 вершков (96 см) и весом от 8 пудов 25 фунтов до 9 пудов 30 фунтов, стреляли готовыми картузными выстрелами, начиненными дробью.
Всего, таким образом, серийно производилось 5 типов скорострельных орудий: 3-фунтовые пищали с длиной ствола в 2, 3 и 4 аршина; легкая 3/4-фунтовая пищаль и 6-фунтовая дробовая пищаль. Благодаря высокой скорострельности они могли эффективно использоваться против конницы, однако были сложны и в производстве и в эксплуатации.
Скорострельные орудия выпускались видимо в достаточно заметном количестве. Так, недатированная роспись кн. Ю. И. Ромодановского (судья Пушкарского приказа в 1665 - 1675 годах) предписывает произвести 24 пушки «скорострельные и дробные», в документах приказа за 1670 год упоминается заказ на 13 лафетов к дробовым скорострельным пищалям и т. д.
Скорострельные пищали устанавливались на лафеты особого типа, специально для них производившиеся - «станки скорострельные». Массово производились также жестяные картузные выстрелы для скорострельных орудий. Упомянутая роспись Ромодановского предписывает произвести по 150 «с ядрами и дробью картуз» к каждой из 24 пушек (т. е. всего 3600), в 1661 году для пушек Первого выборного полка А. Шепелева была сделана 1 000 картузов и т. д.
Скорострельные пушки состояли на вооружении полка самого Н. Баумана, московских выборных полков и ряда других частей.

Вверху справа - 2-фунтовая пищаль длиной два аршина без чети; под ней - 2-фунтовая пищаль длиной 3 аршина 7 вершков; слева крупно - 2-фунтовая пищаль «русково литья»; внизу по центру - полуфунтовая чугунная пищаль Тульских заводов.
Солдатские полки нового строя имели по 5-8 полковых орудий (как пишет автор - из расчета одно на роту). К началу Тринадцатилетней войны это были однотипные короткие пищали «русково литья», однако по ходу состав полковой артиллерии становился все более разношерстным - выбывшие по разным причинам орудия заменялись разнообразными пушками взятыми взятыми, в основном, из городов.
Драгунские полки в начале Тринадцатилетней войны вооружались примерно также как и солдатские, однако к началу 1670-х годов драгуны имели уже, как правило, по 2 пушки на полк.
Артиллерия стрелецких приказов / полков изначально была разношерстной, включая от 2 до 10 орудий разных типов и калибров (из расчета одно орудие на сотню) - как пишет автор, в основном малокалиберных дробовых (включая скорострельные). Во второй половине 1670-х годов стрелецкие полки начали перевооружаться по схеме полков нового строя - 5-8 стандартных 2-фунтовых пушек с длиной ствола 3 аршина 7 вершков (при этом принцип одно орудие на сотню уже не соблюдался).
Тогда же, во второй половине 1670-х, правительство озаботилось восстановлением стандартного вооружения самих полков нового строя - накопившийся за предыдущие годы разношерстный зоопарк заменялся теми же стандартными 2-фунтовыми полковыми пушками.
В 1660-х годах, по опыту походов Тринадцатилетней войны, из полковой артиллерии была выделена «полевая тяжелая» - «наряд у разрядного шатра», артиллерийский резерв воеводы, включавший длинноствольные орудия калибром выше 3 фунтов и формировавшийся за счет городовых и «присыльных» орудий.
Так, наряд у разрядного шатра Белгородского полка на 1673 год включал 8 орудий:
— 7-фунтовую пищаль «Девица» (из Курска, длина ствола 4 аршина 2 вершка, вес 47,5 пудов, отлита в Москве в 1593/94 году)
— 6-фунтовую полуторную пищаль «Стоновая» (из Вольного, длина ствола 4 аршина полвершка, вес 52 пуда, отлита в Москве в 1629/30 году)
— 6-фунтовую полуторную пищаль «Прибылая» (из Мценска, длина ствола 4 аршина полвершка, вес 50,5 пуда, отлита в Москве в 1628/29 году)
— 4-фунтовую пищаль «Приемная» (из Чугуева, длина ствола 4 аршина с вершком, вес 40,5 пуда,отлита в Москве в 1629/30 году)
— 4-фунтовую пищаль «Соловей» (из Мценска, длина ствола 4 аршина полвершка, вес 36 пудов, отлита в Москве в 1629/30 году)
— 4-фунтовую пищаль «Свистун» (из Усерда, длина ствола 4 аршина полвершка, вес 37 пудов, отлита в Москве в 1629/30 году году)
— 4-фунтовую пищаль «Короткая» (из Хотмыжска, длина ствола 3 аршина 6 вершков, вес 36 пудов, отлита в Москве в 1629/30 году)
— 4-фунтовую пищаль «Молодец» (из Нежина, длина ствола 5 аршина без двух вершков, отлита в Любеке в 1561 году).
В 1675 году под Чигирином у «Прибылой» и «Свистуна» «раздуло стволы» и вместо них из Москвы были присланы две новых пищали - 4-фунтовая (длина ствола 4 аршина, вес 35 пудов, отлита в Москве в 1629/30 году) и 3-фунтовая (1675? года, длина ствола 4 аршина, вес 32 пуда с небольшим). К 1680-м годам белгородский наряд у разрядного шатра включал уже 10 пищалей калибром 4-10 фунтов.
На Пушечном дворе к лету 1654 года трудилось 6 литейщиков - Ганс Фальк, Давыд Кондратьев, Филипп Баранов, Тимофей Феоктистов, Воин Логинов, Иван Антипьев. Фальк, Кондратьев и Баранов в том же году умерли от чумы. На место Кондратьева был назначен Федор Аникеев, ставший главным мастером Пушечного двора, на место Баранова в марте 1655 года назначили Харитона Иванова.
Алексей Михайлович, как уже отмечалось, сам весьма интересовался артиллерийскими вопросами, привечая одаренных специалистов (Николай Бауман и проч.) и в его царствование было создано немало экспериментальных и нестандартных образцов артиллерийского вооружения.
В небольших количествах делались ручные мортирки для метания ручных гранат, тяжелые ручные дробовики, нарезные казнозарядные пищали (использовались в парадно-церемониальных целях), конно-вьючные «пушки рейтарского строю», кожаные пушки (помимо Москвы делались в Новгороде и состояли на вооружении Новгородского полка кн. И. А. Хованского), дерево-земляные пушки и т. д.
* Так у автора, относительно калибров «Соловья», «Барса» и «Грановитой» см. примечание выше. Калибр в 25 фунтов имел другой, чоховский, «Соловей», отлитый при Федоре Ивановиче. Далее по тексту этот смоленский «Соловей» указывается уже как чоховский, 1590-го, а не 1634 года, но калибры «Барса» и «Грановитой» остаются теми же.
Чугунные пушки
скрытый текст
Чугунные орудия были известны в России еще со времен Ливонской войны - среди захваченных в Ливонии трофеев имелись привезенные с Запада литые чугунные пушки. Позднее чугунные орудия эпизодически покупались за границей. Собственным производством чугунных орудий Россия обзавелась во второй половине 1630-х годов, после открытия первого металлургического завода, устроенного в районе Тулы голландцем Андреем Виниусом и его компаньонами, голландцами Петром Марселисом (выходец из Гамбурга) и будущим свекром последнего Филимоном Акемой.
Об артиллерийском производстве на Тульском (или Городищенском) заводе / заводах* в ранние годы известно немного. Здесь выпускались пушки калибром от 1 до 12 фунтов, с чеканными, а не литыми внешними украшениями.
Летом 1645 года А. Виниус сдал казне 328 орудий из 600 заказанных: 75 3-фунтовых (заказано 151), 49 4-фунтовых (100), 53 5-фунтовых (100), 29 6-фунтовых (100), 88 7-фунтовых (100), 35 8-фунтовых (50).
Орудия произведенные сверх заказа разрешалось экспортировать и в 1646 году через Архангельск было вывезено 600, а в 1647 году - 360 пушек калибром 4, 6 и 8 фунтов.
За пушки и ядра казна платила Виниусу попудно - по 70 копеек за пушки и по 25 копеек за ядра.
В 1648 году Марселис и Акема выдавили из партнерства Виниуса и сами сделались хозяевами Тульских заводов, обязавшись поставлять казне по 20 000 пудов пушек ежегодно (по 12 коп. / пуд), позднее, с 1651 года норма поставки изменилась на «сколько государь укажет», в 1658 - 1670 годах обязательные поставки составляли 20 пушек и 6000 пудов ядер в год. В 1670-х годах казна платила Марселису по 30 копеек за пуд пушек и по 24 копейки за пуд ядер.
В том же 1648 году Марселис и Акема устроили еще один металлургический завод - Важский, на реке Ваге, в районе Шенкурска, [имевший собственную домну] и производивший пушечные ядра и гранаты, [но видимо вскоре зачахший]**.
В 1653 - 1656 годах Марселис и Акема устроили Каширские железоделательные заводы ( Ведменский, Саломыковский, Ченцовский и Ёлкинский / Елтинский). Доменного производства на них не было. Как указывает автор, заводы делали ядра, а Ченцовский / Чернцовский позднее лил пушки, [однако доменное производство на Ченцовском заводе появилось, как считается, не ранее 1690 года].
[При открытии Тульских заводов Виниус с компаньонами получили привилегию - монопольное право на строительство и содержание металлургических заводов в России, позднее неоднократно продлевавшуюся. Нарушать ее осмеливались лишь влиятельные царедворцы - в начале 1650-х? годов на реке Протве устроил Поротовский завод тесть Алексея Михайловича И. Д. Милославский, а в 1651 году, в районе Звенигорода, боярин Б. М. Морозов].
В 1656 году Марселис и Акема купили зачахший Поротовский завод Милославского, в 1657 году устроив недалеко от него, на реке Угодке, новый Угодский завод. На Поротовском заводе отливались из чугуна пищали и мортиры, а также гранаты и ядра (в 1673 году закрыт - заливался водой). На Угодском заводе «ковались из железа затинные и скорострельные пищали и стволы пищальные».
[Морозовский Павловский (Звенигородский) завод после смерти боярина в 1661 году был отписан в казну]. Он производил в основном прутовое и связное железо, однако существовало и какое-то артиллерийское производство, масштабы которого неизвестны (вероятно лились небольшими партиями малокалиберные орудия).
В 1662 году П. Марселис попал в опалу и его доля в партнерстве была отписана на государя. Вскоре (в 1663 или 1664 году) по просьбе Ф. Акемы (в опалу не попавшего) имущество компаньонов было разделено. Акема получил Поротовский и Угодский заводы [после его смерти в 1676 году перешли к семейству Меллеров], а доля Марселиса (Тульские и Каширские заводы) осталась за казной.
В 1667 году П. Марселис был прощен и получил обратно Тульские и Каширские заводы. В 1668 году, неподалеку от Каширских Марселисом был устроен еще один завод - Вепрейский / Алексинский, делавший пушки, ядра и гранаты.
В 1672 (или 1675) году П. Марселис умер и заводы перешли к его наследникам.
В 1674 [или 1676] году Андрей Бутенант, еще один выходец из Гамбурга, начал устраивать Олонецкие заводы (позднее также имевшие артиллерийское производство).
[Таким образом, к концу правления Михаила Федоровича в России имелся один чугунолитейный и железоделательный завод (Тульский), а к концу правления Алексея Михайловича - 5 или 6 (Тульский, Каширские, Вепрейский / Алексинский, Угодский, Павловский / Звенигородский, строящиеся Олонецкие). Собственные домны имелись на Тульском, Вепрейском, Павловском, строящихся Олонецких и ранее закрытых Поротовском и Важском заводах и за их пределами чугунное литье вести было нельзя. Массовое производство орудий определенно велось на Тульском заводе, на Павловском оно было незначительным, относительно масштабов производства на Вепрейском и Поротовском заводах никакой ясности нет. Артиллерийские боеприпасы делали видимо все упомянутые заводы].
Как отмечает автор, имеются сведения о производившихся чугунных орудиях (надо полагать, тульских). 8-фунтовые пищали имели ствол длиной в 4 аршина (285 см) и весили 77-78 пудов; 6-фунтовые ствол от 2 аршин до 3 аршин 10 вершков и вес от 26 до 55 пудов; 5-фунтовые - ствол в 2 аршина и вес до 20 пудов 10 фунтов; 4-фунтовые (семи типов) - ствол от 2 аршин до 3 аршин 10 вершков и вес от 20 до 32 пудов; 3-фунтовые (8 типов) - ствол от 1 аршина 9 вершков до 3 аршин и вес от 17 до 29 пудов; 2-фунтовые - ствол от 1,5 до 2,5 аршин и вес от 13 до 30 пудов.
Периодически лились также пушки иных, в т. ч. и нестандартных калибров - 4,5-фунтовые, 5,5-фунтовые и проч. Из-за отсутствия источников логика подобных заказов неясна, возможно орудия производились для конкретных крепостей, имевших большой запас ядер соответствующих калибров и т. п.
Производившиеся чугунные орудия почти целиком шли на вооружение крепостной артиллерии, постепенно тесня бронзовые образцы.

Полуфунтовая чугунная пищаль.
Середина - вторая половина XVII века. Тульские и Каширские заводы (?). Калибр 0,5 гривенки / фунта (40 мм). Длина 2 аршина (без винограда - 144 см, с виноградом - 152 см). Масса - ок. 150 кг. ГИМ.
Помимо пушек заводами в значительном количестве выпускались артиллерийские боеприпасы - ядра и гранаты, а также ручные гранаты. Выпуск боеприпасов особенно усилился в 1660-х годах. Так, в 1668 году Марселису было указано делать [в год?] по 6 000 2-4-фунтовых ядер, 10 000 ручных гранат и гранат больших и средних «по скольку доведетца». На складах Тульского завода в том же году имелось 12 260 ядер калибром в 2-8 фунтов, 3 070 ядер других калибров и 1 304 гранаты.
В 1670 году с железоделательных заводов [всех? Марселиса?] отпущено 34 787 снарядов, в т. ч. 18 339 простых, 6 679 «на чепях» (цепных книппелей), 6 269 «на роздвижных прутьях»(?), 2 000 «розных статей», 2 500 гранат.
В 1673 году на тех же предприятиях велено было отлить 25 000 ядер разных калибров.
В 1675 году на экспорт вывезено 40 000 ядер, 2 356 гранат и 2 943 ручных гранаты.
Тульские и Каширские заводы с 1649 года отчасти ведались Пушкарским приказом, с 1654 года - Большой казной, позднее Тайным приказом и Оружейной палатой. В 1667 году они вновь были переданы в ведение Пушкарского приказа, но уже в 1668 году отданы в Посольский.
* Производство на тогдашних металлургических заводах разносилось на местности из-за энергетических ограничений и многочисленные «заводы» на практике обычно были производственными подразделениями одного предприятия.
** См. Струмилин С. Г. История черной металлургии в СССР и проч.
Крепостная артиллерия
скрытый текст
Городовая артиллерия тяжело пострадала в годы Смуты и ее восстановление заняло не одно десятилетие.
Вплоть до Смоленской войны правительство усиливало в основном крепости на западной границе. В наиболее благополучном положении здесь находился Псков. На 1631 год его артиллерия включала 56 орудий - 8 тяжелых пушек (15-60 фунтов), 24 полуторных пищали (в т. ч. 20 6-фунтовых) и 24 малокалиберных. В запасе имелось еще 55 орудий (в т. ч. 1 тяжелое, 4 полуторных, 4 девятипядных, 10 волконеек, 7 тюфяков и пр.) и 287 затинных пищалей.
В Великих Луках на 1633/34 год имелось 20 орудий (3 полуторных пищали, некое «полоцкое немецкое», одно скорострельное, 5 волконеек, 3 тюфяка, 10 железных) и 38 затинных пищалей. В «казне» имелось еще 58 затинных пищалей и порченых орудий.
В Ржеве Володимировой - 24 орудия (8 пищалей калибром в 2-5 фунтов, 10 волконеек и 6 тюфяков).
В Вязьме - 22 орудия (3 полуторных пищали, 2 полковых, 10 волконеек, 6 тюфяков, скорострельное) и 19 затинных пищалей.
В Осташкове, Торжке, Старице, Волоколамске, Можайске, Боровске имелось в общей сложности 119 орудий (в т. ч. 74 пищали, 24 волконейки, 14 тюфяков и проч.) и 53 затинных пищали.
Среди «северских» городов в наилучшем положении находились Брянск - 21 орудие (5 полуторных, 8 полковых, 4 волконейки, 4 тюфяка) и 37 затинных пищалей, Курск - 15 орудий (5 полуторных, 5 полковых, 2 скорострельных, 3 тюфяка) и 15 затинных пищалей, Путивль - 17 орудий (4 полуторных, 10 полковых, 1 волконейки, сорока), Севск - 14 орудий (12 полуторных и полковых, 2 тюфяка) и 2 затинные пищали и Козельск - 13 орудий (2 полуторных, 10 полковых, тюфяк) и 5 затинных пищалей.
Города на южной границе артиллерией были обеспечены плохо. В лучшую сторону выделялись Валуйки - 17 орудий (7 полуторных и 10 полковых) и 107 затинных пищалей. В Белгороде к началу Смоленской войны было всего 15 пушек (10-фунтовая пищаль, 2 полуторные, 6 полковых, 2 скорострельных, 4 тюфяка), 3 мортиры и 142 затинных пищали. Прочие относительно крупные южные пограничные города имели от 5 до 12 орудий разных типов.
После Смоленской войны состояние городовой артиллерии начало улучшаться - на вооружение во все больших количествах поступали новые орудия, сначала бронзовые, а позднее и чугунные. Старые и порченые орудия отправлялись в Москву на переплавку.
Каких-то других данных по вооружению конкретных городов автор не приводит. Приводятся данные по Белгородской черте, здесь на 1676/77 год в 22? городах имелось 293 (83 бронзовых и 210 чугунных) пищали 21 калибра. Количественно среди них преобладали 4-фунтовые (66 стволов), 3- и 2-фунтовые (по 57 стволов) орудия. 20 и более орудий имели 5 городов черты - Белгород (38), Яблонов (30), Новый Оскол (26), Воронеж (22), Усмань (20).
Номенклатура городовых орудий на 1647 и 1678 год включала «пищали большие/ломовые, полуторные, полковые, волконейки, голландские, хвостуши, дробовые, грановитые, травчатые, сороковые, скорострельные, короткие, верховые, огненные, вестовые, затинные, кожаные, тюфяки». В отличие от описей конца XVI века «с 1640-х гг. появились орудия новых типов – долгие, короткие, голландские, кожаные пищали». Совсем исчезли «семипядные и девятипядные, а количество архаических «сороковых» сократилось до нескольких единиц».
Трофейные орудия
скрытый текст
Помимо собственного производства и заграничных закупок русская артиллерия пополнялась также за счет трофеев. После Ливонской войны возможности обзавестись последними долгое время не представлялось. В начале Смоленской войны русской армии сдалось несколько литовских крепостей (Дорогобуж, Белая, Невель, Себеж, Стародуб, Рославль, Серпейск и пр.) вместе со всей своей артиллерией, однако все захваченное пришлось по окончании войны вернуть полякам.
В начале Тринадцатилетней войны русская армия заняла большую часть территории ВКЛ и в литовских крепостях вновь были взяты богатые трофеи. Так, в Смоленске по описи имелось 43? орудия «старого Смоленского наряду», в т. ч. 5 крупнокалиберных пищалей - 50-фунтовая пищаль «Базл» (1581), 2 35-фунтовые однотипные пищали-тезки «Брат» (отлиты до 1610 года, участвовали в осаде Смоленска в Смуту), 32-фунтовая пищаль «Витовт» (1508), 19-фунтовая пищаль «Дедок» (1554 год, мастер Богдан); 2 12-фунтовые (1631), 10-фунтовая (1631), 9-фунтовая (1531), 4 7-фунтовых (1535, 1583, 1631 и 1632 годов), 2 6-фунтовых (1631 и 1632) пищали и 7 мортир.
Часть захваченных в Литве орудий позднее была вывезена в Россию и распределена по русским крепостям.
Среди взятого обнаружилось немало русских орудий в свое время захваченных литвой. Так, в Вильне нашлась 40-фунтовая пищаль «Онагр», отлитая Первым Кузьминым в 1581 году и упертая литвой вероятно во время Смуты. Из Вильны «Онагр» перевезли в Смоленск, а уже при Петре - в Москву.
После присоединения Малороссии в руки русского правительства попали местные крепостные арсеналы, включавшие в основном орудия небольших калибров. Некоторые из них позднее также переместились в Россию. Так, упоминавшаяся выше 4-фунтовая пищаль «Молодец» (Любек, 1591 год), входившая в 1673 году в состав белгородского наряда у разрядного шатра, была взята кн. Ромодановским в Нежине в 1668 году, в ходе подавления мятежа Брюховецкого. На 1680 год она входила уже в состав артиллерии Путивля.
В ходе русско-шведской войны 1656 - 1658 годов русским досталась артиллерия нескольких занятых городов - Дерпта, Нейшлосса, Мариенбурга, Кокенгаузена, Кастера, Нейгаузена, всего около 80 стволов, большей частью небольшого калибра (только в Дерпте имелись 2 24- и 2 12-фунтовые пушки).
После окончания войн со Швецией (1661 год) и Речью Посполитой (1667) значительную часть захваченной артиллерии пришлось вернуть, однако вывезенные ранее в русские города орудия были сохранены.
Помимо городовой артиллерии трофейные пушки активно использовались и в полковой - в солдатских и драгунских полках. Так, в белгородском Карповском полку Самуила Вестова в 1675 году имелись 2 трофейных пищали - 1,25-фунтовая польская данцигского литья (1609 год) и 0,75-фунтовая польская (1536 год).
В ходе турецкой войны 1672 - 1681 годов (а. к. а. «Чигиринские походы») также были взяты отдельные трофеи. Так, в 1677 году под Чигирином были захвачены 3 3-фунтовых турецких пушки.
Общая доля трофеев в составе артиллерийского вооружения была невелика - к концу века менее 3%.
Пушкари
скрытый текст
Пушкарский чин включал пушкарей, затинщиков, воротников, а также мастеровых - мастеров, кузнецов и плотников.
На 1630 год людей пушкарского чина имелось 4 215 человек (из которых в пушкарях и затинщиках числилось 2 700 человек), на 1651 год - 4 245 человек (ок. 3% общей численности вооруженных сил).
Городовых пушкарей на 1625 год имелось 1 782, на 1678 год (в 150 городах) - 2 805 человек.
Московских пушкарей имелось видимо порядка 500 - 600 чел. Документы Пушкарского приказа в 1618 - 1689 годах фиксируют от 236 до 318 московских пушкарей, однако это видимо наличные списки, не учитывающие находящихся в посылках и проч. Котошихин сообщает о примерно 600 людях пушкарского чина «на Москве», а в списках 1686 и 1691 годов указано по 521 человеку (из них в наличии - 223).
Как и в других случаях, правительство желало набирать пушкарей из пушкарских же семей, превратив службу в наследственную, однако претворить в жизнь это намерение оказалось невозможно и пушкари набирались и из вольницы и из тяглых групп населения и (особенно в провинции) из разнообразных беглых - с чем правительство (безуспешно) боролось.
В походы пушкари посылались из расчета три человека на осадное и один - на полковое орудие. В мирное время власти стремились занять имевших массу свободного времени пушкарей другими службами, используя их в качестве рассыльщиков, сборщиков даточных, сопровождающих для разного рода грузов и колодников и т. д. Московские пушкари часто привлекались к работам на Пушечном дворе.
За службу пушкари и прочие люди пушкарского чина получали жалованье - денежное, хлебное и соляное. Жалованье московских пушкарей было существенно больше чем у городовых. Так, на 1638 год московские пушкари получали (в зависимости от статьи) от 6 до 8 рублей денежного жалованья, от 20 до 24 пудов ржи и овса и по 3-4 пуда соли в год. В 1647 году на жалованье московским пушкарям Устюжская четверть выделила 9 541 руб. 24 алт. с полуденьгой [т. е. в среднем ок. 16 рублей на человека].
Городовые (ржевские, севские, мещовские) пушкари получали на 1631 год по 2,5 - 3 рубля и по 6 пудов ржи (заменявшихся денежной выплатой). Всего же на 1631 год по 29 городам Центральной России на жалованье 859 людям пушкарского чина было выделено 2 290 рублей 3 алтына 2 деньги, а вместе с деньгами в счет хлебного жалованья (4376 четей с полуосминою ржи и 1854 чети овса) - 3 834 руб. 8 алтын, 5 денег [т. е. в среднем по 4,46 руб. на человека].
В 1647/48 году новгородские пушкари получали по 2,5 рубля, 10,5 четей ржи, овса и ячменя и 2 алтына в счет соляного жалованья.
Как и прочие приборные, пушкари имели право в свободное от службы время заниматься ремеслом, торговлей и проч., до середины XVII века почти не платя налогов, а позднее платя их в льготном режиме.

* * *
Государственный совет в системе управления Российской империи. Вторая половина XIX века.
Книга довольно интересная, но структуру ее стоило бы подправить, перенеся главы о структуре Совета и его канцелярии из конца в начало.
скрытый текстГосударственный совет и эволюция системы высшего управления в России XIX века
скрытый текст
Государственный совет создавался как единственное законосовещательное учреждение империи, рассмотрению в котором подлежали «все законы, уставы и учреждения». Однако уже при Александре I у него появились «конкуренты» (Комитет министров, высшие комитеты), число которых особенно возросло в ходе царствования Николая I. К концу правления последнего, помимо Государственного совета, законосовещательными функциями обладали Комитет министров, Военный совет, Адмиралтейств-совет и два высших комитета - Кавказский и Сибирский.
Как отмечает автор, ряд высших комитетов, несмотря на высокий статус, фактически законосовещательными функциями не обладали (Комитет финансов, почти все Еврейские комитеты, Бутурлинский), а компетенция комитетов, такими функциями реально обладавшими, была ограничена территориально (Кавказский и Сибирский).
Важнейшие законосовещательные учреждения были связаны «личной унией» - их высшее руководство состояло, в значительной мере, из одних и тех же людей. Так, в 1812 - 1864 годах председатель Государственного совета был одновременно председателем Комитета министров, одновременно (в качестве председателя Комитета министров) возглавляя Кавказский и Сибирский комитеты. Составлявшие Комитет министров министры одновременно, по должности, являлись членами Государственного совета, а главы департаментов Государственного совета - членами Комитета министров. В состав Кавказского и Сибирского комитетов, также по должности, входили председатель Департамента законов Государственного совета и ряд министров (финансов, внутренних дел и проч.).
Таким образом, видимое ограничение компетенции Государственного совета в первой половине XIX века за счет создания других законосовещательных учреждений было, в значительной мере, формальным. Как пишет автор: «созданную Николаем I систему управления, при всей ее кажущейся дробности, вообще нельзя рассматривать как ряд отдельно существующих учреждений». Многочисленные государственные структуры с переплетающимися функциями и почти идентичным руководящим составом «представляли собой единый правительственный механизм, в котором отдельные учреждения не просто существовали в тесной связи, но как бы перетекали одно в другое». Немногочисленность (не более двух десятков человек) «высших чиновников заседавших в разных учреждениях... под председательством одних и тех же лиц, обсуждавших различные аспекты общей проблемы управления, позволяла снимать возможные противоречия», а «в случае расформирования каких-либо структур их функции с легкостью перераспределялись».
Перемена на престоле в XIX веке каждый раз сопровождалась перестройкой системы управления - новый монарх подстраивал ее под себя. Первая волна перемен последовала при Александре II, в первой половине 1860-х годов. Была ликвидирована практика «личных уний» - совмещения высших руководящих постов, в рамках распространения на окраины общеимперского управления ликвидированы Сибирский и Еврейский комитеты комитеты, а статус Кавказского существенно понижен. Особый порядок управления был сохранен для Царства Польского - в 1864 году законодательные и административные вопросы управления краем были сосредоточены в новосозданном Высшем комитете по делам Царства Польского.
Для решения необходимых вопросов вместо прежних самостоятельных учреждений (высших комитетов и проч.) теперь создавались разнообразные особые совещания при уже существующих структурах. Значение Государственного совета в связи с ликвидацией «конкурирующих» учреждений возросло.
Из общей линии выбивались лишь учреждения связанные с влиятельным братом императора, вел. кн. Константином Николаевичем. Последний сосредоточил в своих руках руководство Государственным советом (1865), Адмиралтейств-советом (1855) и рядом других учреждений. Возглавляемый великим князем Главный комитет об устройстве сельского состояния (1861 - 1882)*, формально числившийся в составе Государственного совета, получил фактически статус постоянного высшего комитета, а другое учреждение возглавляемое Константином Николаевичем - Особое присутствие о воинской повинности (1873 - 1881)**, действовало на правах департамента Государственного совета. Как отмечает автор, эта флуктуация имела сугубо субъективный характер и сошла на нет в начале следующего царствования.
Воцарение Александра III породило новый виток преобразований высшего управления. Влияние вел. кн. Константина Николаевича было уничтожено, а связанные с ним учреждения (Главный комитет об устройстве сельского состояния и Особое присутствие о воинской повинности) закрыты. Были ликвидированы Высший комитет по делам Царства Польского и Кавказский комитет и пр. Как отмечает автор, ликвидация кавказского и польского комитетов была намечена еще в конце предыдущего царствования, а учреждения связанные с Константином Николаевичем давно прошли пик своей активности и тоже, в общем, отжили свое.
Для Государственного совета особое значение имело фактическое возвращение в его состав Комиссии по составлению законов и (отчасти) Комиссии прошений (см. ниже).
В целом, как отмечает автор: «на протяжении всей второй половины девятнадцатого столетия продолжался процесс отхода от созданного Николаем I стиля управления, возврат к более простой и логичной схеме организации власти. Отказ от распыления законосовещательных функций, унификация управления расширили компетенцию Государственного совета, вне которой, de facto или de jure, оставались лишь вопросы внешней политики, военный и чрезвычайного администрирования.
Другим важным результатом преобразований второй половины века было упрощение устройства самого Совета. Исчезновение территориальных (Департамент дел Царства Польского) и в затем и занимавшихся отдельными вопросами (Главный комитет об устройстве сельского состояния и
Присутствие о воинской повинности) структур способствовало более четкому распределению по департаментам поступающих в Совет дел. Внесенные в это время в систему высшего управления перемены не носили кардинального характера, тем не менее они существенно изменили
расстановку акцентов внутри самой системы, перенеся их с временных и локальных на постоянные и общеимперские структуры... К концу века Государственный совет максимально приблизился к тому, чтобы занять в системе государственного управления то место, которое
соответствовало букве закона – стать органом, через который проходят все законопроекты.»
* Направлял ход крестьянской реформы
** Занималось вопросами введения всеобщей воинской повинности
Самодержавие как политическая система и место в ней Государственного совета
скрытый текст
В условиях сохранения самодержавной власти особое значение имело отношение к Государственному совету монарха. Как отмечает автор - «cамодержавие как система управления предполагала существование не зависящей от бюрократической системы и стоящей вне ее силы, определяющей общий вектор развития страны». Однако «во второй половине XIX века общая бюрократизация управления привела к тому, что верховный правитель, оставаясь такой внешней силой, оказался в то же время вписан в административную систему. Став ее частью, он, с одной стороны, потерял полную свободу действий, отчасти подчинившись существующим бюрократическим правилам и традициям, а с другой – получил возможность ближайшего руководства текущим процессом управления страной. От него зависели соотношение сил в правительственных структурах, поддержка того или иного политического деятеля и воплощаемых им идей, но и – что не менее важно – выбор между опорой на разные высшие учреждения, или предпочтение работы с руководителями ведомств. Эта ключевая роль верховного правителя облегчалась (и, может быть, в какой-то мере провоцировалась) нечеткостью компетенцией высших учреждений. Метаморфоза, превратившая монарха из суверена, стоящего над законом и непринужденно пользующегося своим правом принимать самоличные решения, в высшего чиновника, который, хотя и имел решающий голос в любом вопросе, действовал строго в рамках сложившейся системы управления, особенно заметна при рассмотрении стилей управления, свойственных Александру II и Александру III».
Александр II стремился копировать стиль отца, пытаясь лично контролировать все важные процессы и замыкая на себе решение всех сколь-нибудь важных вопросов. Значительная часть государственных вопросов решалась монархом без участия законосовещательных учреждений, а многие важные дела все же поступавшие в Государственный совет были уже предварительно решены императором, что превращало их обсуждение в фикцию и т. д. Ближе к концу царствования Александр II, впрочем, начал тяготиться своей «работой», стремясь все более переложить ее на других и не проявляя активности.
Стиль правления Александра III кардинально отличался от стиля правления его отца. Число прямых «волеизъявлений» императора в новое царствование резко сократилось, существенно уступая делам проходящим через высшие бюрократические инстанции. Была восстановлена фактически сильно ограниченная ранее самостоятельность Государственного совета. Император не только отказался от предрешения вносимых в Совет проектов, но и, по возможности, избегал донесения до членов Совета собственного мнения, дабы не влиять на обсуждение проекта.
Влияние и самостоятельность Государственного совета, таким образом, существенно увеличились, однако, как отмечает автор, прочного основания его новое положение не имело и с воцарением Николая II, практика самовластных решений в обход Совета вернулась вновь.
Одной из особенностей отечественной системы управления была нечеткость определения функций различных учреждений - одни и те же вопросы могли в принципе решаться разными структурами. Так, два главных законосовещательных учреждения империи - Государственный совет и Комитет министров были органами «универсальной компетенции» и сферы их деятельности плотно пересекались.
Как отмечает автор, в отечественной историографии давно и прочно закрепилось представление о постоянном соперничестве Совета и Комитета, ведущем к росту влияния то одного, то другого. Так, сложилось устойчивое мнение о росте значения Совета в «либеральное» царствование Александра II и падении его влияния (и, соответственно, усилении Комитета министров) при «реакционном» Александре III.
Однако, как отмечает автор, при ближайшем рассмотрении открывается картина весьма далекая от устоявшихся стереотипов. Так, как уже отмечалось, при «либеральном» Александре II Государственный совет оказался весьма стеснен, а в царствование Александра III его значение, напротив, выросло. Взаимоотношения Совета и Комитета министров также были весьма далеки от привычной картины непримиримой борьбы. По мнению автора, во второй половине XIX века, напротив, постепенно выстраивается схема взаимодействия и разделения полномочий двух учреждений (окончательно закрепившаяся в 1880-х годах) - Комитет сосредотачивается на решении оперативных, чрезвычайных и чисто административных вопросов, а Совет - на вопросах требующих полноценного законодательного оформления.
Рядом с системой государственных учреждений с законосовещательными функциями, частью которой был Государственный совет, существовала система исполнительной власти, с которой законосовещательные учреждения должны были работать в тесном контакте, но на практике не всегда находили общий язык. Арбитром во всех спорных ситуациях выступал император.
Линии напряжения между министрами и Советом, как отмечает автор, можно свести к двойной дихотомии.
Во-первых, «прохождение дела через Совет не отличалось быстротой, но зато обеспечивало тщательность обсуждения и убирало недоработки проекта».
Во-вторых, «при обсуждении крупных вопросов, определяющих направление развития целой области государственной жизни (образовательного, крестьянского или касающегося местного управления) в проект могли быть внесены настолько значительные изменения, что, с точки
зрения министров, он терял свой изначальный смысл». Однако «Совет при этом считал, что таким образом он лишь дополняет недостаточно разработанный проект или борется с увлечениями его составителей.»
Отношения Государственного совета и министров в о многом зависели от личного фактора и менялись на протяжении времени. При Александре II, как уже отмечалось, многие вопросы решались в обход Совета - именными указами, принятыми по инициативе министров (т. н. «забегания» министров). В первую очередь это касалось утверждения разнообразных штатов. Министры при этом прибегали к уловкам, при докладе императору указывая например, что вводимый штат, во-первых временный, а во-вторых - не потребует нового расхода из казны, что чаще всего было фикцией.
В начале царствования Александра III «забегания» министров некоторое время продолжались, однако вскоре почти сошли на нет, касаясь уже маловажных вопросов и воспринимаясь как нарушение порядка.
Министры, как уже отмечалось, в свою очередь, страдали от изменений вносимых в их проекты Советом. В некоторых случаях представляемые проекты вообще отвергались - обычно решением департамента или соединенных департаментов. Формально Совет не имел права отвергнуть проект и официально он возвращался министру, по соглашению с последним. Как правило, дела возвращались из Департамента законов или Департамента экономии. Происходило это, впрочем, сравнительно нечасто. Так, Департамент законов в 1855 - 1894 годах возвратил 52 дела, при этом пик возвратов пришелся на конец 1870-первую половину 1880-х (30 дел в 1877 - 1885 годах).
Возврат дела для министра был часто меньшим злом чем корректировка его Советом. В процессе обсуждения проект мог претерпеть сильнейшие изменения. Так, зимой 1883/84 годов соединенные департаменты исправили 48 и отклонили 19 статей (из общих 157) проекта Университетского устава, представленного министром народного просвещения, при этом полностью переписав ряд ключевых положений (о месте и роли ректора и проч.).
При этом, согласно существовавшему и периодически вновь подтверждавшемуся правилу министрам запрещалось докладывать императору по делам уже рассматриваемым Советом, что фактически ставило их в зависимость от последнего.
Помимо этого, тщательное обсуждение проекта в Совете хотя и позволяло устранить его недостатки, но нередко препятствовало своевременному решению конкретного вопроса.
Структура Государственного совета
скрытый текст
Замысел Государственного совета предполагал создание законосовещательного учреждения главной и единственной функцией которого будет обсуждение поступающих из министерств законопроектов. По Манифесту 1810 года в Совете должны были рассматриваться «все законы, уставы и учреждения в первообразных их начертаниях». Однако вскоре границы компетенции Государственного совета раздвинулись и на бумаге сделались чрезвычайно широкими. Так, по «Учреждению» 1886 года компетенция Совета включала 22 позиции: все вопросы требующие нового закона, устава или учреждения; вопросы внутреннего управления требовавшие отмены, ограничения или пояснения прежних положений; объявление войны, заключение мира и прочие внешние вопросы; государственную роспись доходов и расходов (бюджет) и отчет о ее исполнении, финансовые сметы (бюджеты) министерств и ведомств и сметы и раскладки земских повинностей в губерниях где не было земств; любые штаты (кроме временных, создающихся на определенный срок); вопросы отчуждения государственных имуществ; внутренние чрезвычайные меры; дела вносимые по высочайшим повелениям и проч.
Фактическая компетенция Совета была уже, так, вопросы войны и мира оставались прерогативой верховной власти и решались ею без участия Государственного совета, все чрезвычайные меры обсуждались Комитетом министров или особыми совещаниями и т. д.
Учрежденный в 1801 году Непременный совет на департаменты не делился, но его канцелярия включала 4 экспедиции: по части иностранной и коммерческой; по части военных дел, сухопутных и морских; по части гражданской и духовной; по части государственного хозяйства.
По Манифесту 1810 года Государственный совет состоял из Общего собрания и четырех департаментов (законов, военных дел, дел гражданских и духовных и государственной экономии).
[Главой Совета формально был сам император, фактически почти всегда замещавшийся председателем, назначавшимся ежегодно. Члены Совета назначались императором, часть из них назначалась в департаменты (каждый включал председателя и не менее трех членов), остальные участвовали только в работе Общего собрания. Общее число членов Совета на протяжении XIX века росло, увеличившись с 35 до 90 человек. Министры считались членами Совета по должности. Общее собрание Совета включало членов департаментов, министров и членов в департаментах неприсутствующих. Заседания Общего собрания и департаментов были закрытыми.
Делопроизводство Совета было возложено на Государственную канцелярию, возглавляемую Государственным секретарем. Основу канцелярии составляли профильные отделения обслуживавшие соответствующие департаменты и возглавлявшиеся статс-секретарями].
Вносимые в Совет дела, как правило, проходили две инстанции - департамент и Общее собрание, однако существовали и исключения. Так, по «Учреждению» 1901 года сразу в Общее собрание, минуя департаменты, должны были вноситься дела по чрезвычайным внутренним мерам, важным внешнеполитическим мерам и по высочайшим повелениям. На практике вносились только дела последней категории (бывшие весьма немногочисленными).
Часть дел рассматривалась только в департаментах и в Общее собрание не вносилась. По «Учреждениям» 1842 и 1857 годов подобным образом рассматривались дела не требовавшие нового закона или изменения закона, но требовавшие лишь разъяснения действующего законодательства или приложения его к частному случаю.
В 1862 году Государственный совет получил право рассматривать и утверждать ведомственные сметы и теперь все непредвиденные и сверхсметные расходы последних (даже самые мелкие) требовали утверждения Совета. Чтобы не загромождать Общее собрание массой подобных дел в мае 1863 года было предписано все дела о сверхсметных кредитах и собственных суммах министерств (доходах поступавших из особых источников и не вносившихся в сметы и расходах на специальные цели) рассматривать только в Департаменте экономии, представляя затем на утверждение императору.
В 1901 году к вопросам не требовавшим участия Общего собрания были отнесено также образование и роспуск особых совещаний и подготовительных комиссий.
При возникновении в департаментах разногласия, несогласия с министром, или в случае если решение департамента отменяло решение Сената, окончательное решение передавалось Общему собранию.
Большая часть дел фактически решалась в департаментах. Сложные вопросы, затрагивавшие несколько сфер государственной деятельности, рассматривались департаментами на совместных заседаниях (соединенные департаменты). Общее собрание рассматривало по существу в основном дела вызвавшие в департаментах разногласие, а дела решенные единогласно часто утверждало по мемориям департаментов или с небольшой редакторской правкой.
Дела решенные Общим собранием или департаментами передавались на утверждение императору (за исключением небольшого числа дел утверждавшихся департаментами и носивших «технический» характер - дела для сведения, дела забираемые самими министрами и пр.).
Департамент законов
Важнейший из департаментов, осуществлявший основную функцию Государственного совета - законосовещательную. Департамент рассматривал проекты законов, штатов, уставов и проч. и возглавлялся обычно видными государственными деятелями [автор о департаменте почти ничего не пишет].
Департамент государственной экономии
Рассматривал все вопросы экономического характера - налогообложение, государственные доходы и расходы, преобразования в банковской, промышленной и торговой сферах и проч., [а также вопросы народного просвещения].
Полномочия департамента в финансовой сфере расширялись постепенно. Первоначально он рассматривал лишь ассигнования на чрезвычайные расходы, в 1811 году к ним добавилась смета (позднее роспись) государственных доходов и расходов, в 1816 году - раскладки земских повинностей, в 1823 и 1825 годах - сметы расходов Москвы и Петербурга, в 1854 году - сметы министерств и ведомств (поначалу рассматривавшиеся формально). С 1862 года департамент уже полноценно рассматривал и утверждал годовую роспись доходов и расходов и сметы ведомств.
По утвержденным в 1862 году правилам ведомственные сметы должны были не позднее 1 сентября представляться одновременно в Государственный совет, Министерство финансов и Государственный контроль. Военное ведомство должно было предоставлять смету не позднее 1 октября (в некоторых случаях - не позднее 15 октября). К 1 ноября министр финансов должен был вносить в Государственный совет государственную роспись, а государственный контролер - отчет об исполнении предыдущей и замечания по предлагаемой.
В первые годы росписи не удавалось утверждать в срок, так, росписи на 1863 и 1864 год были утверждены лишь в мае 1863 и 1864-го, роспись 1866-го - в январе, росписи 1867 и 1868 го - в марте соответствующего года. Начиная с 1869 года положение нормализовалось, однако за счет нарушения требуемого правилами 1862 года порядка одновременного рассмотрения смет - последние рассматривались по мере поступления.
Нагрузка на департамент была очень велика - по числу рассматриваемых дел он далеко опережал и Департамент законов и Гражданский департамент. По подсчетам государственного секретаря Е. А. Перетца в 1881 году на Департамент экономии пришлось 80% (989 из 1229) дел Государственного совета, тогда как на Департамент законов - 12%, а на Гражданский - 8%.
Большая часть поступающих дел была относительно несложной, однако ввиду значительного их числа на решение и оформление каждого уходило до одного-двух месяцев. В конце года почти все силы департамента поглощало рассмотрение государственного и ведомственных бюджетов и рассмотрение прочих дел фактически приостанавливалось.
Для повышения эффективности работы департамента в 1867 профильное Отделение экономии Государственной канцелярии было разделено на два - по сметной и по законодательной части. В 1870 году право выдачи привилегий (патентов) на изобретения было передано от департамента министрам финансов и государственных имуществ. В 1875 году в Гражданский департамент были переданы дела по отчуждению частных имуществ для государственных нужд и передаче казенных имуществ в собственность местных обществ и частных лиц.
В начале царствования Александра III ставился вопрос о преобразовании департамента - с разделением надвое (для рассмотрения дел по сметной части и прочих финансовых) или с передачей несметных финансовых дел в Департамент законов, однако дело до этого так и не дошло.
Департамент гражданских и духовных дел
Департамент, часто именуемый просто Гражданским в наименьшей степени соответствовал своему названию. Изначально предполагалось, что он будет рассматривать «дела юстиции, управления духовного и полиции», однако фактически департамент занимался в основном судебными делами. К ведению департамента относились все передаваемые из Сената уголовные и гражданские дела требовавшие высочайшего утверждения - от мельчайших краж совершенных дворянами, до дел о привлечении к ответственности высших должностных лиц. В 1841 - 1868 годах департамент делился на два отделения - уголовных дел и герольдии и гражданское.
Судебная реформа 1864 года способствовала постепенному сокращению поступления дел в департамент - из новых кассационных департаментов Сената дела в Государственный совет не передавались. С 1869 году дела решенные в старых департаментах Сената единогласно также перестали передаваться в Государственный совет и поступали на высочайшее утверждение через министра юстиции. Компетенция Гражданского департамента, соответственно, ограничивалась теперь делами вызвавшими разногласие в Сенате или разногласие с министром юстиции, а также делами пересматриваемыми по высочайшему повелению.
Сокращение нагрузки позволило отказаться от разделения департамента на два отделения. Ожидалось даже его полное упразднение, однако этого не произошло.
Помимо собственно судебных в компетенцию департамента входили дела о должностных преступлениях.
Изначально в Государственный совет из Сената переносились вызвавшие разногласие дела о предании суду лиц не выше IV класса, губернских и уездных предводителей дворянства, председателей земских управ и городских голов. В мае 1881 года рассмотрение подобных дел в Сенате было упрощено (вместо 2/3 голов в Первом департаменте теперь требовалось лишь простое большинство) и они почти перестали попадать в Государственный совет.
Рассмотрение дел о преступлениях высших должностных лиц входило в компетенцию департамента с 1842 года. После судебной реформы 1864 года он рассматривал преступления по должности чинов гражданских ведомств первых трех классов, военного и морского министров и пр. Как отмечает автор, фактически дела о преступлениях высших должностных лиц департамент почти не рассматривал - единственным прецедентом осталось дело о крушении императорского поезда в 1888 году. С февраля 1889 года, согласно именному указу, жалобы на высших должностных лиц представлялись императору, который и принимал решение о передаче дела в Гражданский департамент. На практике в департамент они не передавались, а проштрафившиеся сановники наказывались самим императором (отставка, бессрочный отпуск и т. п.).
Духовными делами, формально продолжавшими входить в компетенцию Гражданского департамента до самой его ликвидации, он фактически не занимался вовсе. Дела по епархиальному управлению представлялись императору на утверждение в виде докладов Синода или обер-прокурора Синода и затем объявлялись Сенатом. Дела по военному и морскому духовенству решались по докладам руководства этих ведомств или положениями Военного совета. Вопросы духовного управления Кавказа и Закавказья решались положениями Кавказского комитета. Касавшиеся духовной сферы проекты носившие характер общей законодательной меры рассматривались Департаментом законов, а финансовая их составляющая и вопросы предоставления прав и привилегий - Департаментом экономии.
Так, в 1868 году из 39 законов, касавшихся православного и инославного духовенства, 20 были утверждены императором по докладам Синода, 6 - Военного совета, 2 - Кавказского комитета, по одному - по докладам военного и морского министров. Через Государственный совет прошло 9 проектов, при этом 5 обсуждалось в Департаменте законов, 3 - в Департаменте экономии и один в - Соединенных департаментах законов и экономии.
Подобное положение сохранялось и позднее - Гражданский департамент либо вообще не рассматривал духовные дела либо рассматривал один-два проекта в год - если они относились к сфере сословного или гражданского права.
В 1875 году в Гражданский департамент из Департамента экономии были переданы дела об отчуждении частных имуществ на государственные нужды (для строительства крепостей, шоссейных и железных дорог, портов и проч.) и дела о передаче казенного имущества (зданий и земли) в собственность местных обществ.
Последние были весьма немногочисленны, число же дел об отчуждении частных имуществ со временем существенно менялось. К компетенции Государственного совета они были отнесены еще в 1833 году и долгое время число таких дел оставалось небольшим - 19 в 1857 году, 21 в 1868 и 1869-м. Железнодорожный бум начала 1870-х привел к резкому увеличению числа таких дел (67 в 1871 году) и для разгрузки Департамента экономии их решено было передать в Гражданский.
В Гражданском департаменте (судебная нагрузка которого по мере реализации судебной реформы все более сокращалась ) дела об отчуждении частных имуществ в последние десятилетия его деятельности составляли устойчивое большинство. В 1875 году они составили 76% (69 из 91) всех дел, позднее, в связи с сокращением железнодорожного строительства их доля несколько уменьшилась (в 1885 году - 48 из 87 дел, 55%), однако в 1890-х годах, в связи с новой активизацией строительства железных дорог, вновь резко возросла (в 1895 году - 277 из 295 дел, 94%).
В Общее собрание Совета дела об отчуждении частных имуществ не передавались, решаясь по мемориям департамента.
В 1884 году в Гражданский департамент из Департамента законов были переданы законодательные дела касающиеся судов и судопроизводства - распространение судебной реформы, территория и штаты судебных округов, подсудность мировых судов, составление списков присяжных, вопросы пенитенциарной системы и проч. Практически все эти дела решались совместными заседаниями Гражданского департамента и Департамента законов.
Таким образом, на протяжении XIX столетия компетенция Гражданского департамента претерпела существенные изменения. Из фактически чисто судебного учреждения он превратился в учреждение ведающее в основном вопросами отчуждения частных имуществ (в основном для строительства железных дорог) и вопросами законодательства о судах и судопроизводстве. Число разбираемых департаментом собственно судебных дел в последней трети столетия радикально сократилось, так, на 1872 год из 95 дел департамента судебными были 45, а на 1893 год из 183 дел - всего 9.
Департамент военных дел
Ведал вопросами военного управления. Уже в 1836 году его компетенция была радикально сокращена - все вопросы касавшиеся собственно военного ведомства были переданы в ведение Военного совета, а Морского ведомства - в ведение Адмиралтейств-совета. В Государственный совет теперь вносились только дела требовавшие издания законов затрагивавших военное и морское ведомства «в связи с прочими частями государственного управления». При этом внесения таких дел именно в Военный департамент не требовалось и загрузка его резко сократилась.
В 1843 году сфера деятельности департамента сузилась еще сильнее - к ведению Военного и Адмиралтейств-совета были отнесены и межведомственные дела относящиеся к «искусственной или технической части».
Последнее дело департамент рассмотрел в 1854 году и с этого времени фактически бездействовал. С 1859 года не назначался председатель, а с осени 1864 года - и члены департамента, но на бумаге он продолжал существовать и далее, вплоть до преобразования Совета в 1906 году.
Государственный совет, впрочем, сохранял определенное влияние на военные дела, рассматривая сметы и кредиты Военного ведомства, а также некоторые вопросы взаимодействия военного и гражданских ведомств.
[Департамент дел Царства Польского
Образован в феврале 1832 года. В ведение департамента были переданы дела Государственного совета Царства Польского (поначалу частично, а после ликвидации польского Совета в 1841 году - полностью). Председателями департамента были наместники в Польше - фельдмаршал св. кн. И. Ф. Паскевич и сменивший его кн. М. Д. Горчаков. В 1862 году департамент был упразднен в связи с восстановлением польского Государственного совета].
[Департамент промышленности, наук и торговли
Образован в январе 1901 года с целью разгрузить Департамент экономии. В его ведение были переданы дела по вопросам добывающей и обрабатывающей промышленности, торговли, об утверждении уставов акционерных обществ и железных дорог, выдаче привилегий (патентов) на изобретения, а также дела по вопросам народного просвещения. Существовал до апреля 1906 года. Автором он не рассматривается].
Комиссия составления законов
Фактически была образована еще в начале правления императора Павла и, меняя названия, штат и подчинение, продолжила существование и при следующем царствовании. В 1810 году она была включена в состав Государственного совета, а в 1826 году формально ликвидирована - фактически была преобразована в новосозданное Второе отделение С. Е. И. В. канцелярии. Основной задачей комиссии являлась кодификация имеющегося законодательства и она работала в тесной связи с Департаментом законов. После преобразования комиссии в отделение Императорской канцелярии эта связь сохранилась, дополняясь к тому же «личной унией» - в 1839 - 1861 и в 1872 - 1881 годах должность главноуправляющего Вторым отделением занимал председатель Департамента законов.
Кодификационный отдел
В январе 1882 года вышеупомянутое Второе отделение С. Е. И. В. канцелярии было преобразовано в Кодификационный отдел при Государственном совете. Главноуправляющий отдела назначался императором из числа членов Совета и по должности одновременно присутствовал и в Департаменте законов и в Комитете министров. В январе 1894 года отдел был присоединен к Государственной канцелярии, получив наименование Отделения Свода законов, права главноуправляющего прежним отделением (право всеподданейшего доклада и проч.) перешли к Государственному секретарю, ставшему теперь как бы министром по кодификационной части.
Комиссия по принятию прошений
Образована в составе Совета в 1810 году, для рассмотрения разнообразных жалоб и прошений подаваемых на имя императора. В структуру Государственного совета комиссия вписывалась плохо и в 1835 году была выделена в отдельную структуру, подчиненную непосредственно императору.
По положению 1835 года комиссия могла принимать (по высочайшему повелению) жалобы на решения Общего собрания Сената, Государственного совета, Комитета министров и проч. Принятые комиссией жалобы на решения Общего собрания Сената, министерств и ведомств рассматривались в Государственном совете (Гражданский департамент) и Комитете министров. По делам, разрешенным мнениями Государственного совета или положениями Комитета министров жалобы принимались не на само решение, а лишь на неверное изложение дела.
В 1884 году комиссия была упразднена, большая часть ее функций передана Канцелярии по принятию прошений при Императорской главной квартире, в 1895 году ставшей самостоятельным учреждением и Присутствию при Государственном совете для предварительного рассмотрения жалоб на определения департаментов Сената.
Последнее (существовавшее до конца 1917 года) принимало жалобы на определения административных и старых судебных департаментов Сената и разбирало дела вносившиеся по высочайшим повелениям (число которых было крайне невелико - из 4 402 дел рассмотренных в 1884 - 1895 годах по высочайшим повелениям было внесено девять).
При положительном решении Присутствия дело рассматривалось Общим собранием Сената, а при возникновении в нем разногласия - Государственным советом. Присутствие, таким образом, служило как бы фильтром для спорных дел и его деятельность способствовал существенному снижению загрузки Гражданского департамента судебными делами. Присутствие включало председателя и четырех членов, назначавшихся из числа членов Государственного совета и сенаторов.
Сложные вопросы затрагивающие сразу несколько сфер государственного управления рассматривались на заседаниях соединенных департаментов (двух или трех). Так, вопросы налогообложения рассматривались Соединенными департаментами законов и экономии, вопросы судебного законодательства - Соединенными департаментами законов и гражданского, крупные преобразования (введение института земских начальников и проч.) - департаментами законов, экономии и гражданским.
Председательствовал на таких заседаниях обычно председатель департамента в который изначально поступило дело.
Соединенные департаменты являлись фактически основной формой департаментских заседаний. Так, в течении сессии 1892/93 годов Департамент законов провел 31 заседание, в т. ч. 26 в соединении с другими департаментами, Гражданский департамент - 28 заседаний (в т. ч. 24 совместно с другими). Департамент экономии в ту же сессию имел 70 заседаний, в т. ч. 27 по сметной части (к ним другие департаменты не привлекались) и 43 по законодательной (из них 39 в соединенном присутствии).
Общее число дел рассматриваемых Государственным советом во второй половине XIX века постепенно росло, однако по годам существенно колебалось, в зависимости от разного рода внешних факторов.
В 1855 - 1868 годах Департамент законов рассматривал от 62 (1856 год) до 197 (1867) дел ежегодно, Департамент экономии - от 325 (1856) до 925 (1868), Гражданский департамент, по отделению уголовных дели и герольдии - от 123 (1855) до 402 (1867) и по отделению гражданских дел - от 32 (1856) до 89 (1862).
В 1869 - 1891 годах Департамент законов, проводил от 23 (1869) до 46 (1870) заседаний в год, рассматривая от 128 (1890) до 239 (1874) и решая от 80 (1890) до 159 (1874) дел в год. Департамент экономии проводил от 49 (1878) до 84 (1882) заседаний в год, рассматривая от 653 (1891) до 1064 (1869) и решая от 519 (1888) до 996 (1869) дел в год.
Гражданский департамент проводил от 11 (1879) до 28 (1872 и 1890) заседаний в год, рассматривая от 70 (1870) до 254 (1891) и решая от 50 (1879) до 196 (1891) дел в год.
Общее собрание в те же годы проводило от 24 (1890) до 34 (1883) заседаний в год, рассматривая от 216 (1875) до 319 (1887) и решая от 155 (1884) до 311 (1891) дел в год.
Начиная с 1892 года статистические данные о работе Государственного совета публиковались не по календарным годам, а по сессиям. Без учета нерелевантного отчета о сессии 1892/93 годов (включал сведения за три полугодия), статистика по сессиям 1894/95 - 1897/98 годов выглядела следующим образом.
Департамент законов проводил от 20 (1894/95) до 30 (1897/98) заседаний, рассматривая от 154 (1893/94) до 172 (1896/97) и решая от 119 (1893/94) до 161 (1896/97) дела.
Департамент экономии проводил от 48 (1896/97) до 82 (1893/94) заседаний в год, рассматривая от 463 (1895/96) до 551 (1893/94) и решая от 438 (1895/96) до 519 (1893/94) дел.
Гражданский департамент проводил от 19 (1894/95) до 30 (1893/94) заседаний в год, рассматривая от 232 (1893/94) до 386 (1897/98) и решая от 213 (1893/94) до 350 (1897/98) дел в год.
Общее собрание проводило от 14 (1897/98) до 21 (1893/94, 1894/95, 1895/96) заседаний в год, рассматривая от 291 (1896/97) до 347 (1893/94) и решая от 279 (1896/97) до 340 (1893/94) дел.
Как отмечает автор, статистика рассматриваемых дел не отражает в полной мере загрузку департаментов, поскольку не учитывает сложность рассматриваемых вопросов. Так, в Департаменте экономии большой процент дел составляла пресловутая «законодательная вермишель», а дела Департамента законов, напротив, были большей частью достаточно сложными.
Число нерешенных дел на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось небольшим - по Общему собранию не более 20-30 в год. В это число входили и только что поступившие дела и дела по которым не были получены необходимые справки или отзывы из ведомств. В целом, как отмечает автор, Государственный совет вполне справлялся с нагрузкой даже в пиковые моменты и дела в нем не залеживались.
Работа Совета велась в закрытом режиме и широкая публика судила о ней в основном по (сравнительно редким) заседаниям Общего собрания. Тогдашние публицисты (тут поминаются опус Скальковского и кн. Мещерский с его «Гражданином») обвиняли Совет в медлительности и малой продуктивности работы.
Как отмечает автор эти обвинения совсем не соответствовали действительности. Интенсивность работы членов Совета, в первую очередь, присутствующих в департаментах была очень высокой и ими самими считалась чрезмерной. Назначенный к присутствию в департаменте член Совета во время сессии заседал пять, а то и шесть дней в неделю - в собственном департаменте, в соединенных департаментах, в Общем собрании (а председатель департамента еще и в Комитете министров). Помимо этого члены департаментов и Общего собрания работали в многочисленных временных комитетах и комиссиях создаваемых при Совете для рассмотрения различных вопросов (всего известно более 30), комиссиях по составлению всеподданнейших отчетов и проч.
Организация работы Совета во второй половине XIX века
скрытый текст
Структура, принципы организации работы и делопроизводства Совета оформились уже в первой половине XIX века, постепенно дополнившись обычаями и традициями и позднее уже мало меняясь.
Заседания Совета проходили с января по май - начало июня и, после летней паузы, с сентября - октября по декабрь. Сессией Совета считался период с октября по май («два смежных полугодия последовательных годов»). Отчетный год при этом до 1892 года совпадал с календарным и только затем стал совпадать с сессиями Совета.
Время летних каникул не было фиксированным и устанавливалось ежегодно специальным распоряжением императора (в конце мая - начале июня). В середине века департаменты уходили на каникулы на два месяца (15 июня - 15 августа), а Общее собрание - на три (15 июня - 15 сентября), к концу столетия их срок увеличился на месяц - в 1880-х годах департаменты отдыхали уже до 15 сентября, позднее - до 1 октября, Общее собрание - до 1 октября, позднее - до 15 октября. В 1892/93 году первое заседание департаментов состоялось 3 октября 1892 года, последнее - 24 мая 1893-го, а Общего собрания соответственно 19 октября и 31 мая.
Департамент экономии до 1885 года заседал и летом, однако с этого года также стал уходить на каникулы.
Помимо летних каникул имелись рождественские и пасхальные - по неделе.
При необходимости сессия могла быть продлена. Так, в 1862 году каникулы были отменены вовсе, а в 1889 году Совет работал до 6 июля. Случаев сокращения сессии не было, даже в чрезвычайных обстоятельствах, так, в 1883 году Государственный совет, в полном составе отправившийся на коронацию Александра III, продолжал проводить заседания в Москве.
Первое и последнее заседание Общего собрания Совета считались началом и концом «политического сезона».
Общие собрания почти всегда проходили по понедельникам, редкие исключения вызывались лишь торжественными случаями (коронация, рождения наследника и проч.).
Департаменты заседали по другим будним дням и по субботам. Так, Департамент законов в 1860-х годах заседал по субботам, Департамент экономии - по четвергам, после разделения на два отделения - по четвергам и субботам и т. д. К концу века, по установившемуся порядку, в неделю проходило 4 заседания Совета - одно общее и три департаментских. Осенью, когда рассматривались бюджетные вопросы, добавлялось еще одно департаментское заседание. Лишнее заседание могло добавляться и весной - если требовалось завершить обсуждение срочных и безотлагательных дел.
Соединенные департаменты определенных дней для заседания не имели и могли собираться как в будни (в том числе и в понедельник, после Общего собрания), так и в субботу, в зависимости от состава участников.
Заседания Общего собрания отличались большой торжественностью и строгим соблюдением сложившихся традиций (представление новых членов, строго регламентированное размещение членов Совета и чинов канцелярии и пр.).
Первое январское Общее собрание начиналось с назначения председателя Совета (на год) и председателей и членов департаментов (на полгода). В конце сессии (конец мая - начало июня) назначались председатели и члены департаментов на осеннее полугодие.
В начале заседания Общего собрания государственный секретарь зачитывал высочайшие повеления и резолюции на мемориях и другие высочайшие повеления (о назначениях, учреждении совещаний и проч.).
После этого статс-секретари или их помощники зачитывали журналы предыдущих заседаний (по каждому делу отдельно). Из-за малого срока отводимого на оформление журнала в канцелярии (неделя) членам Совета они почти никогда не рассылались и последние должны были воспринимать их только на слух. По окончании чтения члены Совета могли внести свои поправки, затем журналы подписывались членами Совета и начинался доклад новых дел.
Дела «предлагались» Совету государственным секретарем и зачитывались вслух соответствующими статс-секретарями или их помощниками. Уже в первой половине века они начали печататься типографским способом и рассылаться членам Совета для предварительного ознакомления. В 1834 году была издана инструкция предписывавшая рассылать членам Совета печатные записки по сложным судебным делам поступавшим в Совет из Сената. «Учреждение» 1842 года разрешало печатать не только судебные, но и (по усмотрению председателя) прочие сложные и важные дела, не требовавшие сохранения тайны.
Позднее использование печатных материалов все более расширялось - печатались и предварительно рассылались все сложные дела в департаментах, журналы департаментов после подписания членами, материалы рассылавшиеся членам Общего собрания (те же журналы департаментов, проекты законов, памятные записки).
Широкое использование печатных материалов позволило существенно уменьшить сроки рассмотрения дел и упростить их прохождение через Совет. Начиная с 1860-х в Общем собрании вместо полных журналов департаментов зачитывались только их заголовки. Если дело не вызывало разногласий и замечаний его тут же утверждали (подписывался заранее заготовленный «утвердительный журнал»).
В противном случае начиналось обсуждение дела. Вначале пояснения по нему давали председатель соответствующего департамента (или председатель Общего собрания, если дело вносилось сразу в последнее) и государственный секретарь. Затем выступали желающие высказаться члены Совета. Сложное дело могло рассматриваться на нескольких заседаниях.
Помимо членов Совета и чинов канцелярии в заседаниях принимали участие лица приглашавшиеся «для справок и разъяснений», права голоса не имевшие и не принимавшие участия в дискуссии - чиновники «для справок» и эксперты.
Первую категорию составляли обычно министерские чиновники непосредственно готовившие соответствующий проект - директора департаментов, члены министерских комиссий и проч. Права участвовать в обсуждении проекта они не имели и должны были только отвечать на задаваемые им вопросы. На практике их присутствие видимо было почти бесполезным - члены Совета обычно задавали вопросы соответствующему министру, или замещавшему его товарищу, а чиновников спрашивали редко. Сами же министры обычно не желали переадресовывать вопросы своим подчиненным, опасаясь показаться недостаточно компетентными.
В качестве экспертов приглашались люди сведущие в соответствующих вопросах (предприниматели, ученые и проч.). Они выступали с объяснениями по проекту или его отдельным статьям, но в обсуждении также не участвовали и даже на нем не присутствовали - сразу после выступления покидали зал Совета. Приглашать экспертов на заседания Совета было разрешено уже в 1827 году, официально это право было закреплено «Учреждением» 1842 года.
Возможность разногласия в Совете (правда только в его Общем собрании) предусматривалась уже Манифестом 1810 года - члены Совета несогласные с общим заключением могли в течении недели представить государственному секретарю собственные мнения, прикладываемые к журналу. Мнения эти Советом рассматривались только в случае пересмотра дела по распоряжению императора.
«Учреждение» 1833 года распространило этот порядок и на департаменты. Члены Общего собрания тогда же получили право заявлять особое мнение не только письменно, но и устно - оно сразу же вносилось в журнал, но рассматриваться могло, как и прежде, лишь при пересмотре дела по высочайшему повелению.
«Учреждение» 1842 года установило новый порядок рассмотрения дел. При возникновении разногласий как в департаментах, так и в Общем собрании, в журнал заносилось мнение не только большинства, но и меньшинства. Сохранялась и возможность подачи особого мнения - устно во время заседания, с последующим письменным оформлением (в течении недели) и внесением в журнал (или с приложением к нему).
Решение о пересмотре дела на основании представленных мнений принималось теперь не императором, а самим Общим собранием [и видимо департаментом]. После повторного рассмотрения пересмотра дела мог требовать уже только император.
В подавляющем большинстве случаев разногласие возникало на стадии обсуждения дела в департаментах и затем повторялось в Общем собрании.
Дела не вызвавшие в департаментах разногласий обычно утверждались Общим собранием по департаментским журналам. При этом даже в таких делах Общее собрание могло изменить редакцию статей или даже добавить новые, однако подобные случаи были большой редкостью.
Внесенные Общим собранием изменения никак не влияли на продвижение дела и не становились поводом для его возвращения в департамент. Последнее вообще случалось крайне редко и только при обнаружении неполноты данных или возникновении у членов Общего собрания возражений по вопросам не обсуждавшимся в департаменте при рассмотрении дела.
Голосование по проектам производилось открыто и поименно. Как отмечается, в Совете обычно имелась группа активных членов (как правило отставные и действующие главноуправляющие, председатели и члены департаментов и проч.), не только имевших собственное мнение, но и энергично его отстаивавших, группа «молчунов» - собственное мнение имевших, но почти не высказывавшихся и пассивная часть, в силу возраста и общей индифферентности в вопросы почти не вникавшая и обычно солидаризировавшаяся с начальством или вообще голосовавшая случайно.
После подсчета голосов объявлялось окончательное решение по делу. После рассмотрения всех дел сообщалась повестка следующего заседания.
Длительность заседаний Общего собрания и департаментов существенно различалась.
Пик работы Общего собрания приходился на конец сессии - май-начало июня, в начале же сессии заседания часто были чисто формальными и могли продолжаться 15-20 минут и даже менее того.
Заседания Общего собрания первоначально начинались в 10 часов утра, во второй половине века уже позднее - обычно в час дня, иногда сдвигаясь и на более позднее время (в основном по случаю каких-либо торжеств).
Заседания департаментов также начинались в час дня (кроме понедельника, когда соединенные департаменты заседали после окончания работы Общего собрания) и могли (с получасовым перерывом) продолжаться до 6 часов вечера
«Горячая трудовая пора» в Общем собрании начиналась после Пасхи - число рассматриваемых вопросов резко возрастало, заседания нередко затягивались до 6 часов вечера, а нередко оканчивались и позднее. Именно в это время рассматривалось и большинство сложных вопросов. Наплыв дел в конце сессии в значительной мере объяснялся существующим порядком их рассмотрения. Дела требовавшие рассмотрения до летних каникул с января 1882 года должны были вноситься в Совет не позднее 1 апреля, «обширные и сложные» - не позднее конца февраля, а с января 1883 года - не позднее 15 марта и 15 февраля соответственно. Позднее срок представления сложных дел был сдвинут на 1 марта. «Учреждением» 1901 года эти сроки - 1 марта для сложных дел и 15 марта для прочих, были закреплены законодательно. Мелкие и частные дела тем же «Учреждением» разрешалось вносить не позднее 1 мая. На практике эти сроки выдерживались далеко не всегда.
В конце каждой сессии еженедельно принималось от 15 до 30 мнений, а на последнем заседании еще больше, так, в 1893 году Александр III утвердил сразу 34 мнения принятых на последнем июньском заседании.
Традиция в целом запрещала переносить готовые дела на следующую сессию. Переносились обычно лишь дела по каким-то причинам (отсутствие необходимых отзывов, справок и пр.) не подготовленные к обсуждению. Для переноса готовых дел требовалось согласие соответствующего министра, а в некоторых случаях - и императора.
В силу такого подхода дела в Совете обычно не залеживались, а число нерешенных дел было невелико. При этом, как отмечает автор, среди современников было распространено убеждение, что Совет буквально завален разными важными законопроектами, не решающимися из-за дурной организации работы учреждения (снова поминается опус Скальковского).
Первое время Государственный совет размещался на втором этаже западной части Зимнего дворца. Позднее, в связи с расширением императорской семьи, он вынужден был перебраться сначала в дом гр. Румянцева на Дворовой площади, затем в Шепелевский дворец (на месте нынешнего Нового Эрмитажа), а в 1828 году переехал в здание Большого Эрмитажа, где размещался на первом этаже.
Все перечисленные помещения были тесны и мало подходили для работы Совета и Государственной канцелярии. Сотрудники последней большей частью работали дома. В 1839 году младших чиновников канцелярии обязали присутствовать на службе с 11 до 15 часов, однако старшие чины канцелярии по-прежнему занимались составлением бумаг на дому.
В 1885 году Государственный совет перебрался в выкупленный казной Мариинский дворец, обзаведясь, наконец, подходящими для работы помещениями.
Государственная канцелярия и Совет
скрытый текст
Канцелярия Непременного совета, созданная в 1801 году, включала 4 отделения: 1) по иностранной и коммерческой части; 2) военных дел - сухопутных и морских; 3) по гражданской и духовной части; 4) государственного хозяйства.
В 1810 году ее структура была изменена, подстроившись под структуру Совета и включала уже 5 отделений: 1) военных и морских дел; 2) дел гражданских и духовных; 3) государственной
экономии; 4) архив; 5) особенных поручений. Департамент законов собственного отделения не имел - его функции должна была выполнять Комиссия составления законов.
По штатному расписанию 1825 года канцелярия состояла уже из 6 отделений - четырех департаментских (включая отделение Департамента законов), архива и отделения по Общему собранию и государственного секретаря (бывшее особенных поручений, с 1842 года - отделение дел государственного секретаря). Эта структура сохранялась, в целом, до 1906 года (не считая краткого существования отделения дел Царства Польского и появившегося в 1901 году отделения промышленности, наук и торговли).
Во главе Государственной канцелярии стоял Государственный секретарь, бывший «центром и организатором дел Совета». Он работал в тесном контакте с председателем Совета, занимая по отношению к нему подчиненное положение. Перепиской и прочими делами государственного секретаря ведало соответствующее отделение канцелярии, помимо этого занимавшееся также подготовкой дел к слушанию в Общем собрании.
Отделения канцелярии возглавлялись статс-секретарями, статс-секретари департаментских отделений работали в тесном контакте с председателями профильных департаментов и также занимали по отношению к ним подчиненное положение.
Архивом руководил помощник статс-секретаря, выполнявший одновременно функции секретаря председателя Совета (председатели департаментов имели собственных секретарей из числа чиновников профильных отделений) и отвечавший за хозяйственные и финансовые дела Совета и охрану его помещений.
Государственная канцелярия играла огромную роль в работе Совета, практически полностью отвечая за подготовку дел к обсуждению и временами даже представляя предварительные предложения по их решению. Современники (Скальковский и проч.) склонны были оценивать роль Государственной канцелярии (и других высших канцелярий) негативно, обвиняя ее в чрезмерном влиянии на ход государственных дел и нередко приписывая разнообразные зловещие замыслы и злоупотребления, однако, как отмечает автор, на практике канцелярия действовала в достаточно жестких рамках, весьма ограничивавших возможность злоупотреблений.
Все подлежащие рассмотрению Советом дела поступали в Государственную канцелярию на имя государственного секретаря. Последний должен был определить относится ли дело к ведению Государственного совета, проверить наличие в деле обязательных документов - справки излагающей суть дела, проекта постановления, заключения министра и проч. и затем направить в соответствующее отделение канцелярии (департаментское или Общего собрания).
Подготовкой дел к слушанию занимались отделения. Закон требовал чтобы представляемые проекты содержали весь необходимый комплект документов, включая разнообразные справки, согласования с причастными ведомствами и проч. Однако на практике предоставляемых материалов сплошь и рядом оказывалось недостаточно и сбором разнообразных справочных сведений приходилось заниматься самой Государственной канцелярии. Тяжелую и неблагодарную работу по согласованию проектов с другими ведомствами министры также сплошь и рядом предпочитали перекладывать на Государственную канцелярию, пользуясь тем, что по закону она не могла не принять проект у министра.
Все это приводило к задержкам в рассмотрении дел (в чем современники винили ту же канцелярию). Так, поданый министром внутренних дел гр. Д. А. Толстым в 1887 году в Совет проект закона о земских начальниках завис в Совете почти на два года, при этом год был потрачен канцелярией на согласование его с другими ведомствами (юстиции, государственных имуществ, православного исповедания).
Готовое к докладу дело соответствующий статс-секретарь представлял государственному секретарю, проверявшему точность сведений и порядок изложения. После проверки последним дело включалось в список подготовленных дел, подававшихся председателю департамента или Совета, а затем включалось в повестку (в порядке важности).
По итогам заседания департамента или Общего собрания составлялся журнал заседания, представлявший собой развернутое изложение хода обсуждения, составленное на основе протокола заседания. По каждому рассмотренному делу составлялся отдельный журнал.
Департаментским журналам придавалось особое значение поскольку именно они являлись основой при рассмотрении дела в Общем собрании. Сроков составления для департаментских журналов не устанавливалось, в среднем на составление журнала по сложному делу, потребовавшему нескольких заседаний департамента, уходило около месяца (иногда больше), а по простому - не более недели.
Составлением журнала занималось соответствующее отделение канцелярии в лице помощников статс-секретаря (по простым делам - делопроизводителей), однако ответственность за составление журнала лежала на статс-секретаре (в некоторых случаях последний его лично и составлял). Он же отвечал и за редактирование текста и внесение разнообразных поправок, вносимых в процессе его согласования с председателями и членами департаментов, министрами и проч.
Составленный журнал просматривался государственным секретарем и председателем департамента и затем подписывался членами департамента на следующем заседании или рассылался им для подписи прямо на дом. При наличии спорных вопросов журнал рассылался в корректуре и на него вновь могли поступить замечания, вызывавшие новый раунд редактирования, и в итоге журналы по сложным делам могли подписываться спустя три-четыре месяца после заседания.
Для составления журналов Общих собраний, напротив, был установлен жесткий срок - неделя, до следующего заседания собрания, на котором подписывался составленный и отредактированный журнал предыдущего. В силу краткости сроков на дом членам собрания журналы не рассылались. В простых, не вызвавших разногласия в департаментах, случаях журналы Общего собрания могли заготавливаться заранее и подписываться на том же заседании, на котором заслушивалось дело. Так же поступали в случаях, когда требовалось срочно утвердить проект, при этом все согласования текста производились заранее.
Подписанные журналы поступали к государственному секретарю. Журналы департаментов готовились к рассмотрению в Общем собрании, а журналы Общего собрания (и те департаментские, что шли сразу на утверждение к императору) становились основой меморий.
Мемория включала изложение всех дел рассмотренных на одном заседании Общего собрания (отдельно по каждому делу) - соображений министра внесшего дело, отзывов других ведомств, хода обсуждения в департаментах и Общем собрании, возникших мнений (большинства, меньшинства, особые) и служила основанием для разрешения этих дел императором.
Мемории Общего собрания составлялись отделением дел государственного секретаря. Изготовление мемории в целом занимало неделю - сам текст составлялся в трехдневный срок и не позднее четверга доставлялся заведующему отделением, последний, после прочтения и редактирования, не позднее 16 часов субботы отправлял его государственному секретарю. Государственный секретарь в понедельник отсылал меморию управляющему С. Е. И. В. канцелярией (до 1882 года - управляющему ее Первым отделением) и утром во вторник она должна была лежать на столе у государя. При Александре II большая часть меморий подписывалась уже во вторник и в тот же день возвращалась государственному секретарю, объемные мемории возвращались на утро следующего дня. При Александре III большая часть меморий подписывалась уже в понедельник и нередко отсылалась обратно в тот же день.
Мемории департаментов (для дел шедших к императору мимо Общего собрания) составлялись соответствующими отделениями канцелярии, твердых сроков для их изготовления не существовало.
В целом, таким образом, дело решенное Общим собранием Совета на утверждение к государю поступало через две недели (неделя на составление и подписание журнала + неделя на составление и отсылку мемории). В срочных случаях срок мог быть сокращен - за счет сокращения сроков составления журнала (см. выше) и составления отдельной «особой части» мемории.
Руководство Совета и Государственной канцелярии следили за порядком и сроками прохождения дел и, в целом, как уже отмечалось, в Совете они не залеживались. Так, из 786 дел рассмотренных Советом за сессию 1892 /93 годов 92,5% находились на рассмотрении не более полугода, 79,5% - не более 4 месяцев и 26,6% - не более двух месяцев. От полугода до года рассматривалось всего 46 дел, более года - всего 13.
Значительные потери времени были возможны лишь на стадии подготовки дел к обсуждению в департаментах и в большинстве случаев вызывались задержками с получением заключений и отзывов от ведомств (т. е. при согласовании проекта с причастными ведомствами).
Иногда рассмотрение дел откладывалось по инициативе министров (внесших проект или руководителей причастных ведомств) или по причине смены министра (в последнем случае проект возвращался в министерство, чтобы новый министр мог с ним ознакомиться и, при желании, исправить). Так, проект Городового положения 1870 года был внесен в Совет министром внутренних дел П. А. Валуевым еще в январе 1867 года, однако после его отставки в марте 1868-го возвращен новому министру А. Е. Тимашеву и вновь внесен в Государственный совет только в 1869 году.
Император и Совет
скрытый текст
По закону император был главой Государственного совета, однако уже в первой половине XIX века монархи появлялись в нем нечасто (Александр I присутствовал на заседаниях в 1810 - 1812 годах, Николай I бывал в Совете периодически), а во второй - не появлялись вообще. Александр II и Александр III фактически участвовали только в торжественных мероприятиях* с участием Совета (по случаю восхождения на престол и пр.). О происходящем в Совете император узнавал в основном из еженедельных докладов председателя Совета и доставляемых ему меморий.
Существовавшая система государственного управления требовала от монарха ежедневного прочтения и утверждения множества документов, часто весьма объемных. Так, объем рукописных меморий Государственного совета уже в начале 1830-х годов достигал 150 листов и барон М. А. Корф, бывший государственным секретарем в 1834 - 1843 годах, весьма гордился тем, что ему удалось сократить их средний объем до 42, а потом и до 24 листов. Позднее объем меморий снова резко вырос - по установившейся практике к началу 1880-х в них целиком переписывались журналы заседаний Совета. В результате даже мемории «пустых» осенних заседаний Совета включали по 40-50 страниц, к концу сессии объем меморий доходил до 250-350 страниц, а мемории последних заседаний нередко включали более 500 страниц. Абсолютным рекордсменом стала мемория утвержденная 12 июня 1886 года - 1500 страниц. Департаментские мемории были меньше - их объем редко превышал 100 рукописных страниц.
С 1893 года мемории стали печатать типографским способом, что позволило резко сократить их физический объем - обычные мемории Общего собрания теперь включали 15-30 печатных страниц, изредка доходя до 60.
Александр III, в целом предпочитавший «бюрократический» стиль управления (число всяческих совещаний было резко сокращено, император предпочитал знакомиться с делами по документам), предпринял попытку сократить объем своей бумажной работы. В 1881 году император затребовал из министерств ведомости дел требовавших высочайшего разрешения и лично их существенно сократил, в основном за счет разнообразных мелких вопросов.
В том же, 1881 году, по инициативе государственного секретаря Е. А. Перетца, к мемориям Государственного совета стали прилагаться докладные записки, содержавшие краткое резюме всех внесенных в них дел, с указанием на наиболее важные. Записки писались государственным секретарем от руки, на листах небольшого размера и занимали от 4-6 до 16 страниц (с 1893 года, как и мемории, печатались типографским способом). Внедрение этой практики позволило существенно облегчить работу императора, который теперь даже позволял себе не читать, а пролистывать несложные дела. Аналогичная практика была видимо введена и в Комитете министров и в министерствах.
Как отмечает автор, во второй половине XIX века, с сокращением поездок монархов по стране, их возможности по получению информации от источников независимых от государственной бюрократии существенно снизились. Отчасти это компенсировалось развитием печатной прессы и личными контактами / перепиской с небольшим кругом доверенных лиц. В роли относительно независимого источника информации для монарха выступали и мемории Государственного совета (органа не зависящего от ведомственной политики), включавшие, помимо полной и структурированной информации по каждому проекту, еще и разнообразные мнения по соответствующему вопросу. Так, Александр III особенно интересовался делами вызвавшими разногласие в Совете и дававшими монарху возможность подробно ознакомиться с разными точками зрения.
При наличии разногласия императору представлялись мнения большинства, меньшинства и (при наличии) особые мнения членов Совета. Император мог поддержать любое из них или принять собственное решение - потребовать пересмотра дела, оставить его без последствий и пр.
В большинстве случаев монарх, однако, поддерживал мнение большинства. Так, Александр I при рассмотрении 242 дел с разногласием утвердил мнение большинства в 159 случаях и мнение меньшинства - в 83 (34%), в т. ч. в 4 случаях - мнение одного члена Совета [т. е. фактически особое]. Николай I в большинстве случаев поддерживал мнение большинства.
Александр II в начале правления нередко поддерживал мнение меньшинства (в основном по вопросам реформ), однако после назначения вел. кн. Константина Николаевича председателем Совета и подавления тамошнего свободомыслия (см. выше), подобные случаи сделались весьма редкими.
Александр III в 57 делах с «существенным» разногласием в 38 случаях согласился с большинством, а в 19 (33%) - с меньшинством, в т. ч. в 2 случаях - с мнением одного члена Совета.
Как отмечает автор, отношение общества и самого Совета к «меньшинству» и «большинству» в последнем со временем все более менялось - все большую поддержку находило мнение, что «большинство» должно пользоваться бОльшим доверием, а утверждение мнения меньшинства есть проявление недоверия и неуважения императора к Совету. Утверждение же особых мнений или требования пересмотра дела вообще воспринимались почти как оскорбление.
Впрочем, как опять же отмечает автор, мнения по этому вопросу существенно разнились в зависимости от конкретного содержания проектов и политических взглядов авторов этих мнений. Так, в 1860 - 1870-х годах поддержка Александром II наиболее радикальных проектов реформ вопреки мнению большинства Совета вызывала ликование либералов и сетования консерваторов. Четверть века спустя поддержка Александром III консервативных проектов, опять же, вопреки мнению большинства, реакцию у либералов и консерваторов вызывала прямо противоположную.
Сами монархи, впрочем, вообще не видели во всем этом проблемы, воспринимая Совет не как высший законосовещательный орган, а скорее как разновидность традиционного совета при государе. Так, Александр III, вернувший Совету свободу обсуждения дел и даже поощрявший разногласия - поскольку это способствовало выработке его собственного взгляда по конкретным вопросам, вовсе не считал, что мнение Совета его к чему-либо обязывает - о чем прямо и заявлял.
* Александр II еще и в первом заседании посвященном крестьянской реформе, задавшем ход ее рассмотрения.

* * *
Кассационный Сенат (1866 - 1917)
Обширный труд посвященный созданию, устройству и деятельности верховного суда Российской Империи. Книга очень хорошая, написана прекрасным языком (и даже вычитана - явление нынче крайне редкое) и вполне доступно и для неюристов. В приложениях списки сенаторов, обер-прокуроров и товарищей обер-прокуроров, биографические справки, статистика дел и проч.
скрытый текстДореформенный Сенат
скрытый текст
Правительствующий Сенат был учрежден Петром в 1711 году, представляя собой фактически вестернизированный вариант Боярской Думы и унаследовав в целом ее «функционал», включая судебные полномочия.
Судебные решения в Сенате принимались коллегиально, большинством голосов, оставшиеся в меньшинстве сенаторы обязаны были подписать определение, но могли изложить особое мнение, фиксировавшееся в протоколе и сенатском журнале.
В первые десятилетия существования Сената особые мнения были редкостью, однако со временем разногласия участились и при Елизавете Петровне сложился определенный порядок разрешения споров. Генерал-прокурор Сената (или его заместитель, обер-прокурор) при возникновении разногласий между сенаторами должен был склонять их к единогласию, если же добиться последнего не удавалось - приносил «протест», после чего «экстракт» дела, вместе с особыми мнениями, представлялся императрице, принимавшей окончательное решение.
Решения Сената оформлялись в виде «публичного» или «сепаратного» указа, сенатского или именного императорского. Публичные указы (большей частью не касавшиеся судебных дел) рассылались в нижестоящие учреждения и нередко публиковались «во всенародное известие». Сепаратные указы касались лишь участников конкретного дела и сохранялись в сенатском архиве, играя роль прецедентов.
По указу 1714 года Сенат в судебной практике должен был руководствоваться Соборным Уложением 1649 года, обращаясь к «новоуказным статьям» (прецедентам досенатского времени) и сепаратным указам лишь в случаях Уложением не регулировавшихся.
Толкованием законов Сенат занимался по запросам нижестоящих учреждений или при решении конкретных судебных дел. Для создания новой нормы требовалось единогласие сенаторов и генерал-прокурора, в противном случае вопрос передавался на разрешение монарху (что было своеобразной формой законодательной инициативы).
Скромный состав Сената (около 15 человек) и сенатского аппарата (ок. 70 человек), загруженных помимо судебных и другими делами, способствовал развитию судебной волокиты. В декабре 1763 года последовала радикальная перестройка Сената - он был разделен на 6 департаментов (4 петербургских и 2 московских, в каждом не менее 5 сенаторов). Два департамента (Второй петербургский и Шестой московский) специализировались теперь на судебных делах и именовались «апелляционными», компетенция их разделялась лишь территориально. Оба департамента решали дела от имени всего Сената, но лишь при единогласии сенаторов. Если его добиться не удавалось дело рассматривало Общее собрание департаментов (соответственно петербургских или московских). При отсутствии согласия и там дело - решалось лично императрицей.
Екатерина не любила разногласий в апелляционных департаментах, всячески понуждая их к единомыслию, Сенат формально был лишен и права толковать законы (хотя фактически это делалось). Это соответствовало взглядам императрицы (закон должен быть прост и понятен, необходимость толкования - свидетельство дефектности закона), характерным для ее родной Германии.
В год Сенатом рассматривалось по нескольку сотен судебных дел. Специального юридического образования сенаторы XVIII века не имели, будучи большей частью высшими сановниками и опираясь при решении дел, в первую очередь, на свой административно-практический и жизненный опыт. Высшим судьей в государстве оставался монарх и любое сенатское решение могло быть отменено или пересмотрено по его воле (Екатерина II, например, вмешивалась в сенатское судопроизводство ок. 500 раз).
При Павле число департаментов было увеличено до девяти. Прежнего единомыслия уже не требовалось - Павел предписал решать дела в Общем собрании петербургских департаментов по большинству голосов, хотя генерал-прокурору по-прежнему следовало склонять сенаторов к единомыслию, а о разногласиях между сенаторами непременно сообщалось государю (сей либерализм был вызван видимо увеличением числа сенаторов, что затрудняло выработку единого мнения, а не особой терпимостью императора).
Александр I , указом 1802 года, ввел норму в 2/3 голосов для решения вопроса в Общем собрании департаментов. Не решенные Сенатом дела теперь отправлялись в учрежденный в 1801 году Государственный Совет и лишь мнение (или одно из мнений) Совета утверждалось монархом (который, впрочем, мог решить дело и по-своему). В департаментах по-прежнему требовалось единогласие. Поскольку в это время разногласия между сенаторами стали уже обычным делом, выработка решения требовала долгих согласительных процедур и нерешенные дела быстро накапливались.
При Николае I роль Сената оставалась прежней и сам он держался крайне пассивно, не используя фактически имевшееся у него право законодательной инициативы и мало используя право толкования законов. Большое значение имело учреждение в 1835 году Училища правоведения, высококвалифицированные выпускники которого к концу царствования стали все больше наполнять сенатские канцелярии.
Ко времени судебной реформы Сенат состоял из занятых административными делами Первого департамента и Департамента герольдии, 9 судебных апелляционных департаментов и примыкавшего к последним Межевого департамента. Четыре судебных департамента (Второй и Четвертый уголовные и Третий и Пятый, ведавшие гражданскими делами) располагались в Петербурге, три (Шестой уголовный, Седьмой и Восьмой гражданские) - в Москве и два (Девятый гражданский и Десятый уголовный) - в Варшаве. Дела между департаментами распределялись по территориальному признаку. Имелось четыре Общих собрания департаментов - по одному в Москве и Варшаве и два в Петербурге (Первый, Второй, Третий судебные и Департамент герольдии составляли Первое Общее собрание, а Четвертый, Пятый и Межевой департаменты - Второе).
По мере распространения судебной реформы «старые» судебные департаменты ликвидировались (упразднены, вместе с Межевым, в 1872 - 1898 годах). Из Первого в 1883 году был выделен новый Второй департамент (поземельные споры крестьян), судебные дела не относившиеся к компетенции новоучрежденных кассационных департаментов к концу века были переданы еще одному новому учреждению - Судебному департаменту. В итоге, к концу XIX века все департаменты Сената сосредоточились в Петербурге, составляя два Общих собрания - Первое (Первый, Второй департамент и Департамент герольдии) и Второе (Судебный и один из двух кассационных, в зависимости от принадлежности дела).
На 1859 год в Сенате производилось 43 087 дел - 20 979 «распорядительных» (по Первому, Межевому департаментам и Департаменту герольдии), 18 449 гражданских и 3 659 уголовных. Часть уголовных дел поступала в Сенат без апелляции, в т. н. ревизионном порядке - для проверки требуемой законом. Таковых на 1859 год было 2 730 (почти 75%). Из 929 апелляционных дел отмены или изменения избежали лишь 425 (45%) приговоров.
На рассмотрение общих собраний Сената в 1859 году было вынесено 431 дело, в т. ч. 71 уголовное (37 - по разногласиям между сенаторами, 23 - по несогласию с заключениями Сената разных министров и управляющих ведомствами, 10 - по несогласию министерства юстиции и обер-прокуроров, 1 - по высочайшему повелению) и 124 гражданских (49 - по разногласиям между сенаторами, 33 - по несогласию с заключениями Сената разных министров и управляющих ведомствами, 26 - по несогласию министерства юстиции и обер-прокуроров, 16 - по высочайшему повелению). Всего же (включая дела прошлых лет) общие собрания в этом году рассмотрели 89 уголовных и 401 гражданское дело.
В департаментах по итогам года оставалось «в остатке» 4 уголовных и 3 979 (!) гражданских дел. В целом, как отмечает автор, старый Сенат неважно справлялся с притоком дел, особенно гражданских.
В Государственный Совет из общих собраний Сената в 1859 году было передано 35 дел (из 431) - 28 из-за отсутствия большинства, 1 - по возражению министра юстиции и 6 - по высочайшему повелению.
Судебная реформа
скрытый текст
Концепция коренной реформы судебной системы (включавшая и превращение Сената в кассационный суд) были впервые предложена в записке М. А. Балугьянского, начальника Второго (кодификационного) отделения С. Е. И. В. канцелярии, поданной в 1828 году, однако тогда не нашла понимания.
Разработка судебной реформы была начата в ноябре 1848 года по инициативе Николая I и неспешно велась в том же Втором отделении императорской канцелярии, возглавляемом графом Д. Н. Блудовым. В конце 1861 года дело подготовки реформы было передано в Государственную канцелярию и процесс ее разработки резко ускорился.
В январе - апреле 1862 года сотрудниками Государственной канцелярии и привлеченными юристами была разработана концепция реформы. В апреле - сентябре 1862 года она прошла обсуждение в Государственном совете и к октябрю 1862-го были выработаны Основные положения грядущей реформы. Тогда же для составления проектов необходимых законов была образована Комиссия для составления проектов законоположений при Государственной канцелярии (во главе с государственным секретарем В. П. Бутковым). Комиссия состояла из трех отделений - уголовного, гражданского и судоустройства и включала три десятка постоянных членов (помимо них в работе участвовало значительное число приглашенных экспертов). Среди членов комиссии наиболее заметную роль играли и. д. статс-секретаря Государственного совета С. И. Зарудный (возглавлял гражданское отделение комиссии и был, как отмечает автор, душой всего дела) и обер-прокурор Общего собрания московских департаментов Сената Н. А. Буцковский (возглавлял уголовное отделение комиссии). По большинству вопросов устройства кассационного Сената Зарудный и Буцковский придерживались противоположных взглядов и конечный результат работы комиссии был комбинацией их позиций.
В октябре 1862 - апреле 1864 года комиссией были выработаны проекты трех уставов - уголовного и гражданского судопроизводства и учреждения судебных установлений*. В мае - июне 1864 года они прошли обсуждение в Государственном совете и 20 ноября 1864-го были утверждены императором.
Вводить в действие новые уставы было решено постепенно, сначала в избранных губерниях, распространяя затем на всё новые регионы. В апреле 1866 года были открыты кассационные департаменты Сената и судебные учреждения нового образца в 10 центральных губерниях империи, составивших округа Московской и Петербургской судебных палат. Введение Судебных уставов в прочих регионах растянулось до 1899 года. К 1870 году под юрисдикцией новых судов находилось 40,5% населения империи, к 1881 году - 60,7% населения - без учета местностей где Судебные уставы были введены частично, с учетом последних под юрисдикцией новых судов жило до 3/4 населения империи.
Временно сохранявшиеся старые судебные учреждения после начала реформы также не оставались неизменными - действовавшие в них процессуальные нормы были существенно обновлены особым законом от 11 октября 1865 года.
* Еще один - о наказаниях налагаемых мировыми судьями, был разработан Вторым отделением С. Е. И. В. канцелярии.
Судебное ведомство по уставам 1864 года
скрытый текст
Новая судебная система разделялась на две ветви - общие (коронные) суды и суды мировые. Каждая из них включала две инстанции - первую и апелляционную. Обе ветви замыкались на кассационные департаменты Сената, исполнявшие роль верховного суда.
Первой инстанцией общего суда был окружной суд. Судебный округ мог включать целую губернию или ее часть. В больших губерниях могло быть два или три окружных суда, так, территория Харьковской губернии разделялась на округа Харьковского, Сумского и Изюмского судов. Число судей в окружном суде различалось - в малых округах имелось 5-6 судей, в столичных - до 25.
Второй, апелляционной, инстанцией в системе общих судов была судебная палата. В округ судебной палаты могло входить от 4 до 15 окружных судов, обычно имелось 7-8. Внутри себя палата делилась на гражданские и уголовные департаменты (их могло быть до восьми), председатель одного из департаментов назначался старшим председателем судебной палаты, т. е. ее главой.
Судьи окружных судов и судебных палат именовались их членами и назначались императором по представлению министра юстиции. Кандидатов для назначения помимо министра могли предлагать и суды в которых имелась вакансия. По некоторым сведениям по рекомендациям самих судов назначалось до половины судей.
К 1881 году в империи имелось 65 окружных судов, распределенных по 8 округам судебных палат. Ими была покрыта почти вся территория Европейской России. На окраинах судебная реформа завершилась к 1899 году и позднее число окружных судов росло только за счет дробления уже существующих округов.
К 1914 году имелось уже 110 окружных судов, входивших в состав округов 14 судебных палат: Московской (15 окружных судов), Петербургской (11), Варшавской (10), Киевской (9), Харьковской (9), Иркутской (8), Саратовской (8), Одесской (7), Казанской (7), Новочеркасской (6), Тифлисской (6), Омской (5), Ташкентской (5), Виленской (4).
Окружные суды рассматривали серьезные административные и уголовные дела и судили в двух вариантах - коллегией судей (не менее трех человек) или коллегией присяжных. Апелляции на решения последней не принимались, однако на них можно было подать кассационную жалобу.
Присяжными рассматривался огромный процент дел, на 1900 год - 26 805 против 33 605 дел без присяжных (в Германии на 1901 год присяжные рассмотрели 5 100 дел из 466 838, во Франции - 2 283 из 218 057, в Италии на 1900 год - 4 843 из 304 392). Позднее доля дел рассматриваемых присяжными только росла, к 1909 году достигая уже 69% - в 70 окружных судах Европейской России присяжными было рассмотрено 44 693 дела (+ 385 с участием сословных представителей), без них - 19 824.
На окраинах (округа Иркутской, Ташкентской, Тифлисской, Варшавской судебных палат и Прибалтика) суд присяжных отсутствовал - отчасти из-за дикости населения, отчасти из-за межнациональных проблем.
Суд присяжных чаще выносил оправдательные приговоры, так, на 1876 год присяжные вынесли обвинительные приговоры в 63,4% случаев (суды без присяжных - в 77,1%), на 1883 год соответственно в 56,6 и 70,8%, на 1891 год - в 66 и 73,2%. Строгость присяжных была неодинакова и в целом падала с севера на юг - самыми строгими были присяжные Ярославского окружного суда, за пять лет (видимо 1888 - 1893) осудившие 79,4% обвиняемых, самыми мягкими - Воронежского (54,1%).
Первой инстанцией мирового суда был участковый мировой судья. Во внутренних губерниях он избирался, сроком на три года, местным уездным земством и утверждался Сенатом, на окраинах назначался властями.
Юридического образования от мирового судьи не требовалось, достаточно было любого высшего (при некоторых условиях - даже среднего), а также соответствия имущественному цензу. Помимо участковых избирались также [добавочные мировые судьи (заменявшие при необходимости участковых)] и почетные мировые судьи, не имевшие собственных участков и не получавшие вознаграждения, однако участвовавшие в мировых съездах и выступавшие медиаторами при согласии сторон.
Мировой судья судил единолично, в его юрисдикцию попадали гражданские иски ценой не более 500 рублей, иски о личных обидах и оскорблениях и о восстановлении нарушенного владения, а в уголовной части - проступки наказанием за которые могли быть выговор, штраф до 300 рублей, арест на срок не более 3 месяцев, тюремное заключение сроком не более года.
В 1912 году планка по имущественным искам была поднята до 1 000 рублей, уголовная юрисдикция также была расширена, в нее вошли деяния за которые полагались: выговор, замечание, внушение, штраф до 1000 рублей, арест любой продолжительности и тюремное заключение (любой продолжительности) не соединенное с лишением всех особенных или некоторых личных и по состоянию присвоенных прав.
Апелляционной инстанцией в этой судебной ветви являлся мировой съезд, включавший всех участковых судей мирового округа (последний представлял собой уезд, делившийся на участки - по 20 - 40 тысяч жителей в каждом), а также почетных судей. Мировой съезд рассматривал аппеляции на решения участковых судей (а также кассации по самым мелким делам, по которым апелляции не было), принимая решения коллегиально (не менее 3 судей).
В 1889 году мировые суды были ликвидированы во внутренних губерниях, сохранившись только в крупных городах. Вместо них были введены земские участковые начальники, а для крестьян - волостной суд, стоявшие вне описанной системы. Вне ее оставались также военные суды, суды церковные и коммерческие суды (ликвидации которых энергично противились предпринимательские круги).
Нагрузка судей обеих судебных ветвей была очень велика. В 1868 году на мирового судью Петербурга приходилось в среднем 2600 дел в год, на 1900 год в столицах и крупнейших городах - в среднем св. 3600 и т. д.
Окружные судьи рассматривали в среднем ок. 500 дел в год. Так, в 1909 году 1511 окружных судей рассмотрели по существу 289 тыс. гражданских и 121 тыс. уголовных дел (в среднем 271 дело на судью). Еще 316 тыс. дел было рассмотрено в распорядительных заседаниях (о прекращении уголовного преследования и проч.) - плюс еще 209 дел на судью. Помимо этого, в общих собраниях окружных судов, с участием всех судей было рассмотрено еще 33 тыс. дел. (плюс еще несколько десятков дел на каждого судью). Фактически, с учетом коллегиального характера рассмотрения дел, окружной судья был загружен еще больше - участвовал примерно в 1,5 тысячах дел ежегодно.
Судебная реформа создала тип карьерного судьи-профессионала, ранее в России почти неизвестный. Преобразования были начаты в условиях большого дефицита кадров (чем во многом и объяснялась постепенность введения новых судебных уставов) - в 1822 - 1862 годах высшее юридическое образование в империи получило 9 184 лица, прочее высшее - 5 750 лиц. Даже к концу царствования Александра II более половины чинов судебного ведомства не имело юридического образования - более половины мировых судей, 22% членов окружных судов, 15% председателей окружных судов, 7% членов судебных палат. На местах положение могло сильно различаться, так, в конце 1870-х в Лубенском окружном суде все 8 членов имели юридическое образования, а в Ярославском окружном суде из 8 членов его имел только один.
Отсутствие юридического образования, впрочем, не помешало выдвинуться ряду блестящих деятелей нового суда - его не имели, например, основные творцы новых Судебных уставов, вышеупомянутые С. И. Зарудный (окончил физико-математический факультет) и Н. А. Буцковский (инженер и математик).
Нехватка кадров в первые годы реформы способствовала стремительному развитию карьер. В те же первые пореформенные годы в судебном ведомстве наблюдалось и определенное «засилье» «правоведов» - привилегированных выпускников Училища правоведения, имевших отличное образование и державшихся очень сплоченно. Это «засилье» породило острый антагонизм между правоведами и выпускниками университетов, имевшими менее благоприятные возможности для карьеры. Позднее влияние правоведов стало постепенно убывать, однако в высших слоях судебного ведомства сохранялось еще долго. Так, к началу 1908 года из 2 020 судей общих судов, привилегированные Училище правоведения и Александровский лицей окончило 120 чел. (5%), а среди сенаторов уголовного кассационного департамента таковых имелось 42%.
Из общего числа кассационных сенаторов назначенных в 1862 - 1917 годах (295 человек, без учета повторных назначений и переводов), Училище правоведения окончили 107 чел, Александровский лицей - 18, Петербургский университет - 59, Московский - 58, Киевский и Харьковский - по 13 чел., и прочие университеты - 27 чел. Таким образом, правоведы составляли 36% всех назначенных сенаторов, а вместе с лицеистами - 42%. При этом однако доля правоведов среди назначенных сенаторов со временем падала - при министре юстиции гр. К. И. Палене (1867 - 1878) из 60 назначенных сенаторов правоведов было 29, а лицеистов - 9, при министре Д. Н. Набокове (1878 - 1885) - из 28 назначенных сенаторов 16 были правоведами и один лицеистом, при Н. В. Муравьеве (1894 - 1905) из 61 сенатора правоведами были 14 и лицеистами - 4, при И. Г. Щегловитове (1906 - 1915) из 80 назначенных сенаторов Училище правоведения закончило 25, а Лицей - один.
Среди прочей верхушки судебного ведомства (председатели судебных палат и их департаментов, члены судебных палат, председатели окружных судов и их товарищи) выпускников привилегированных учебных заведений в начале XX века было немного - на 1916 год из 675 человек занимавших вышеперечисленные должности правоведами были 48, лицеистами - 15 (тогда как выпускников одного только Московского университета имелось 169).
Материальное обеспечение у русских судей было одним из лучших в Европе, уступая только английскому. Член окружного суда получал 2 200 рублей в год (жалованье, столовые и квартирные деньги), мировой судья - 1 500 руб. Последнему могло также доплачивать земство из собственных средств (при условии чтобы жалованье не превышало оклад членов окружного суда). При разработке Судебных уставов предлагалось увеличивать жалованье судей на 20% за каждые 7 лет службы, однако от этого отказались.
В Пруссии на 1880 год стартовое жалованье судьи составляло 2 400 марок (1 080 рублей), младшего члена апелляционного суда - 4 200 марок (1 890 рублей). Во Франции на 1899 год члены судов первой инстанции получали 3 000 франков (1 000 рублей), мировые судьи - 1 800 франков (600 рублей), старший председатель кассационной палаты (аналога Кассационного Сената) - 30 000 франков (10 000 рублей). В Англии, на 1899 год, судья графства или лондонского полицейского суда получал 37 500 франков (12 500 рублей).
Изначально установленные оклады долгое время не менялись и со временем стали все меньше устраивать судей. Правительство долго ограничивалось паллиативными мерами, периодически устанавливая надбавки (в несколько сотен рублей) для членов окружных судов и судебных палат (законы 1885, 1886, 1891, 1896 и 1899 годов). Наконец, в июле 1908 года были повышены оклады всех коронных судей - рядовых членов окружного суда до 3 300 рублей [(2 200 руб. жалованья и по 550 руб. столовых и квартирных), председателей окружного суда - до 5 300 руб. (3 300 + 1 000 + 1 000), членов судебных палат и товарищей председателей окружных судов - до 4 200 руб. (2 700 + 750 + 750), председателям департаментов судебных палат - до 5 600 руб. (3 600 + 1 000 + 1 000) и председателям судебных палат - до 7 000 руб. (4 000 + 1 500 + 1 500)].
Оклады мировых судей были подняты в 1912 году - до 2 000 рублей.
Сенатор кассационного департамента изначально получал 7 000 рублей в год, что признавалось недостаточным, учитывая положение и необходимый образ жизни сенатора. В 1908 году сенаторское содержание увеличилось до 8 000 руб. (4 000 руб. жалованья и по 2 000 руб. квартирных и столовых денег), первоприсутствующим в департаменте, Общем собрании кассационных департаментов и Соединенном присутствии Первого и Кассационного департаментов доплачивалось по 1 000 руб. В декабре 1916 года оклады сенаторов всех департаментов были повышены до 10 000 рублей.
Помимо окладов некоторые сенаторы получали добавочное жалованье - т. н. аренды, доходившие до 2 000 рублей в год и пр. Сенаторская пенсия по тогдашним представлениям была невелика - 2 000 рублей.
В целом, реформированная судебная система финансировалась достаточно щедро. В 1881 году на судебные установления было потрачено 14,3 млн руб. из 717,5 млн расходов государственного бюджета (2%) - без учета расходов земств на мировые суды (на 1880 год - 4,3 млн руб., примерно 12% всех земских расходов). По проекту бюджета 1914 года на суды предполагалось потратить 56,27 млн руб. из общих 3,614 млрд руб. расходов (1,6%) - опять же, без учета расходов земств. Для сравнения, в РФ на 2020 год расходы на судебную систему составили 1,06% федерального и менее 0,6% консолидированного бюджета.
По закону члены окружного суда состояли в V классе (статский советник), а председатели судов в IV классе (действительный статский советник) должности, т. е. пользовались соответствующими правами и преимуществами на время отправления должности. Фактический их чин мог быть много ниже. Изначально законодательство не предусматривало производство в чины (и награждение орденами) судей за выслугу лет, предполагалось, что их чинопроизводство будет как бы заморожено на время службы, а соответствующие права будут учтены по оставлении судейского звания. Однако укоренившееся в обществе чинолюбие и чинопочитание вскоре привело к деформации закона и производство в чины судей возобновилось.
Рядовой член окружного суда мог дослужиться до чина действительного тайного советника, для членов судебных палат он был частым явлением, а председатели окружных судов департаментов судебных палат как правило состояли в этом чине, иногда достигая и чина тайного советника (III класс). Последний был обычен для председателей судебных палат и типичен для сенаторов.
Ордена судьи получали на общих основаниях. Максимумом для большинства сенаторов был Владимир 2-й степени или Анна 1-й, в единичных случаях они удостаивались Владимира 1-й степени, орденов Александра Невского или Белого Орла.
Закон позволял подавать на судей гражданские иски за неправосудные решения, поскольку бывали случаи когда они не могли быть исправлены в институциональном порядке. Судьи могли привлекаться и к уголовной ответственности.
Судебная реформа сделала суд центром юридической жизни. Система прокуратуры была привязана к судебной - вместо губернских и прочих прокуроров появились прокурор окружного суда, его товарищи и помощники и прокурор судебной палаты с товарищами и помощниками. При кассационных департаментах Сената состояли обер-прокуроры. Судебные следователи являлись членами окружного суда. Присяжные поверенные (адвокаты) состояли под надзором судов - непосредственно или через совет присяжных поверенных. Частные поверенные (введены в 1874 году) получали свои свидетельства (лицензии) от судов. При судах состояли старшие нотариусы, судебные приставы и пр.
Новый суд, правительство и общественность
скрытый текст
Как отмечает автор, введение новых Судебных уставов фактически вело к ограничению самодержавия и прекращению существования абсолютной монархии - самодержец добровольно отказывался от вмешательства в судебные дела и от верховной судебной власти. Жалобы на решения кассационных департаментов не принимались, была введена несменяемость судей - судьи (включая сенаторов) хотя и назначались императором, но смещены или перемещены могли быть только с собственного согласия. Фактически принцип несменяемости утвердился не сразу, уже в 1867 году Александр II пожелал уволить сенатора М. Н. Любощинского, однако императору разъяснили, что увольнение противоречит им же подписанным Судебным уставам и оно не состоялось.
Принципа несменяемости судей и невмешательства в судебные дела русские монархи строго придерживались и позднее. Как отмечает автор, за все время применения Судебных уставов не было ни одного случая отмены или изменения решения суда на основании высочайшего повеления.
За императором оставались право помилования осужденных и право прекращать уголовное преследование высочайшим повелением на этапе следствия (как отмечается, последним правом обладали и обладают, например, президенты США).
Поскольку Судебные уставы вводились постепенно, на территории империи фактически долгое время сосуществовали два правовых режима - в областях где уставы введены не были монарх по-прежнему пользовался (хотя и редко) правом верховной судебной власти, там же где уставы были введены он довольствовался лишь высшими административными и законодательными полномочиями.
Фактически правовых режимов было даже три - часть губерний где Судебные уставы были введены находилась на положении усиленной охраны. Чрезвычайное законодательство начало вводиться с 1878 года, на фоне резкого роста террористической угрозы и уже после убийства Александра II было преобразовано принятым 14 августа 1881 года «Положением о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия».
Режим усиленной охраны позволял шире использовать военные суды для для рассмотрения дел по государственным преступлениям, а также широко применять практику внесудебных административных наказаний (штрафов, арестов, ссылок - на срок до 5 лет и пр.).
Как отмечает автор, фактически полномочия монарха были ограничены и в сфере действия старых судебных установлений. Прежняя Комиссия прошений, распоряжавшаяся монаршей милостью, в мае 1884 года была упразднена. Ей наследовали два новосозданных учреждения. Канцелярия по принятию прошений на высочайшее имя приносимых (с 1895 года Канцелярия Е. И. В. по принятию прошений) выполняла фактически роль передаточной инстанции, распределяя прошения (в основном просьбы о разнообразных льготах) между соответствующими ведомствами.
Временное (позднее Особое) при Государственном совете присутствие для предварительного рассмотрения жалоб на определения департаментов Сената, состоявшее из членов Государственного совета и сенаторов, принимало жалобы на определения старых (не кассационных) департаментов Сената, представляя императору соответствующее заключение (есть ли основания для передачи дела в соответствующее Общее собрание Сената). [Таким образом, судьбу прошений на высочайшее имя фактически определял уже не сам монарх].
При сохранении широкой независимости от власти, новая судебная система оказалась весьма восприимчива к влиянию общественности (дело Засулич и пр.). Среди чинов судебного ведомств имелось множество людей с либеральными и даже леволиберальными взглядами, что никак не отражалось на их положении и карьере. Подобное положение вызывало растущее недовольство консервативных кругов. Нападки на судебный корпус и Сенат особенно усилились после убийства Александра II. Отдельно осуждался принцип несменяемости судей, причем в пример правительству ставилась республиканская Франция, в 1883 году временно отменившая несменяемость - ради чистки судебного корпуса от судей-монархистов.
Русское правительство, тем не менее, на отмену несменяемости судей не пошло, ограничившись усилением их дисциплинарной ответственности. В 1885 году было учреждено Высшее дисциплинарное присутствие Сената. Ранее судьи могли привлекаться к дисциплинарной ответственности (замечание или выговор с занесением или без занесения в послужной список) за неумышленные ошибки и к уголовной (с устранением от должности) - за умышленную несправедливость. С введением Судебных уставов Общее собрание кассационных департаментов получило право удалять судью от должности и за уголовное преступление или проступок не относящиеся к службе, а также в случае признания его банкротом. Высшее дисциплинарное присутствие получило право отстранять судей и за проступки не наказуемые уголовно, однако делающие пребывание соответствующего лица в должности неуместным (и совершенные как на службе, так и вне ее).
Дисциплинарная компетенция ВДП была ограничена в основном высшими представителями судебного корпуса (председателями и членами судебных палат, председателями окружных судов и пр.), однако санкции за аморальное поведение, вредящее престижу судейской должности, оно могло применять ко всем судьям без исключения, включая мировых.
Практическое значение новой институции оказалось впрочем невелико - за первые девять лет ее деятельности (1886 - 1895) от должности за предосудительный образ действий было отстранено всего два человека.
Позднее, желая все же обеспечить суды приемлемым для себя составом, сократив число т. н. «кадетствующих судей», правительство при назначении судей все чаще игнорировало кандидатуры выдвигаемые самими судами, предпочитая ставленников министров юстиции (особый размах эта практика приняла при министре юстиции Щегловитове).
В годы первой революции имело место два случая нарушения принципа несменяемости. В январе 1906 года председатель Томского окружного суда Альфонс Витте был уволен без прошения по докладу министра юстиции - после того как в условиях военного положения его отрешил от должности командующий войсками Сибирского военного округа генерал Сухотин. Как отмечает автор, это был едва ли не единственный случай открытого нарушения принципа несменяемости. Задним числом Витте было указано считать уволенным по прошению (против чего сам он протестовал в печати) - с сохранением служебных прав.
Старший председатель Московской судебной палаты Ф. Ф. Арнольд в 1907 году навлек на себя гнев императора, разрешив митинг в Сенатском дворце Кремля. Несмотря на поддержку министра юстиции он в конце концов вынужден был оставить свой пост (формально добровольно) и перейти на службу в Судебный департамент Сената.
Наиболее серьезным и продолжительным нарушением принципа несменяемости судей со стороны правительства была ситуация с судебными следователями. Последние, по закону являвшиеся членами окружных судов, сплошь и рядом не утверждались официально в должности, годами (иногда по 10-12 лет) числясь «исправляющими должность» или «исполняющими обязанности» (что не давало им судейской несменяемости).
Назначение несменяемых судебных следователей было приостановлено высочайшим повелением в 1870 году и к концу 1879 года лишь 6% (58 из 940) из них было утверждено в должности. Само правительство объясняло такую практику нехваткой подготовленных кадров и нежеланием давать несменяемость людям чья компетентность вызывала сомнения. В 1904 году министр юстиции Муравьев озаботился этим вопросом и по его инициативе в должности было утверждено сразу 256 из 1 587 исполнявших должность следователей.
В целом, как отмечает автор, «можно констатировать, что случаи политического давления на суды вообще и Сенат в частности хотя и бывали, но являлись эксцессами, а не системой, и поэтому отнюдь не всегда были успешны: суды, даже УКД часто выносили либеральные решения... при этом источником давления на суд было не только и даже не столько правительство, сколько общественное мнение, находившееся под обаянием радикальных и прогрессистских идей».
Кассационный Сенат
скрытый текст
Кассационный Сенат включал два кассационных департамента - Гражданский и Уголовный (ГКД и УКД). Оба департамента были открыты в Петербурге 16/28 апреля 1868 года, однако к работе по профилю фактически приступили позднее - первое дело поступило на рассмотрение ГКД лишь в середине июля 1868 года.
Первоначальный состав департаментов был весьма скромным - 4 сенатора (включая первоприсутствующих), обер-прокурор и товарищ обер-прокурора в каждом.
Сенаторы кассационных департаментов формально назначались лично императором - именным императорским указом. Фактически (формально это не было прописано в законе) подбором кандидатов занимался министр юстиции. В ходе разработки судебной реформы предлагалось предоставить это право самим кассационным департаментам, однако поддержки это предложение тогда не нашло и право рекомендовать кандидатов на открывшиеся вакансии департаменты получили только в декабре 1916 года.
Кандидат на место сенатора кассационных департаментов должен был иметь чин не ниже IV класса Табели о рангах и не менее трех лет прослужить в должности обер-прокурора, товарища обер-прокурора или председателя, товарища председателя или члена судебной палаты (на практике последнее требование выдерживалось не всегда).
В первые десятилетия после реформы к присутствию в кассационных департаментах нередко назначались сенаторы старых судебных, но по мере их ликвидации эта практика сошла на нет. Изредка практиковалось также временное привлечение сенаторов из других департаментов. Перемещение самих кассационных сенаторов в другие департаменты без их согласия не допускалось.
Кассационные департаменты возглавлялись первоприсутствующими сенаторами. Первоприсутствующий назначался императором из числа наличных сенаторов. Императором же назначался и первоприсутствующий в Общем собрании кассационных департаментов, официально считавшийся главным судьей империи - обычно эту должность занимал первоприсутствующий одного из департаментов.
Первоприсутствующий не был формальным начальником нижестоящих судей, являясь скорее старейшиной судебного корпуса, однако обладал достаточно широкими полномочиями. Он распределял дела между сенаторами, вел заседание соответствующего департамента, ставил вопросы на голосование, провозглашал решение Сената по делу. Департаментский первоприсутствующий имел также право решающего голоса при отборе решений Сената, предназначавшихся для публикации в качестве прецедентов направляющих судебную практику.
Первоприсутствующий в Общем собрании имел (наряду с министром юстиции) право ставить перед Собранием вопросы требовавшие официального толкования, созывать собрание кассационных департаментов, а с 1885 года и Общее собрание с участием Первого департамента.
Обер-прокурор кассационного департамента давал заключение по рассматриваемым сенаторами делам, оценивая их с точки зрения действующего законодательства. Обер-прокурору департамента помогал его товарищ (заместитель). Поначалу у обер-прокуроров имелся лишь один товарищ, однако позднее, по мере роста числа сенаторов и общей судебной нагрузки, их число стало быстро возрастать и сложилась пропорция - один товарищ обер-прокурора на 2 сенаторов. В ГКД обер-прокуроры со временем почти перестали сами давать заключения по делам, ограничиваясь общим руководством товарищами и канцелярией департамента. В УКД распределение докладов между обер-прокурором и его товарищами видимо сильно зависело от личных склонностей обер-прокурора - одни участвовали в этом больше, другие меньше.
Существовала также должность обер-прокурора Общего собрания департаментов. До 1881 года ее занимал обер-прокурор одного из департаментов (по факту - всегда УКД), позднее она обособилась и в Кассационном Сенате было уже три обер-прокурора - обер-прокуроры уголовного и гражданского департаментов и обер-прокурор Общего собрания и Соединенного присутствия, выполнявший также роль обер-прокурора Высшего дисциплинарного присутствия.
Обер-прокуроры назначались императорским указом, по представлению министра юстиции и как правило состояли в III или IV классе Табели о рангах (их товарищи обычно в третьем). Обер-прокурор мог получить и звание сенатора, однако при этом оставался в должности (с приставкой «и. д.»), а сенатором был «неприсутствующим» (т. е. сам не судил).
Обер-прокуроры подчинялись генерал-прокурору (министру юстиции), но фактически находились на особом положении и мало от него зависели, дисциплинарная власть министра юстиции над ними была минимальной (министр мог вынести им предостережение, товарищу обер-прокурора могло быть вынесено предостережение, замечание и выговор - без занесения в послужной список).
Канцелярией кассационных департаментов управляли обер-секретари, подчинявшиеся обер-прокурорам и через них - министру юстиции. В состав канцелярии входили также помощники обер-прокуроров, старшие и младшие помощники обер-секретарей и вольнонаемные сотрудники. В число последних с мая 1900 года принимались женщины, с начала февраля 1917 года (еще до революции) их было разрешено брать и на канцелярские должности.
Сотрудники канцелярии работали обычно с 10-12 до 16 часов, в отдельные дни оставаясь и позднее.
В своей работе Кассационный Сенат руководствовался принципом «чистой кассации» - дела рассматривались не по существу, а с точки зрения соответствия закону.
Кассационные жалобы в ГКД принимались в четырехмесячный срок (позднее, по жалобам на мировые суды - в двухмесячный), в УКД - в двухнедельный.
Из-за опасения перегрузки Сената жалобами на мировую юстицию были введены определенные ограничения. По маловажным решениям мировых судей (не подлежавшим апелляции) кассационные жалобы могли подаваться в мировой съезд, выступавший таким образом еще и кассационной инстанцией.
Ограничена была и территориальная юрисдикция Сената - в Закавказье, где Судебные уставы были введены уже в 1867 году, мировых съездов не было и апелляции на решения мировых судов подавались в окружные, а кассации - в Тифлисскую судебную палату. Подобная практика объяснялась как значительным расстоянием до столицы, так и общей дикостью населения.
Позднее она была распространена на Сибирь, Туркестан, Степной край, Архангельскую губернию и к 1914 году окраинные судебные палаты (Тифлисская, Омская, Иркутская и Ташкентская) рассматривали до 4 000 кассационных жалоб в год, сокращая нагрузку Сената примерно на 15%.
Помимо кассации судебных решений, являвшейся главной задачей кассационных департаментов, в их функции входил надзор за нижестоящими судами. Как отмечает автор, этот надзор принципиально отличался от советской и эрефийской практики. Сущность русского надзора состояла «в наблюдении, чтобы подчиненные... надзору места и лица исполняли в точности свои обязанности, не отступая ни в чем от предписаний закона, в восстановлении нарушенного порядка... и в предании виновных законной ответственности». Надзор, таким образом, воспринимался как имманентная характеристика деятельности любого вышестоящего суда. Советский же надзор был нацелен на проверку и возможную отмену судебных актов по результатам рассмотрения в специальной надзорной инстанции, причем надзорное производство возбуждалось не по желанию сторон, а только по решению должностных лиц суда и прокуратуры.
Часть судебных вопросов решалась Общими собраниями - кассационных департаментов, Первого и кассационных департаментов, после 1884 года - Первого, Второго и кассационных департаментов. Общие собрания рассматривали в основном споры о подсудности между судебными учреждениями и о компетенции между судами и административными учреждениями. Общее собрание кассационных департаментов являлось также апелляционной инстанцией в делах о преступлениях должностных лиц первых четырех классов Табели о рангах, председателей и членов судебных палат, прокуроров палат и их товарищей. Судом первой инстанции для всех перечисленных был Уголовный кассационный департамент, судивший их с участием присяжных заседателей (с 1889 года - сословных представителей).
Со временем для рассмотрения отдельных категорий дел стали создаваться новые коллегиальные органы и кассационные департаменты обросли многочисленными пристройками (см. ниже).
Общие собрания и специальные присутствия Кассационного Сената
скрытый текст
Как отмечает автор специальные присутствия Кассационного Сената можно разделить на две группы - вызванные к жизни растущей нагрузкой на департаменты, ростом числа сенаторов и вытекающими из этого трудностями с решением вопросов в Общем собрании полным составом департаментов и присутствия созданные для решения особых и редких разрядов дел.
Последние предусматривались уже изначальной редакцией Судебных уставов. Соединенные присутствия Первого и Гражданского и Первого и Уголовного департаментов решали дела по искам о возмещении ущерба причиненного действиями высших должностных лиц (первых четырех классов Табели о рангах) и о разногласиях между администрацией и прокуратурой относительно преданию суду обвиняемых в должностных преступлениях.
В 1872 году, под впечатлением от процесса нечаевцев, было создано Особое присутствие Сената для суждения дел о государственных преступлениях. Кассационной инстанцией для него служило
Общее собрание кассационных департаментов. Вопреки общему правилу, в случае кассации приговора Общее собрание имело право вынести окончательный приговор, не отсылая дело на новое рассмотрение.
К середине 1870-х общее число кассационных сенаторов выросло до 30, что сделало работу Общего собрания департаментов затруднительной. В 1877 году для разгрузки Общего собрания было образовано Соединенное присутствие Первого и кассационных департаментов по надзору за судебными установлениями. Оно фактически являлось особым департаментом Сената и имело особого постоянного первоприсутствующего. К ведению присутствия были отнесены дела судебно-распорядительного свойства - надзор за судами и должностными лицами судебного ведомства, вопросы о предании их суду и возмещении нанесенного ими ущерба и пр.
С той же целью - разгрузить Общее собрание департаментов, в 1885 году было учреждено Высшее дисциплинарное присутствие, взявшее на себя рассмотрение дисциплинарных мер в отношении высших чинов судебного ведомства и чинов сенатских канцелярий.
Таким образом, после середины 1880-х сенатский надзор был частично изъят из ведения Общего собрания, сильно раздроблен и поделен между ним и другими учреждениями Сената. Он осуществлялся кассационными департаментами («инцидентно», в связи с рассматриваемыми делами), Высшим дисциплинарным присутствиеи и, главным образом, Соединенным присутствием Первого и кассационных департаментов
В 1889 году, после введения во внутренних губерниях должности земских участковых начальников, кассационные жалобы на решения которых рассматривались не Сенатом, а губернскими присутствиями, было образовано Соединенное присутствие Первого и одного из кассационных департаментов по надзору за последними. Присутствие собиралось по инициативе министра юстиции и рассматривало решения губернских присутствий - частью дела конкретных тяжебщиков, частью отвлеченные правовые вопросы, вытекавшие из этих дел. В первом случае при отмене решения губернского присутствия дело направлялось на новое рассмотрение (с учетом разъяснения Сената), во втором - Сенат ограничивался разъяснением, публиковавшимся в «Правительственном вестнике». В 1912 году, после упразднения земских начальников было упразднено и указанное присутствие.
Общее собрание кассационных департаментов
Учреждено в 1864 году, включало всех сенаторов УКД и ГКД. Компетенция: рассмотрение споров о подсудности по уголовным делам между гражданскими, военными и церковными судами и между военным и военно-морским начальством и гражданскими и церковными судами; рассмотрение кассационных жалоб на приговоры Особого присутствия Сената для суждения дел о государственных преступлениях; рассмотрение апелляций на приговоры УКД по делам высших должностных лиц (см. выше); с 1877 года - внесудебное толкование законов (по инициативе министра юстиции).
Общее собрание Первого и кассационных департаментов
Учреждено в 1864 году, включало всех сенаторов указанных департаментов. Компетенция: окончательное разрешение споров о подсудности между судебными и правительственными властями; рассмотрение апелляций на решения Соединенного присутствия Первого департамента и ГКД о взыскании ущерба за вред причиненный действиями должностных лиц выше V класса; c 1877 года - внесудебное толкование законов, если вопрос касается предметов ведения Первого департамента (по инициативе министра юстиции); с 1885 года - такое же толкование по инициативе Первоприсутствующего Общего собрания кассационных департаментов.
Общее собрание Первого, Второго и кассационных департаментов
Учреждено в 1885 году, включало всех сенаторов кассационных департаментов и сенаторов Первого и Второго в равном числе. Компетенция собрания законом четко не разъяснялась и на практике оно созывалось для обсуждения вопросов «крестьянского права» и разъяснений по ним.
Второе общее собрание
Преобразовано в 1898 году, после образования Судебного департамента, включало всех сенаторов Судебного и соответствующего кассационного департамента (по принадлежности дела). Компетенция: дела вносимые по высочайшим повелениям (по жалобам на решения Судебного департамента); дела вызвавшие разногласия в Судебном департаменте; дела Судебного департамента требующие принятия нового закона или пояснения, дополнения, отмены существующего (кроме дел по генеральному межеванию); частные производства по делам решенным Вторым Общим собранием.
Соединенное присутствие Первого и Гражданского кассационного департаментов
Учреждено в 1864 году, включало первоприсутствующего ГКД и не более 4 сенаторов от каждого из департаментов. Компетенция: суд первой инстанции по делам о взыскании ущерба за вред причиненный действиями должностных лиц выше V класса.
Соединенное присутствие Первого и Уголовного кассационного департаментов
Учреждено в 1864 году, включало первоприсутствующего УКД и равное число сенаторов от каждого из департаментов (число их законом не ограничивалось). Компетенция: рассмотрение разногласий между администрацией и прокурорами по вопросу о предании суду обвиняемых в должностных преступлениях (о снятии административной гарантии)*.
Особое присутствие Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях
Учреждено в 1872 году. Включало особого первоприсутствующего, 5 сенаторов (назначаемых императором и не обязательно кассационных) и четырех сословных представителей. Компетенция: первоначально все дела о государственных преступлениях, связанные с лишением или ограничением прав состояния; с мая 1878 года только дела (того же характера) передаваемые на рассмотрение высочайшим повелением (прочие судились судебными палатами). Кассационной инстанцией присутствия было Общее собрание кассационных департаментов.
Соединенное присутствие Первого и кассационных департаментов по надзору за судебными установлениями
Учреждено в 1877 году. Включало особого первоприсутствующего и 6 сенаторов (по 2 от департамента), назначаемых по очереди, с ежегодной заменой не более трех членов. Компетенция: дела о предании суду всех судей (кроме сенаторов), прокуроров, обер-прокуроров, их товарищей, обер-секретарей и их помощников и присяжных заседателей за нарушения ими обязанностей по своему званию; дела о возмещении ущерба понесенного из-за неправильных или пристрастных действий судебных чинов; рассмотрение просьб об отводе судей и о перенесении суда в другой судебный округ; дела о пререканиях судебных палат и губернских присутствий между собой и друг с другом; распределение судебных следователей и дела по жалобам кандидатов в присяжные поверенные на решения судебных палат; дела об изменении особых наказов судебных мест и об общем наказе судебным установлениям; рассмотрение представлений о переносе дел из судов старого типа в учрежденные судебной реформой и о пререканиях между ними. В 1877 - 1885 годах Присутствие рассматривало также просьбы о возобновлении уголовных дел (позднее передано в УКД).
Высшее дисциплинарное присутствие
Учреждено в 1885 году, включало первоприсутствующих кассационных департаментов, всех сенаторов Соединенного присутствия Первого и кассационных департаментов и четырех ежегодно назначаемых верховной властью кассационных сенаторов (в общей сложности - 13 человек, в другом месте у автора - 14 человек). В марте 1917 года заменено Временным высшим дисциплинарным судом Правительствующего Сената.
Компетенция: дисциплинарное производство в отношении председателей и членов судебных палат, председателей окружных судов, обер-прокуроров и и их товарищей, чинов канцелярий кассационных департаментов и прочих лиц состоящих при кассационных департаментах и их общем собрании; рассмотрение вопросов об увольнении судей осужденных за уголовные преступления и проступки не относящиеся к службе; рассмотрение вопросов об увольнении или перемещении на другую должность судей за проступки несовместимые с пребыванием в судебной должности вообще или в данной местности.
Соединенное присутствие Первого и одного из кассационных департаментов по надзору за губернскими присутствиями
Учреждено в 1889 году, включало первоприсутствующего соответствующего кассационного департамента, трех сенаторов того же департамента и трех сенаторов Первого департамента. Компетенция: пересмотр (по предложению министра юстиции) судебных решений губернских присутствий; решение вопросов о возобновлении (ввиду новых обстоятельств) дел по которым уже вступил в законную силу приговор земского наччальника, городского судьи или уездного съезда. Упразднено в 1912 году.
Особое присутствие по отчуждению недвижимых имуществ для государственной или общественной пользы
Учреждено в мае 1917 года, включало 4 сенаторов назначаемых Временным правительством. Компетенция: рассмотрение дел о принудительном отчуждении недвижимых имуществ, временном их занятии и установлении права участия в пользовании ими для государственной или общественной пользы.
Кодификационный отдел
Учрежден в сентябре 1917 года и к работе приступить не успел. Должен был состоять из 10 сенаторов - четверых назначаемых Временным правительством и шестерых избираемых на три года (по одному от департамента). Компетенция: разработка и издание Свода законов и Свода местных узаконений прибалтийских губерний; составление и выпуск сводов и сборников по еще не систематизированным отделам общего и местного законодательства; издание Полного собрания законов и иных законодательных сборников справочного свойства; участие в предварительной разработке законодательных предположений.
* Административная гарантия означала, что предание чиновника следствию и суду за должностные преступления возможно лишь при согласии его начальства. Если последнее не видело в его действиях проступка, то выносило по этому поводу соответствующее постановление, которое, в свою очередь, могло быть оспорено прокурором в Первом департаменте Сената, или, в некоторых случаях - в Соединенное присутствии Первого и Уголовного кассационного департаментов.
Реформа 1877 года
скрытый текст
Вскоре после открытия кассационных департаментов обнаружилась проблема их чрезмерной загруженности делами, в первую очередь за счет жалоб на решения мировых судов. Уже в 1873 году на каждого сенатора Уголовного департамента приходилось по 700 дел, а Гражданского - до 500 дел, притом, что нормальное число дел которое мог доложить сенатор в течении года составляло, по тогдашним оценкам, 308 для УКД и 260 для ГКД.
Проблему пытались решить увеличением штата департаментов. В марте 1867 года в кассационные департаменты было добавлено по 2 сенатора, в июле 1868 года в каждый департамент добавлено еще по 4 сенатора, по 2 товарища обер-прокурора и по 2 обер-секретаря. В июне 1870 года в УКД добавлены 2 сенатора, товарищ обер-прокурора и два помощника обер-секретаря, в ГКД - 2 сенатора и помощник обер-секретаря. В январе 1873 года в ГКД добавлен еще один товарищ обер-прокурора. Таким образом, за первые пять лет существования Кассационного Сената число сенаторов в нем выросло втрое - до 12 чел. в каждом из департаментов.
По оценкам судебных деятелей того времени обильное поступление дел в Кассационный Сенат было вызвано утвердившемся в обществе недоверием к прежним судам и выработавшейся, в связи с этим, привычкой доводить дело до рассмотрения в высших инстанциях, тем более, что это не требовало значительных издержек. Перегрузке Сената способствовали и некоторые особенности его работы - так, Судебные уставы требовали публикации всех определений Сената, подготовка которых для печати отнимала у сенаторов массу времени.
Для сокращения числа необоснованных жалоб в 1868 году был введен кассационный залог. Залог предлагалось ввести уже при учреждении кассационных департаментов, однако тогда эта идея не нашла поддержки. Первый опыт такого рода был произведен на окраине - в ноябре 1866 года, при введении Судебных уставов в Закавказье, был введен т. н. «залог правой жалобы» - 1 и 5 руб. для обжалования решений мировых судей по уголовным и гражданским делам соответственно и 5 и 20 руб. для обжалования решений окружных судов по тем же делам.
В марте 1867 года залог был введен уже повсеместно - по жалобам в УКД он составлял 10 (решения мировых съездов) - 20 (судебных палат) рублей, по жалобам в ГКД соответственно 10 и 100 рублей.
От внесения залога по уголовным делам освобождались подсудимые содержащиеся под стражей или уже приговоренные к тюремному заключению. Во всех случаях от залога освобождались административные и казенные учреждения. Малоимущим, представившим свидетельство о бедности, залог возвращался вне зависимости от исхода дела (однако внесение его все равно требовалось). При выигрыше дела залог возвращался истцу, в противном случае - шел в казну.
Введение залога способствовало сокращению числа неправомерных жалоб, особенно по гражданским делам. Так, в конце XIX века в ГКД, где залог требовался по всем делам, обоснованной признавалась каждая третья жалоба, а в УКД, где залог применялся реже, лишь каждая девятая.
Расширение состава департаментов и введение залога ненадолго облегчили положение Сената - распространение Судебных уставов на новые губернии вело к постоянному увеличению его нагрузки. Так, в 1873 году в УКД поступило 6 229 дел (1 430 из общих судов и 4 799 - из мировых ), решено было 3 051 дело (1 230 и 1 821), в 1875 году поступило уже 7 697 дел (1 940 и 5 757), решено - 4 885 (1 842 и 3 043). На 1 января 1876 года в УКД оставалось 10 226 нерешенных дел - всего 202 по общим судам и 10 024 по мировым. В ГКД на это же время оставалось 4 221 нерешенное дело (также большей частью мировые) и общее число нерешенных дел по департаментам достигало 14 617 (!).
Сенаторы в это время докладывали ежегодно в среднем от 250 до 325 дел (нормальной нагрузкой, без ущерба для дела, считалось, по разным оценкам, от 100 - 150 до 200 дел на сенатора в год) и подписывали ок. 800 определений. В каждом заседании ГКД разрешалось по 30-40 дел, УКД - более 40 (заседания проходили по три дня в неделю).
Для сравнения, во французском Кассационном суде, послужившем в свое время образцом при создании русского, на члена суда приходилось от 16 (гражданская палата) до 52 (уголовная) дел в год (при 49 членах). В «палате прошений», служившей фильтром для дел поступающих на кассацию во французский суд, на каждого члена приходилось еще по 47 дел ежегодно.
Законом от 10 июня 1877 года была произведена реорганизация кассационных департаментов. Был резко увеличен их штатный состав - до 51 сенатора (23 в ГКД и 27 в УКД, до этого с июля 1874-го имелось по 15), 21 товарища обер-прокуроров (9 в ГКД и 12 в УКД, до этого с июля 1874-го имелось по 6) и 6 обер-секретарей.
Была произведена также реорганизация работы департаментов. Теперь поступавшие в них жалобы предварительно рассматривались в распорядительных заседаниях департаментов - явно необоснованные и поданные с нарушением формальных условий отклонялись, остальные распределялись по отделениям и присутствиям.
Дела в которых «не возникает важного правового вопроса» рассматривались теперь отделениями департаментов (не менее 3 сенаторов), а важные прецедентные дела - присутствием департамента, расширенной коллегией, включавшей не менее 7 сенаторов.
По делам маловажным допускалось составление только резолюций (без развернутых определений), публиковаться должны были лишь решения по прецедентным делам. Произведенное разделение департаментов на департаментские присутствия и отделения фактически узаконило уже сложившуюся в них практику.
Для сокращения числа необоснованных жалоб был изменен порядок внесения залога - теперь от него освобождались лишь подсудимые находящиеся под стражей (но не освобождались уже осужденные), кроме того была отменена и приостановка исполнения приговора (на время кассации) по денежным делам.
Было образовано Соединенное присутствие Первого и кассационных департаментов Сената, взявшее на себя надзорные функции (см. выше).
Кассационный Сенат получил также право внесудебного толкования законов - по запросу министра юстиции.
Реформа привела к существенному росту пропускной способности департаментов. Так, если к началу 1878 года нерешенных дел по УКД имелось 16 020, а по ГКД - 7 768, то к началу 1881 года их оставалось соответственно 1 260 и 1 683, т. е. остаток дел сократился в 5-12 раз.
Сенатское правосудие и после реформы 1877 года оставалось в основном поточным - Гражданский департамент, например, в последние три десятилетия XIX века решал по 6-8 тысяч дел в год, а в начале XX века - уже по 10-11 тысяч. Однако этой «демократической» системе в 1877 году была противопоставлена селективная «аристократическая» надстройка - Сенат получил возможность сам выбирать прецедентные дела. Так, из общего числа дел рассматриваемых ГКД публиковалось в качестве прецедентов всего по 100 - 200.
Позднее реформа подвергалась жесткой критике - за раздробление единого кассационного суда, утерю единообразия сенатских взглядов и практики и пр., однако, как отмечает автор, сами критики реформы, указывая (во многом оправданно) на ее недостатки, не в состоянии были предложить что-либо взамен.
Реформа местного управления 1889 года и Сенат
скрытый текст
Уже к середине 1880-х стало ясно, что положительный эффект реформы 1877 года практически исчерпан. Вновь стала расти нагрузка на Сенат (в ГКД сенатор в среднем докладывал 350 дел в год) и число нерешенных дел, в первую очередь - из мировых судов.
Помощь Сенату пришла с неожиданной стороны - в конце 1880-х правительство провело реформу местного управления, в рамках которой была ликвидирована большая часть выборных мировых судов в губерниях Европейской России.
Ликвидация выборных мировых судов обычно объясняется политическими причинами - реакционностью правительства, однако, как отмечает автор, мировые суды были ликвидированы в провинции, но сохранены в политически куда более значимых столицах. По всей видимости ликвидация мировых судов объяснялась самой логикой реформы - основной ее целью было введение института земских начальников, обладавших административной и отчасти полицейской властью над крестьянами, а поскольку населению трудно было бы содержать одновременно и новую организацию местного управления и мировых судей, последних решили ликвидировать, передав их судебные полномочия земским начальникам. Основным инициатором ликвидации мировых судов был сам Александр III.
Реформа, начатая в 1889 году, первоначально затрагивала 35 губерний Европейской России - Великороссию, Новороссию, правобережную Малороссию и Бессарабию. На окраинах - в Сибири, Туркестане, Степном крае, Закавказье, Прибалтике, казачьих областях и польских губерниях земских начальников не было. Ликвидация мировых судов в соответствующих губерниях была завершена к концу 1893 года.
В 1900 - 1903 годах, по инициативе МВД и вопреки мнению министерства юстиции, земские начальники были введены в белорусских губерниях, Литве и на Ставрополье и общее число губерний с земскими начальниками было доведено до 43. В целом, на территориях затронутых реформой проживало около половины населения империи.
На 1909 год в России сохранялось 17 выборных мировых съездов (столицы, Петербургский уезд, Нижний Новгород, Харьков, Одесса, Кишинев, Саратов, Казань и 8 в Области Войска Донского).
На окраинах сохранялись назначаемые правительством мировые судьи и на 1909 год действовало 97 мировых съездов по назначению.
В выборных мировых съездах на 1909 год возникло 344,8 тыс. уголовных дел, в назначаемых - 867,2 тыс.
В результате реформы на местах была создана весьма причудливая система юстиции, включавшая сразу 5 институций:
Волостной суд
Коллегиальный орган (четверо судей) избираемый из крестьян волости (находился в ведении МВД). Юрисдикция его распространялась на крестьян соответствующей волости, приписанных к ней мещан, на других лиц - в случае обращения в волостной суд с иском против местных крестьян или мещан. Компетенция: споры о надельной земле (без ограничения стоимости); иски ценой до 300 рублей (о наследственном имуществе - до 500 руб.); мелкие административные и уголовные правонарушения, наказывавшиеся штрафом до 30 руб. или арестом до 15 дней. Апелляционная инстанция - уездный съезд.
Земский участковый начальник
Назначался министром внутренних дел по представлению губернатора*, [в основном из числа уездных потомственных дворян-землевладельцев, соответствующих требованиям имущественного ценза, имевших высшее образование или опыт службы на выборных должностях - см. ПСЗРИ]. Находился в ведении МВД. Юрисдикция - та же, что и волостных судов. Компетенция: утверждение решений волостных судов; рассмотрение исков стоимостью от 300 до 500 рублей (по некоторым разрядам дел - и ниже); дел о личных обидах и оскорблениях; дел о восстановлении нарушенного владения; преступлений и проступков наказываемых штрафом не более 300 руб. или тюремным заключением не более года. Апелляционная инстанция - уездный съезд.
Городской судья
Назначался высочайшим приказом в уездный или губернский город, находился в ведении министерства юстиции. Юрисдикция судьи распространялась на лиц любых сословий, проживавших в соответствующем городе. Компетенция: та же что у земского участкового начальника, но без административных функций. Апелляционная инстанция - уездный съезд.
Уездный член окружного суда
Назначался высочайшим приказом (по одному на уезд), находился в ведении министерства юстиции. Юрисдикция: лица всех сословий проживающие в уезде (в сельской местности). Компетенция: все возникающие в уезде гражданские и уголовные дела в рамках компетенции прежних мировых судей, неподсудные земским участковым начальникам; дела охранительного судопроизводства**, отнесенные к компетенции прежних мировых судей. Апелляционная инстанция - окружной суд.
Почетный мировой судья
Избирался органом земского или городского самоуправления сроком на 3 года, утверждался в должности Первым департаментом Сената, вознаграждения за службу не получал. Юрисдикция: лица любых сословий проживающие в уезде (включая города). Компетенция: все дела подсудные прежним мировым судьям, но только в случае добровольного обращения тяжущихся сторон. Апелляционная инстанция - уездный съезд.
Апелляции на решения волостного суда, земского участкового начальника, городского судьи и почетного мирового судьи можно было подавать в еще одну новообразованную инстанцию - уездный съезд . [Судебное присутствие*** уездного съезда включало председателя - уездного предводителя дворянства (или особого председателя, в местностях где уездного предводителя не имелось), уездного члена окружного суда, городских судей, почетных мировых судей и земских участковых начальников (последние две категории присутствовали не в полном составе, а в порядке установленной очередности), выполняя функции прежнего мирового съезда].
Кассационные жалобы на решения уездного съезда подавались в губернское присутствие по земским и городским делам. Последнее состояло из губернатора (председатель), вице-губернатора, губернского предводителя дворянства, прокурора или товарища прокурора окружного суда, двух непременных членов из числа местных дворян и [при рассмотрении судебных дел] председателя или одного из членов окружного суда [или судебной палаты].
Для смягчения последствий раздробления кассации между множеством губернских присутствий была учреждена еще одна, «сверх-кассационная» инстанция - Соединенное присутствие Первого и одного из кассационных департаментов по надзору за губернскими присутствиями, принимавшее (по предложениям министра юстиции) кассационные жалобы на решения губернских присутствий.
Новосозданная система отличалась массой недостатков, она была чрезвычайно сложной - всего имелось 4 инстанции, прежние дела мировой юстиции разделены между четырьмя (не считая почетных мировых судей) судебными и судебно-административными органами. Нарушались принцип разделения властей (земские начальники обладали и судебными и административными полномочиями, в губернских присутствиях судьи заседали вместе с представителями администрации) и принцип несменяемости судей - городские судьи могли быть уволены решением Консультации при министре юстиции (подтвержденным министром). Был нарушен и принцип единства кассации (множество кассационных губернских присутствий и вторая кассация в Соединенном присутствии).
Особенно странным было положение уездного члена окружного суда - он был для своей категории дел судьей первой инстанции, но одновременно являлся и членом апелляционной инстанции - уездного съезда (в котором мог быть даже председателем, при отсутствии уездного предводителя). Мало того, на выездных сессиях окружного суда в своем уездном городе, он становился полноправным членом еще и этого суда.
Реформа создала также два параллельно действующие системы местной юстиции (в местностях ею не затронутых продолжала действовать прежняя система мировых и окружных судов, с соответствующей схемой апелляции и кассации).
Пресса и общественность не щадили реформу, правительство также вскоре осознало вызванные реформой проблемы, но отказываться от нее долгое время не желало - по соображениям политического престижа.
Кассационный Сенат от реформы выиграл - резко сократилось число дел поступающих из мировых судов. В УКД число дел мировой посудности сократилось на 46%, а общее - на 35%, в ГКД общая нагрузка снизилась на 23%, по мировым делам - на 38,5%. В Соединенном присутствии Первого и кассационных департаментов ежегодно рассматривалось всего около 300 дел.
В целом однако число поступающих мирских дел оставалось высоким - большая их часть и до, и после реформы поступала из западных губерний империи, реформой не затронутых, где экономическая и торговая деятельность велась с большей интенсивностью и исторически сложилась привычка судиться и даже сутяжничать.
* [Территория каждого уезда делилась на определенное число земских участков, не включавших губернские и уездные города (а также некоторые заштатные). Число участков определялось законодательно, на основе представлений МВД. В каждом участке имелся один земский участковый начальник, помимо описанных судебных он обладал определенными административными (надзор за деятельностью сельских обществ, решениями их органов, состоянием капиталов и пр.) и полицейскими правами.
** Наследство, признание детей, усыновление и пр.
*** Имелось также присутствие административное (уездный предводитель дворянства, все участковые земские начальники, исправник и председатель уездной земской управы) занимавшееся административными вопросами].
Кассационный Сенат в начале XX века
скрытый текст
Как отмечает автор, Александр III тяготился ограничением судебных прав монарха, на которое пошел его отец и стремился к изменению этого положения. Однако практических последствий это стремления в общем не имело. Созданная в апреле 1894 года комиссия по пересмотру законоположений о судебной части во главе с министром юстиции Н. В. Муравьевым (т. н. Муравьевская комиссия) продолжила работу и при новом царствовании, однако ее обширные разработки оказались в итоге не востребованы. Помимо прочего, правительство по сути отказалось от качественных, структурных изменений в деятельности Кассационного Сената, пойдя по пути экстенсивному и ограничиваясь расширением его штатов.
Роль Сената в период думской монархии возросла. Особенно усилилась его законоразъяснительная деятельность, осуществляемая Общим собранием - правительство стало чаще обращаться в Сенат за разъяснением законов, поскольку это было удобней и проще чем проводить через Думу поправки к законам.
Нагрузка на кассационные департаменты к началу века вновь сильно увеличилась. Так, только в ГКД к концу 1901 года скопилось 12 276 нерешенных дел. В январе 1901 года штат ГКД был усилен - принятым 4 января законом в него было добавлено 8 сенаторов, 6 товарищей обер-прокурора, обер-секретарь и два помощника обер-секретаря и общее число сенаторов доведено до 33, а товарищей обер-прокурора - до 15.
Усиление штата, а затем и революционные события, сократившие приток дел, способствовали сокращению скопившихся завалов, к концу 1906 года нерешенных дел в ГКД имелось только 4 084. Однако начиная с 1907 года число поступающих дел снова начало расти, достигнув максимума в 1912 году - 16 285. Снова стал нарастать и остаток нерешенных дел - 11 683 к концу 1912 года и 13 215 у концу 1913-го.
В УКД ситуация была лучше - к концу 1901 год здесь имелось всего 1 539 нерешенных дел. Общее число поступавших дел, как и в ГКД, сократилось в годы революции (всего 7 311 в 1905 году), однако затем стало расти, достигнув максимума в том же 1912 году (15 644 дела). Долгое время департамент справлялся с растущей нагрузкой - число нерешенных дел на конец года в 1906 - 1910 годах оставалось невелико (ок. 600 - 800), однако перед войной ситуация ухудшилась и здесь - в 1912 году нерешенными остались 1 428 дел, в 1913-м - 1 669.
В июне 1912 года был принят закон «О преобразовании местного суда», восстановивший выборные мировые суды во внутренних губерниях.
Воссоздание массы мировых судов, подчиненных кассационной власти Сената, должно было привести к резкому росту поступления дел в кассационные департаменты*. В качестве превентивной меры в июне 1913 года штаты кассационных департаментов были резко расширены - в ГКД добавлены 16 сенаторов, 8 товарищей обер-прокурора, 2 обер-секретаря и 8 помощников обер-секретаря (общее число сенаторов достигло 49, товарищей обер-прокурора - 23); в УКД добавлено 7 сенаторов, 4 товарища обер-прокурора, 1 обер-секретарь и 4 его помощника (общее число сенаторов достигло 28, товарищей обер-прокурора - 14). Общее число сенаторов по закону 1913 года достигало уже 78 человек - 49 в ГКД, 28 в УКД и отдельный первоприсутствующий в Соединенном присутствии Первого и кассационных департаментов.
Усиленные департаменты активно разгребали завалы старых дел - на сенатора ГКД в это время приходилось в среднем по 393, а на сенатора УКД - 596 дел в год (при норме в 325 и 500-550 соответственно). Начавшаяся война отчасти облегчила положение Сената, сократив поступление новых дел - был введен мораторий на производство уголовных дел о лицах призванных на войну, временно прекращено обжалование решений судов на оккупированных врагом территориях, временно повышен кассационный залог (16 декабря 1914 года - на 100% и сроком на год) и пр.
Число нерешенных дел за годы войны существенно сократилось. Так, в 1913 году в ГКД поступило 15 828 дел, решено было 14 296, в остатке осталось (включая прежние годы) 13 215 дел. В 1916 году в департамент поступило 12 242 дел, решено было 13 909, остаток - 2 723.
В УКД в 1913 году поступило 14 064 дела, решено было 13 823, в остатке осталось 1 669. В 1916-м поступило 9 644 дела, решено было 9 776, остаток - 445.
В декабре 1916 года была проведена очередная реформа Сената, коснувшаяся в основном старых департаментов, но затронувшая и кассационные. Реформа разрабатывалась более десяти лет, созданным еще в январе 1905 года Особым совещанием под председательством статс-секретаря А. А. Сабурова.
Законом от 26 декабря 1916 года старые департаменты Сената были почти во всех отношениях приравнены к кассационным - введены постоянные штаты и несменяемость сенаторов, департаменты разделены на отделения, запрещено подавать апелляции на высочайшее имя на решения старых департаментов, введена публикация определений-прецедентов и пр. Наиболее заметным отличием старых департаментов от кассационных осталось отсутствие постоянных первоприсутствующих - как и раньше они назначались императором ежегодно.
Для кассационных департаментов главное новшество заключалось в предоставлении им (как и прочим департаментам) права рекомендовать кандидатов на вакантные сенаторские места. Помимо этого закон устанавливал для всех сенаторов (включая кассационных) равный оклад - в 10 000 рублей.
Одной из главных проблем деятельности Кассационного Сената на протяжении почти всего его существования была высокая нагрузка. Причинами ее были соединение принципа единства кассации с чрезмерно широкими основаниями для последней, особенности апелляционного разбирательства, провоцировавшие излишнее обжалование судебных решений и непонимание населением самой идеи кассации (рассмотрения дела не по существу, а по формальным признакам).
Как отмечает автор, проблема чрезмерной загрузки верховного кассационного суда существовала и в других странах** - Германии, Австрии и пр. и попытки ее решения разного рода качественными способами (ограничением подачи кассационных жалоб и пр.) особого успеха не имели.
Русское правительство фактически отказалось от предлагавшихся качественных изменений в работе Кассационного Сената (перенос части кассационных дел в судебные палаты и проч.) и шло по наиболее простому экстенсивному пути, периодически расширяя штаты департаментов. Как отмечает автор, на этом пути имелись еще весьма значительные резервы - в аналогичных структурах других европейских государств судей в те времена было значительно больше (при меньшей численности населения), а в поныне существующем итальянском Верховном суде, ровеснике и собрате Кассационного Сената, на 2020 год числилось целых 417(!) судей, соответственно ожидать скорого коллапса русского кассационного правосудия, несмотря на все его проблемы, не приходилось.
* Закон 1912 года сделал, впрочем, определенное послабление Сенату, запретив обжаловать в кассационном порядке иски ценой менее 100 рублей. Ранее в Сенате можно было обжаловать иски ценой свыше 30 руб., для исков до 30 руб. кассационной инстанцией был мировой съезд, а апелляции на них вообще не принимались. По закону 1912 года кассация для исков до 100 рублей отменялась вовсе, однако апелляция допускалась для всех дел, независимо от суммы иска.
** При том, что количественный состав тамошних верховных судов был намного выше, при меньшей численности общей численности населения, так, в германском Имперском суде перед войной имелось 100 судей.
Гибель Сената
скрытый текст
После Февраля началось быстрое разрушение русской судебной системы, затронувшее и Сенат. Временное правительство и новый министр юстиции А. Ф. Керенский, в отличии от царских сатрапов, не особенно утруждали себя соблюдением законности.
Уже 4/17 марта 1917 года была учреждена особая следственная комиссия для расследования противозаконных действий сенаторов УКД при рассмотрении дел по государственным преступлениям. Уголовный кассационный департамент подвергся чистке - 13 его сенаторов в марте - мае 17-го вынуждены были подать прошения об отставке, отказавшийся уходить сенатор В. Я. Бахтияров был уволен без прошения (случай беспрецедентный). В апреле вынужден был подать в отставку глава Кассационного Сената, первоприсутствовавший в УКД и Общем собрании В. А. Желиховский.
На место уволенных сенаторов УКД было назначено 14 новых, ставленников Временного правительства. Столь же радикально был обновлен Первый департамент, также считавшийся политически важным. ГКД пострадал меньше - отправлено в отставку 4 сенатора, назначено шесть. Из общего числа назначенных сенаторов трое были рекрутированы напрямую из присяжных поверенных, что прямо запрещалось судебными уставами.
После большевистского переворота Сенат, игнорируя новую власть, действовал еще месяц и был ликвидирован только 23 ноября 1917 года, вместе со всей русской судебной системой, успев напоследок объявить советскую власть преступной и незаконной (определение Общего собрания Правительствующего Сената от 23 ноября 1917 года).
Позднее временные присутствия департаментов Правительствующего Сената действовали на территориях антибольшевистских правительств.
Из общего числа действующих и отставных сенаторов Уголовного департамента доживших до революции (60 человек) четверть погибла в годы гражданской войны, судьба еще трети неизвестна. В Гражданском департаменте неизвестна судьба 40 из 68 сенаторов переживших 1917 год.
***
Всего в 1866 - 1917 годах сенаторами кассационных департаментов были 315 человек (177 ГКД и 147 УКД, 9 сенаторов успели поработать в обоих департаментах), 295 из них были назначены в императорский период и 20 - Временным правительством.
Первоприсутствующими Общего собрания кассационных департаментов были 10 сенаторов: А. Д. Башуцкий (1866 - 1868), А. И. Войцехович (1871 - 1872), бар. Н. Е. Торнау (1872 - 1875), В. Г. Черноглазов (1875 - 1885), П. И. Саломон (1885 - 1889), И. И. Розинг (1890 - 1896), П. А. Марков (1896 - 1901), Н. Н. Шрейбер (1901 - 1909), В. А. Желеховский (1909 - 1917) и А. Ф. Кони (1917).
Первоприсутствующими ГКД были 11 сенаторов: А. Д. Башуцкий (1866 - 1868), А. И. Войцехович (1868 - 1872), бар. Н. Е. Торнау (1872 - 1875), А. Е. Матюнин (1875 - 1878), М. В. Поленов (1879 - 1882), П. И. Саломон (1882 - 1889), П. А. Марков (1890 - 1901), Н. Н. Мясоедов (1901 - 1908), П. П. Веселовский (1908 - 1912), П. А. Юренев (1912 - 1916) и Я. Ф. Ганскау (1916 - 1917).
Первоприсутствующими УКД - также 11 сенаторов: М. М. Карниолин-Пинский (1866), Б. К. Данзас (1867 - 1868), П. А. Зубов (1869 - 1872), Н. И. Стояновский (1872 - 1875), В. Г. Черноглазов (1875 - 1877), М. Е. Ковалевский (1878 - 1881), И. И. Розинг (1881 - 1896), Н. С. Таганцев (1896 - 1905), Г. К. Репинский (1905 - 1906), В. А. Желеховский (1906 - 1917) и А. Ф. Кони (1917).
Первоприсутствующими Соединенного присутствия Первого и кассационных департаментов - 6 сенаторов: В. Г. Черноглазов (1877 - 1885), Н. А. Манасеин (1885), бар. Ф. Ф. Штакельберг (1885 - 1898), Н. Н. Шрейбер (1898 - 1909), бар. А. Ф. Корф (1909 - 1910), А. М. Кузминский (1910 - 1917), А. И. Петро-Петровский (1917).
Из 28 первоприсутствовавших двадцать были выпускниками Училища правоведения или Лицея. Из числа первоприсутствовавших в Общем собрании трое (Торнау, Черноглазов и Саломон) были лицеистами и четверо (Розинг, Марков, Шрейбер, Желеховский) - правоведами.
Обер-прокурорами кассационных департаментов, их Общего собрания и Соединенного присутствия побывали 33 человека (13 правоведов, 9 выпускников Петербургского, 6 - Московского, 2 - Киевского университетов, по одному - Харьковского и Варшавского университетов и Нежинского лицея). Статус обер-прокурора был близок к сенаторскому - из 33 обер-прокуроров лишь пять не стали сенаторами, остальные являлись ими к моменту назначения или стали сенаторами сразу после назначения, во время исполнения должности, при ее оставлении или позднее.
В ГКД должность обер-прокурора была как бы шагом к сенаторству - все обер-прокуроры департамента рано или поздно становились сенаторами, в УКД подобной закономерности не наблюдалось.
Порядок рассмотрения дел (после 1877 года)
скрытый текст
Внутренний распорядок деятельности кассационных департаментов законодательством регулировался лишь в незначительной степени и фактически устанавливался самими департаментами.
Никакого кворума для заседаний департаментов закон изначально не предусматривал. В 1877 году были введены нормы - не менее 3 сенаторов в отделении и не менее 7 сенаторов в присутствии департаментов. На практике в ГКД в департаментском присутствии обычно было 7 сенаторов (сменявшихся в порядке установленной очередности), а в УКД в департаментских заседаниях принимали участие, по возможности, все сенаторы.
Состав отделений в УКД был постоянным - сенаторы были приписаны к определенному отделению, а в ГКД изменчивым - сенаторы могли менять отделения по желанию. Впрочем определенная специализация существовала и в ГКД, часть отделений (и сенаторов) специализировалась на польских, прибалтийских и железнодорожных делах, требовавших знания специфического законодательства. В начале XX века железнодорожные дела составляли более четверти нагрузки ГКД, четверо из 15 товарищей обер-прокурора занимались исключительно железнодорожными делами, а в рамках департамента для таких дел существовало специальное отделение, с постоянным составом сенаторов. В 1913 году из общего числа поступивших в ГКД дел (15 828) 2 063 (13%) были польскими и 1 008 (6%) прибалтийскими.
Порядок прохождения дел в ГКД был следующим. Поступившие в канцелярию Сената дела распределялись по обер-прокурорским столам и затем рассматривались в распорядительном заседании департамента на предмет соответствия формальным требованиям, а также наличия самого повода для жалобы. Прошедшие этот фильтр дела распределялись между сенаторами-докладчиками, назначалось время их рассмотрения.
Рядовое дело поступало (от соответствующего товарища обер-прокурора) в отделение, заседавшее в составе трех или четырех сенаторов, докладывалось коллегии сенатором-докладчиком и решалось незамедлительно. Закон 1877 года позволял сенаторам не составлять по таким делам мотивированные резолюции, ограничиваясь резолюциями краткими, в которых мотивировочная часть заменялась ссылками на соответствующие законы и сенатские прецеденты. Однако в ГКД эта льгота игнорировалась (по не совсем понятным причинам) и мотивированные резолюции составлялись почти по всем делам - в 1912 году, например, по 13 328 из 13 422 рассмотренных.
Важные, «прецедентные», дела рассматривались департаментским присутствием. Закон позволял направлять их туда сразу из распорядительного заседания, однако в ГКД не пользовались и этим правом - дела в присутствие всегда направлялись из отделений, для чего требовалось заявление хотя бы одного из его сенаторов (чаще всего - докладчика).
Инициатор передачи дела обязан был сформулировать юридический вопрос, необходимость разъяснения которого вызвала передачу дела в департамент. После этого последнее возвращалось соответствующему товарищу обер-прокурора, составлявшего по нему записку (аналитического характера - подыскивая подходящие законы, прецеденты, указания литературы и пр.), содержавшую и его собственное заключение по делу (предлагаемое решение). Записка предварительно обсуждалась на совещании обер-прокурора и всех его товарищей (к мнению и критике которых автор записки, впрочем не обязан был прислушиваться) и затем, в печатном виде, рассылалась всем сенаторам за две недели до доклада.
За день до заседания присутствия департамента проводилось закрытое совещательное заседание с участием всех, по возможности, сенаторов департамента, обер-прокурора и соответствующего товарища обер-прокурора и, после прений, поставленный в деле вопрос решался большинством голосов.
На следующий день проводилось публичное (открытое для доступа публики) заседание присутствия департамента (первоприсутствующий и шесть сенаторов в порядке очереди) с участием сторон или их представителей. Решение этой коллегии в подавляющем большинстве случаев совпадало с принятым накануне решением совещательного заседания. В редких случаях после выслушивания сторон составляющие присутствие сенаторы меняли свой взгляд на дело, тогда объявление резолюции откладывалось до другого заседания, а дело вновь отправлялось на рассмотрение закрытого совещательного заседания. Второе и уже бесповоротное решение этого заседания объявлялось сторонам от имени присутствия в день провозглашения резолюции.
Таким образом публичное заседание присутствия департамента по большей части являлось фикцией, а решение его было предопределено заранее.
Закрытые предварительные совещания практиковались ГКД уже с 1869 года, а формально были санкционированы определением ГКД в 1883 году.
Практика рассмотрения дел в публичных заседаниях отделений также отличалась от теории. Теоретически заседание отделения (департаментские заседания проходил аналогично) открывалось выступлением сенатора-докладчика, затем выступали стороны, если они явились, затем выступал со своим заключением товарищ обер-прокурор, после чего сенаторы удалялись на совещание, составляли мотивированную резолюцию и, вернувшись, оглашали в ее в заседании.
На практике, из-за огромного числа дел рассматриваемых на заседаниях, использовался упрощенный порядок. Проекты мотивированных резолюций писались сенаторами-докладчиками заранее. При неявке сторон докладчик ограничивался кратким пояснением сути предлагаемой резолюции. Товарищ обер-прокурора выступал лишь при наличии разногласий с докладчиком. При отсутствии таковых проект резолюции сразу же подписывался.
Таким образом, судьбу рядового отделенского дела фактически определяли сенатор-докладчик и товарищ обер-прокурора, а прочие сенаторы о нем почти не имели представления и только при наличии спора между докладчиком, товарищем обер-прокурора и представителями сторон могли выступить в роли арбитров.
Практика рассмотрения дел в ГКД была хорошо известна в юридических кругах и подвергалась острой критике (с которой была согласна и часть самих сенаторов), с которой автор, впрочем, не соглашается, указывая, что существовавшая система (не вполне соответствовавшая идеалам судопроизводства) позволяла существенно экономить время и силы сенаторов, а сами критики неспособны были предложить что-либо более эффективное.
Порядок производства дел в УГК также отличался от прописанного в законе (здесь автор подробностей почти не приводит).
Поскольку от лиц находившихся под стражей кассационный залог не требовался, а подача жалобы (в отличии от гражданских дел) приостанавливала исполнение приговора процент необоснованных жалоб был в Уголовном департаменте значительно выше, чем в Гражданском.
Еще одним отличием УКД была строгая специализация - отделения имели постоянный состав и разрешали дела определенной категории. На 1914 год в УКД имелось 6 отделений (в пяти - по 4 сенатора и в одном - пять), а также апелляционное отделение (оно постоянного состава видимо не имело).
Компетенция отделений сочетала предметную и территориальную, так, к ведению пятого отделения относились дела по нарушениям уставов путей сообщения и торгового, а также дела окружных судов из округов Саратовской, Новочеркасской, Омской, Иркутской, Ташкентской судебных палат и мировых съездов из округов Санкт-Петербургской и Саратовской палат.
Апелляционное отделение разбирало апелляции на решения окружных судов*.
Прецедентные дела, как уже отмечалось, в УКД рассматривались не присутствием, а (по возможности) всем составом департамента.
Решения кассационных департаментов (с 1877 года - только прецедентные) публиковались в ежегодных сборниках, частями, по мере публикации решений, рассылавшихся всем присутственным местам и подписчикам, вместе с очередным номером «Сенатских ведомостей». В 1869 году УКД постановил, что решения Сената должны считаться известными судам с момента получения «Сенатских ведомостей».
Прецеденты не всегда публиковались в хронологическом порядке, а в ежегодные сборники нередко включались и решения за предыдущие годы.
Решение вопроса о публикации решений Сената в 1877 году было временно возложено на первоприсутствующих и обер-прокуроров, однако фактически они занимались этим и позднее и некоторые прецедентные решения не публиковались - отчасти по причине «слабости» (приняты небольшим перевесом голосов, с перспективой позднейшего пересмотра), отчасти по политическим (по настоянию К. П. Победоносцева не публиковались, например, прецеденты по раскольничьим делам).
В ГКД между 1907 и 1911 годами было опубликовано 572 из 796 прецедентов (72%). В УКД общее число решаемых и публикуемых прецедентных дел было незначительным.
Помимо официальных сборников в начале XX века активно издавались и разнообразные неофициальные сборники сенатских решений, пользовавшиеся большим спросом.
* Окружные суды по закону 1889 года были апелляционной инстанцией для дел подсудных уездным членам окружных судов, на некоторых окраинах они заменяли также мировые съезды. Их решения, вынесенные в апелляционном порядке, обжаловались в Сенат.
Внесудебное толкование законов
скрытый текст
В 1877 году кассационные департаменты получили право разъяснять законы и вне рассмотрения конкретных дел. Инициатором разъяснения мог быть министр юстиции или первоприсутствующий в Общем собрании кассационных департаментов. Последний мог созывать с этой целью Общее собрание, а с 1885 года и Общее собрание Первого и кассационных департаментов. Первоприсутствующие самих кассационных департаментов правом инициировать внесудебное толкование не обладали, однако могли просить об этом первоприсутствующего Общего собрания. Таким же правом обладало и Соединенное присутствие Первого и кассационных департаментов по надзору за судебными установлениями.
Департаменты давали разъяснения законов сравнительно редко - в УКД максимум был достигнут в 1880 и 1912 годах - по 9 разъяснений. ГКД в 1898 году разъяснил в одном заседании сразу 57 отдельных вопросов, но в целом также ограничивался несколькими разъяснениями в год (в некоторые годы - 1880, 1884, 1887, 1890 их не было совсем).
Общее собрание департаментов поначалу также редко давало законам разъяснение (на 1878 год - 8, все по инициативе министра), однако со временем вошло во вкус - в 1896 году, например, было дано 40 внесудебных толкований (29 по инициативе первоприсутствующего и всего 11 - по инициативе министра юстиции).
Закон не требовал обязательной публикации разъяснений, но почти все из них публиковались.
Помимо прочего внесудебное толкование давало возможность Сенату пересматривать свои собственные прецеденты наименее болезненным образом - очередное дело решалось в соответствии с имеющимся прецедентом, но затем издавалось общее внесудебное разъяснение в другом смысле и будущие дела рассматривались уже в свете этого разъяснения.
Судебное правотворчество
скрытый текст
Судебные уставы 1864 года признавали за судами широкие правотолковательные полномочия, преодолев заложенное Екатериной II отрицательное отношение к самостоятельности суда в вопросах толкования. Отныне воспрещалось «останавливать решения суда под предлогом неполноты, неясности, недостатка или противоречия законов» и предписывалось «решать дела по точному разуму действующих законов, а в случае их неполноты, неясности, недостатка или противоречия, основывать решения на общем смысле законов».
Источником этой нормы было Гражданское уложение Царства Польского 1825 года, восходившее к Кодексу Наполеона.
Право толкования законов получил и Сенат, сначала в рамках рассмотрения конкретных дел, а после 1877 года - и вне этих рамок. Арсенал сенатских средств воздействия на судебную практику после 1877 года включал в себя:
- разъяснения Общего собрания кассационных департаментов (иногда с участием Первого или Второго департаментов) по вопросам, поставленным перед ним министерством юстиции или первоприсутствующим Собрания;
- разъяснения одного из кассационных департаментов по запросу министерства юстиции;
- департаментские решения по конкретным делам, опубликованные официально;
- департаментские решения по конкретным делам, неопубликованные;
- отделенские решения (официально не публиковавшиеся).
Основным средством развития права, впрочем, оставался прецедент, т. е. решение по конкретному делу, призванное служить образцом при решении других подобных дел.
Вопрос об обязательности сенатских прецедентов для нижестоящих судов оставался предметом дискуссий. Сам Кассационный Сенат на этом всегда настаивал (неоднократно отменяя решения судов из-за нежелания последних следовать разъяснениям Сената), однако подобная практика подвергалась резкой критике со стороны ученых-юристов.
Департаментские решения стояли выше отделенских и могли преодолеваться только другим решением департамента.
Юридическая сила разъяснений Общего собрания кассационных департаментов законом четко не определялась. Сам Кассационный Сенат считал их общеобязательными и ставил выше департаментских решений.
Относительно неопубликованных сенатских решений полной ясности также не было - в целом, считалось, что они не имеют обязательной силы (за пределами конкретного дела) и руководящего значения, однако суд вправе к ним прислушаться, если считает нужным.
При конфликте толкований старых судебных и кассационных департаментов судам предписывалось руководствоваться решениями последних, аналогичного подхода придерживались и при оценке силы и значения решений административных департаментов.
Прецеденты другого кассационного департамента не являлись обязательными и не применялись автоматически, однако на них охотно ссылались.
Разногласия между решениями самих кассационных департаментов разрешались их Общим собранием.
Наиболее часто встречающейся ситуацией был конфликт между прецедентами самого департамента. Нижестоящим судам при столкновении прецедентов Сенат предписывал руководствоваться позднейшим, однако сам этого принципа придерживался далеко не всегда.
В целом, Сенат, особенно ГКД, достаточно часто менял свою позицию по юридическим вопросам, при этом далеко не всегда признавая это открыто (за что подвергался резкой критике). Готовность Сената признавать ошибки во многом зависела видимо от личности первоприсутствующего. Так, при П. А. Маркове ГКД не любил признаваться в перемене своей позиции, предпочитая делать вид, что речь идет только о ее уточнении. При сменившем Маркова Н. Н. Мясоедове департамент напротив нередко открыто пересматривал свои решения, случаи открытого пересмотра решений в практике ГКД случались и позднее - при П. П. Веселовском, П. А. Юреневе и Я. Ф. Ганскау.
Случаи открытого пересмотра своих решений Общим собранием департаментов были весьма редкими, однако и такое тоже случалось.
Методы и приемы толкования применявшиеся Сенатом в борьбе с пробелами и противоречиями законодательства не оставались неизменными. Так, в первые годы существования он придерживался строгого буквализма, позднее от него отойдя, а с конца XIX столетия на сенатскую практику все более влияла морализация права и Сенат в своих решениях был склонен руководствоваться не столько буквой закона, сколько «справедливостью».
Нижестоящие суды нередко проявляли строптивость, вступая в борьбу с Сенатом и периодически побуждая его пересмотреть свою точку зрения. В 1907 году Соединенное присутствие по надзору за судебными установлениями даже прямо дозволило судам уклоняться от сенатских прецедентов - но только при условии подробного изложения в приговоре соображений побудивших к этому суд.

* * *
Кузьма Минин
Достаточно интересно, но, поскольку о самом Минине почти ничего не известно, большая часть текста фактически об истории Второго ополчения.
скрытый текст
Нижний Новгород и Смута
скрытый текст
К началу Смутного времени Н. Новгород был примерно шестым по значимости экономическим центром страны. К началу 1620-х годов в городе имелось ок. 2 000 дворов и 12 000 жителей и до Смуты вероятно было не меньше. Город состоял из 4 частей - каменного Кремля, Верхнего и Нижнего посадов, имевших деревянные укрепления и заокской Кунавинской (Канавинской слободы). В кремле посадского населения почти не было (20 дворов), здесь располагались органы власти (съезжая изба и пр.), соборные церкви, осадные дворы (более двухсот) и пр. Большая часть населения жила на Вехнем посаде. Основным торговым центром был Нижнепосадский торг (гостиный двор, таможня, кабаки, 25 торгоых рядов), в Верхнем посаде торговали у мытной избы (ныне Мытный рынок), в кремле у Дмитриевской башни (только хлебом и сьестными припасами).
Нижегородской епархии в это время еще не существовало и город входил в состав Патриаршей области. Формальным главой местного духовенства был протопоп соборного Спасо-Преображенского храма в Кремле. Всего в Нижнем имелось 25 - 30 церквей (включая соборные Спасо-Пребраженскую и Михаило-Архангельскую). В городе и окрестностях располагалось также 6 монастырей, мужские Печерский Вознесенский, Благовещенский, Симеоновский, Успенский, Духов и женский Зачатейский. Архимандрит Печерского монастыря фактически был наиболее авторитетной фигурой среди местного духовенства.
Гарнизон города состоял из примерно 500 стрельцов, полусотни людей пушкарского чина и примерно 200 служилых иноземцев, компактно живших в «старой» Немецкой слободе. Нижегородский служилый «город» включал ок. 400 помещиков.
Нижегородский уезд включал Закудемский, Березопольский, Стрелицкий станы, Белогородскую, Пурецкую, Терюшевскую волости и граничил с Муромским, Арзамасским, Балахнинcким и Курмышским уездами. Он был достаточно плотно заселен - 600 селений, ок. 30 000 дворов и ок. 150 000 крестьян мужского пола. Помимо русских здесь жила мордва - компактно в Терюшевской волости и анклавами в Березопольском и Закудемском станах. Земледелие в уезде было развито относительно слабо (хлеб ввозился из соседнего Рязанского края) и население кормилось прежде всего торговлей и промыслами.
На протяжении всей Смуты Нижний оставался оплотом лоялистов. Осенью 1606 года часть уезда была захвачена болотниковцами, к которым примкнули часть местных крестьян, мордва и часть дворянства во главе с Иваном Доможировым и кн. Иваном Болховским. На рубеже октября-ноября 1606-го повстанцы угрожали и самому Н. Новгороду, однако после поражения Болотникова под Москвой «ис под Нижнева воры разбежалися». Местные дворяне, включая обоих лидеров, вернулись на царскую службу «добив челом» царю Василию. Позднее нижегородские отряды участвовали в сражениях против болотниковцев при Серебряных прудах и на Ворсме.
Осенью 1608 года Нижний оказался блокирован тушинцами, захватившими Арзамас и Балахну. Для руководства городом и уездом был образован чрезвычайный орган - «городовой совет», включавший, помимо местных воевод, представителей церкви, дворянства, служилых иноземцев, земских старост, «посадских всяких людей» и пр. В руководстве военными операциями основную роль играл второй воевода А. С. Алябьев.
В ноябре - декабре 1608-го нижегородцы отбили два штурма тушинцев и затем полностью разгромили их местные силы, взяв соседнюю Балахну. Отбить у тушинцев Арзамас не удалось (февраль 1609-го), однако в марте 1609 года были освобождены Муром и Владимир. В мае 1609-го, с подходом армии Ф. И. Шереметева, положение города еще более упрочилось. В июле 1609 года армия Шереметева двинулась на соединение с кн. М. В. Скопиным-Шуйским и к марту 1610 года объединенная армия лоялистов очистила от врага окрестности столицы.
С уходом Шереметева в крае вновь активизировались тушинцы, опорным пунктом которых оставался Арзамас. Весной 1610-го Нижний вновь осаждался тушинскими отрядами и окончательный перелом в борьбе с последними был достигнут лишь в июне 1610 года - усиленные прибывшими из Москвы подкреплениями нижегородцы взяли Арзамас и к июлю привели край к присяге царю Василию.
После падения последнего (август 1610-го) Нижний целовал крест Владиславу, однако уже в январе 1611 года открыто примкнул к Первому ополчению. Городом в это время вновь руководил возрожднный в декабре 1610-го «городовой совет». В марте 1610-го отряды нижегородцев вошедшие в состав Первого ополчения были уже под Москвой (стояли у Сретенских ворот). После гибели П. Ляпунова (июль 1611-го) нижегородцы начали покидать ополчение и к осени того же года вернулись домой.
Минин
скрытый текст
Достоверных сведений о происхождении Минина, времени и месте его рождения не имеется. Родился он предположительно в 1570-х годах, по другой версии - около 1580 года. По происхождению скорее всего был нижегородцем, прочие версии (Балахна, Новгород), по мнению автора, убедительных подтвержений не имеют. Ничем не подтвеждена и фэнтезийная версия татарского происхождения Минина, объявляющая его «Киришей Мининбаевым». Неосновательны и попытки приписать Минину прозвище или фамилию Сухорук / Сухорукий («Кузьма Захарьев сын Минин Сухорук»).
Кузьма Минин был женат (женился возможно около 1600 года), о происхождении, времени и месте рождении его супруги Татьяны Семеновны никаких достоверных сведений также не имеется. Достоверно известно, что у Кузьмы имелась родная сестра, надолго пережившая брата (на 1654 год значилась инокиней московского Зачатьевского монастыря), однако известно только ее иноческое имя - Софья. Имелись также братья (упоминаются в его собственной челобитной поданой в 1615 году - во множественном числе), однако документально подтверждено существование одного - Сергея (в 1616 году отвозил в столицу челобитную племянника Нефеда). Другого возможно звали Безсон - освобожденный от тягла двор некоего Безсона Минина упоминается в писцовой книге 1620/21 года. У Минина имелся единственный взрослый потомок - сын Нефед (Мефодий), родившийся предположительно около 1601 года.
Существование прочих родственников - сестры Дарьи и сына Леонтия документами не подтверждается. Как отмечает автор, в XVIII - XIX веках, по мере роста интереса к личности национального героя, имя Минина обросло разнообразными легендами. Так, большой популярностью пользовалась версия о существовании у него еще одного сына, упомянутого Леонтия. В 1786 году коллежский советник А. А. Минин, выводивший свой род от этого мифического Леонтия, добился даже получения жалованной грамоты подтверждавшей его происхождение.
Относительно профессиональных занятий Минина в источниках имеются расхождения. Большая часть из них именует его мясником или «говядарем», «Плач о конечном разорении Московского государства» - «купцом коровей», Пискаревский летописец - «неким торговым человеком от простых людей», Авраамий Палицын и Новгородский летописец - «посадским человеком».
Нижегородский «адрес» Минина также неизвестен. По распространенному в городе преданию он жил в приходе церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, по другой версии - в приходе церкви Рождества Иоанна Предтечи в Благовещенской слободе.
Среди земляков Минин очевидно пользовался авторитетом - был избран земским старостой, выступавшим в роли посредника между властями и посадом. Служба эта исполнялась обычно бесплатно, что требовало от кандидата определенного достатка. Возможно Минин имел также какой-то опыт военной службы, полученный в годы Смуты (Первое ополчение?) - Пожарский позднее свидетельствовал (в передаче «Нового летописца»), что Кузьма «бывал человек служивой».
Автор записывает Минина в неграмотные - в ярославской окружной грамоте Ополчения от 7 апреля 1612 года за него расписался кн. Пожарский. [Однако, как мы знаем, само по себе это о неграмотности человека не говорит, а Дмитрий Михайлович вообще часто расписывался за других людей в документах].
Второе ополчение
скрытый текст
Осенью 1611 года Кузьма Минин выступил со своим знаменитым призывом, положившим начало формированию Второго ополчения. Неизвестны ни его точная дата (где-то между 26 августа и 26 октября, обычно считается, что в первой половине - середине сентября), ни точное содержание (сведения источников различаются), ни место (скорее всего на торгу на Нижнем посаде).
Базис ополчения в целом был заложен тремя деяниями - организованным Мининым сбором средств (заложившим финансовую базу ополчения), привлечением на службу стоявших в Арзамасе смоленских дворян (составивших костяк отрядов ополчения) и приглашением кн. Д. М. Пожарского на роль военного и политического лидера. Последовательность и подробности этих событий остаются однако неясными.
Неясны и масштабы организованного Мининым сбора средств. По традиционной версии он сам пожертвовал две трети имущества и требовал того же от других, «Нижегородский летописец» сообщает о сборе «пятой деньги» и т. д. Для упрочения своего положения Минин добился принятия «приговора всего града за руками» о принудительном сборе средств на «строение ратных людей», опираясь на который и «собирал казну». Помимо сборов с населения были сделаны займы у крупных предпринимателей и их приказчиков (Строгановых и пр.). Одни Строгановы пожертвовали 3 116 рублей (формально дали взаймы, но фактически возврата никогда не требовали).
Пришедшим на службу в Нижний смоленским, вяземским и дорогобужским детям боярским давали по 15 рублей и назначали годовой оклад по трем статьям - по одной версии по 15, 20 и 30 рублей, по другой - по 40, 45 и 50 рублей. Финансовое благополучие ополчения (за которое отвечал Минин) было одним из важнейших факторов его успеха, привлекая на службу новых людей и способствуя сохранению порядка и дисциплины в его отрядах.
Какое-то время в Нижнем существовало два центра власти - параллельно действовали воеводское управление (кн. В. А. Звенигородский, А. С. Алябьев, дьяк В. Семенов) и руководство ополчения - кн. Д. М. Пожарский, второй воевода И. И. Биркин, дьяк Василий Юдин и постепенно оформявшееся вокруг него новое «правительство» - «Совет всея земли». Сам Минин еще какое-то время оставался земским старостой и в деятельности руководства ополчения официально не участвовал.
В «великий пост» (начинался 23 февраля) 1612 года отряды Второго ополчения выступили в поход на Москву. Первоначальные планы предусматривали движение кратчайшим путем - через Суздаль и Владимир, однако захват Суздаля отрядами братьев Просовецких привел к изменению плана - решено было идти вверх по Волге к Ярославлю. Отряды ополчения двигались к городу через Балахну, Юрьевец, Кинешму и Кострому, по пути подчиняя или меняя воевод Владислава и Первого ополчения. В занятых городах производились сбор ратных людей и средств (по нижегородскому образцу). Отвечавший за последний Минин (именовавшийся теперь «выборным человеком всея земли») действовал весьма жестко. Так, уклонявшимся от сборов жителям Балахны он, «видя их пронырство», приказал «руце отсещи» и устрашенные балахнинцы «принесоша» деньги «по его окладу».
В конце марта 1612 года отряды ополчения вошли в Ярославль. Богатые ярославцы, возглавляемые крупным купцом и промышленником, земским старостой Григорием Никитниковым также не горели желанием делиться имуществом (тем более, что Никитников уже дал ополчению 500 рублей в Нижнем - через приказчика). Пришедший в земскую избу Минин сначала «много тязав» ярославцев «своими доброумными словесы», но видя, что это не помогает, приказал их арестовать, а имущество конфисковать. Увидев такую «велику жестость» ярославцы «все вскоре с покорением приидоша» и «имение свое принесоша». Помимо кнута ярославцам, как и всем прочим, предлагался и пряник - они могли делегировать своих представителей в «Совет всея земли» и участвовать в управлении движением.
В Ярославле ополчение задержалось на четыре месяца, занявшись упрочением своего положения и расширением зоны контроля. Здесь окончательно сложился высший орган ополчения - «Совет всея земли» (около 1 апреля), оформилась приказная структура (около десятка приказов с 10-12 дьяками) и пр.
К Москве ополчение двинулось в июле 1612-го, к 20 августа встав основными силами у Арбатских ворот. Минин в походе по-прежнему «по градам казну збирал и ратным людям давал».
В знаменитом «Хоткеевом бою» - сражении с армией гетмана Ходкевича пытавшейся деблокировать польский гарнизон, Минин сыграл одну из самых заметных ролей. В решающий день сражения, 24 августа, он ездил в лагерь Трубецкого - уговаривать казаков помочь Второму ополчению, а вечером того же дня сам водил в бой конницу (три поместных сотни и роту польского перебежчика Хмелевского).
После объединения двух ополчений в конце сентября 1612-го Минин остался одним из лидеров освободительной борьбы, несмотря на скверные видимо отношения с кн. Д. Т. Трубецким, писавшимся теперь на первом месте.
Думный дворянин
скрытый текст
На Утвержденной грамоте об избрании Михаила Федоровича подписи Минина почему-то нет (что впрочем могло объясняться и «техническими» причинами), однако и сам Минин и его семейство пользовались благосклонностью нового государя, щедро наградившего его за заслуги.
12 июля 1613 года, на следующий день после венчания царя Михаила на царство, Кузьма Минин был пожалован в думные дворяне (случай экстраординарный). Денежный оклад ему был положен в 200 рублей (у другого думного дворянина, печально известного Г. Г. Пушкина было всего 120). Кузьма сделался также крупным землевладельцем - [ему было пожаловано огромное поместье] (село Богородское в Нижегородском уезде, 1632 чети), [позднее, в январе 1615 года, переоформленное в выслуженную вотчину]. Помимо этого он получил еще одно большое поместье в Нижегородском уезде (село Ворсма, 1956 четей в одном поле и 2500 копен сенокосов, на 1618 год - 114 крестьянских и 108 бобыльских дворов) и, как член двора, небольшое поместье под Москвой (65 четей).
Несмотря на внимание правительства при дворе бывший земский староста видимо несколько затерялся. Правительство использовало его в основном для решения финансовых задач - организации разнообразных денежных сборов. Помимо этого он служил и другие службы - в мае 1615 года был назначен (вместе с боярами кн. В. Т. Долгоруким, кн. И. В. Голицыным и окольничими кн. Д. И. Мезецким и Ф. В. Головиным) в боярскую комиссию оставленную стеречь Москву в отсутствие государя и пр.
Зимой 1615/16 года Минин был включен в состав комиссии (боярин Г. П. Ромодановский, Минин и разрядный дьяк М. Поздеев) посланной в Казань для установления причин недавнего мятежа татар и черемисы [у автора - национально-освободительного движения]. На обратном пути в столицу, где-то между мартом и июнем 1616 года, Кузьма Минин умер.
Относительно места его захоронения нет полной ясности. В XVIII - начале XX века могила Минина располагалась в нижегородском Спасо-Преображенском соборе, однако когда она там появилась неизвестно - документально впервые фиксируется в 1765 году. По одной версии изначально Минин был похоронен в ограде местной Похвалинской церкви, а в Спасо-Преображенском соборе перезахоронен в 1672 году, по другой - изначально был похоронен в соборе. Сам Спасо-Преображенский собор дважды радикально перестраивался - в середине XVII века новое здание было построено рядом со старым, в середине XIX века - на месте старого. Перестройки сопровождались переносом захоронений, бардаком и видимо утерей части останков лиц похороненных на территории собора.
До второй четверти XIX века могила Минина не вызывала большого интереса у властей и общественности и находилась в довольно запущенном состоянии. Однако в 1834 году ее посетил император Николай I, приказав привести захоронение в порядок. Позднее могилу неоднократно посещали и другие августейшие лица, что обеспечило ей должный уход и внимание.
В 1929 году Спасо-Преображенский собор был уничтожен большевиками. В процессе уничтожения был вскрыт и склеп Минина, однако останки его были спасены от гибели журналистом и писателем Н. А. Барсуковым и позднее переданы на хранение в областной музей. В 1962 году, по случаю 350-летия Нижегородского ополчения, они были перезахоронены в Михайло-Архангельском соборе, где находятся и сейчас. Перед захоронением была проведена медицинская экспертиза, установившая присутствие среди останков частей тел трех разных людей - двух взрослых и подростка (видимо следствие вышеупомянутых переносов захоронений).
Семья Минина после 1616 года
скрытый текст
Сын Минина Нефед родился предположительно в 1601 году и на службу вышел уже после смерти отца - в 1616 году. В 1616/17 году он числился жильцом, в 1618 году был пожалован в стряпчие. Нефед участвовал в обороне Москвы от Владислава, был дважды ранен (обе руки прострены из пищали). Нефеду покровительствовал вернувшийся в 1619 году в Москву патриарх Филарет - «меж придворных среди прочих сына Кузьмы Минича выделяет и жалует». В марте 1632 года Нефед был пожалован в московские дворяне, но в ноябре того же года умер.
Где-то после 1625 года Нефед женился - на Анне Михайловне Тихоновой. Отец ее, Михаил Николаевич, сделал карьеру во время Смуты - на 1606 год служил дворовым сыном боярским по Смоленску, к апрелю 1613-го - стрелецким приказным головой, в 1613 - 1615 годах возглавлял дипломатическую миссию посланную в Иран, к 1616 году стал московским дворянином и в 1619-м был вторым судьей Холопьего приказа. Детей в этом браке не было и род Мининых пресекся.
После смерти отца за Нефедом остались его выслуженная вотчина (Богородское) и подмосковное поместье (треть деревни Микулинское), выкупленное Нефедом в вотчину незадолго до смерти. Другое большое поместье (село Ворсма), вернулось в собственность дворцового ведомства и позднее было дано кн. И. Б. Черкасскому.
После смерти самого Нефеда его подмосковная вотчина перешла к вдове, а Богородская, как выморочная, была отписана на государя. Вместо нее вдове и матери Нефеда было дано прожиточное поместье в Лухском уезде (по 125 четей каждой). Около 1635 года вдова Нефеда вновь вышла замуж - за некоего Андрея Ивановича Зиновьева, которому перешла и ее часть прожиточного поместья. Свою подмосковную вотчину Анна Михайловна в 1644/45 году продала брату Степану - с обременением (при ее жизни вотчину не перепродавать и не закладывать). В декабре 1647 года брат с сестрой заложили эту вотчину боярину М. М. Салтыкову с сыном - за 300 рублей.
Вдова Кузьмы Татьяна Семеновна после смерти мужа видимо продолжала жить в Нижнем, где вела активную хозяйственную деятельность - владела несколькими торговыми лавками полученными по заемным кабалам. Одна? из них, стоявшая в шапочном ряду, в 1635 году была дана Спасо-Преображенскому собору - на помин души Кузьмы и родителей вдовы. Умерла Татьяна Семеновна около 1640 года.

* * *
«Прямые» и «кривые» Смутного времени в России
Сборник биографических очерков малоизвестных персонажей Смуты - даже не второго, а третьего плана. Идея сама по себе хорошая, но и персонажи большей частью малоинтересные и пишут авторы очень плохо.
Также - здесь
скрытый текстСмирной Елизарьевич Отрепьев
скрытый текст
Свою родословную Отрепьевы выводили от некоего Владислава из Нилка Нелидовского, будто бы прибывшего в Москву с кн. Дмитрием Ольгердовичем, участвовавшего в Куликовской битве, позднее перешедшего на московскую службу, [перекрещеного во Владимира Нелидова] и пожалованного землей в Боровском уезде.
Один из потомков этого Нелидова, Давыд Борисович, при Иване III получил прозвище Отрепьев и от него пошли Отрепьевы, [его брат, Семен Борисович, остался Нелидовым, его потомки, с XVII века служившие по Галичу, всегда писались Нелидовыми]. Двое внуков Давыда около 1547 года были переведены из Боровска в Углич, а третий, Матвей Иванович - в Галич.
Сын Матвея Замятня (Елизарий) в довольно молодом возрасте постригся и стал монахом московского Чудова монастыря (позднее помог внуку-самозванцу пристроиться в этот монастырь). У Замятни было четверо сыновей, младший из них, Богдан (Яков), был отцом Григория (Юрия) - будущего Самозванца.
Старший из сыновей Замятни, Смирной (Никита) Елизарьевич Отрепьев впервые упоминается в 1577 году, в коломенской десятне - как неслужилый дворовый новик с окладом в 250 четей и 7 рублей. Вместе с ним новиками по Коломне были записаны братья, их отец Замятня упоминается в коломенской писцовой книге 1577/78 года как бывший коломенский помещик. Возможно Отрепьевы оказались в Коломне в ходе опричных переселений.
В следующий раз Смирной Отрепьев появляется в источниках лишь через 20 лет - в боярском списке 1598/99 года он записан выборным по Галичу. В боярском списке 1602/03 года он по-прежнему выборный, с окладом в 450 четей и с пометой - «голова у стрельцов на Низу».
С появлением в Польше Самозванца для его дяди у правительства нашлась другая работа. Весной 1604 года Смирной был послан гонцом к литовскому канцлеру Льву Сапеге - формально с грамотой о приграничных делах. Фактически Отрепьеву была поставлена другая задача - он должен был обличать Самозванца перед польскими вельможами, встретившись с тем лицом к лицу (встретиться с племянником Смирному, впрочем, не дали).
Вернувшись в Москву Смирной, вместе с матерью и другими «сродниками» Григория, «всенародно» обличал Самозванца. После воцарения последнего, его настоящие родственники, включая Смирного и, видимо, мать Варвару, отправились в сибирскую ссылку, вероятно в Березов.
Из ссылки родня Отрепьева, включая Смирного, была вероятно отпущена Василием Шуйским в 1607 году. Сам Смирной позднее служил царю Василию - под 116 (1607/08) годом упоминается как военный командир - должен был идти с полком из Дмитрова к Троице, на соединение с кн. В. Т. Долгоруковым.
Вероятно он пользовался доверием правительства - в ноябре 1609 года был (вместе с подьячим или дьяком Пятым Григорьевым) отправлен с дипломатической миссией в Швецию - просить дополнительной военной помощи. Выехав из Москвы 26 ноября, в январе 1610-го посланники царя Василия прибыли в Орешек (где вели переговоры с жителями Корелы, не желавшими передачи города шведам), в феврале были уже в Выборге (где вероятно также вели какие-то переговоры о Кореле с местыми шведскими властями), прибыв в Стокгольм 14 апреля.
В Швеции Смирному пришлось задержаться надолго. Карл IX принял посланцев царя Василия только через два месяца - 12 июня. Обстановка в России вскоре радикально переменилась - 24 июня русская армия была разбита под Клушиным, 17 июля был свергнут царь Василий, 17 августа царем был признан королевич Владислав. В Швецию известия о событиях в России приходили с задержкой в один-два месяца.
30 октября 1610-го Отрепьев и Григорьев по приказу короля были отправлены в Выборг, где оставались до осени 1611 года. Вопрос об их возвращении в Россию был решен лишь после захвата шведами Новгорода (16 июля 1611 года) и заключения новгородцами договора с Делагарди (25 июля). Узнав о присяге новгородцев шведские власти отпустили обоих посланников в Новгород.
Здесь Смирной перешел на службу новгородскому правительству Делагарди-Одоевского, получив в 120 (1611/12) году оклад в 800 четей и поместье в Старорусском уезде Шелонской пятины (239 четей на дворцовых землях). Первое время он был малозаметен (хотя привлекался к сбору кормов «немецким людям»), однако с лета 1612 года заметно активизировался.
Летом 1612 года Смирной Отрепьев был (вместе с игуменом новгородского Николо-Вяжицкого монастыря Геннадием и стольником кн. Федором Тимофеевичем Черново-Оболенским) включен в состав ответного новгородского посольства, направленного к пребывавшему в Ярославле правительству Второго ополчения [обмен посольствами привел к установлению перемирия между сторонами и инициировал переговоры о призвании шведского принца на русский престол].
Новгородское правительство высоко оценило деятельность послов - 3 сентября 1612 года Отрепьев и кн. Ф. Т. Оболенский получили новые поместные дачи - по 132,5 чети в Старорусском уезде.
В конце октября 1612 года Отрепьева назначили вторым воеводой Старой Руссы (первый - кн. А. К. Шаховской).
Летом - осенью (после 22 июля) 1613 года Смирной перешел (скорее даже бежал, оставив в Старой Руссе жену Авдотью - ее позднее пытались выменять на шведских пленных) на службу к правительству Михаила Федоровича. Что именно послужило причиной этого шага (венчание на царство Михаила Федоровича (11 июля), активизация московских сил на новгородском направлении, антишведское восстание в Старорусском уезде, конфликты с первым воеводой и пр.) мы не знаем.
В Москве он видимо пользовался доверием - в конце того же 1613 года был назначен воеводой Можайска, где и умер в 1614 году (не ранее 25 марта), в возрасте примерно 54 лет.
Перфилий Иванович Секирин
скрытый текст
Перфилий Секирин родился вероятно не позднее 1560/61 года и ко времени Смуты был уже немолодым человеком. Отец его, Иван Михайлович Голова Секирин, в боярском списке 1577 года значился выборным по Мещовску. Выборными по тому же Мещовску в боярском списке 1602/03 года значились и сам Перфилий (350 четей и 6 рублей) и два его брата. В том же чине и с тем же окладом он указан в росписи войска посланного против Самозванца в 1604 году.
В 1608 - 1610 годах он участвовал в обороне Москвы от тушинцев и был награжден вотчинами в Мещовском уезде. В следующий раз в источниках он упоминается в августе 1610 года - привез боярам ответ гетмана Жолкевского относительно условий воцарения Владислава.
В 1611 году Секирин примкнул к первому ополчению - был вторым воеводой в Суздале при Иване Петровиче Большом Головине, затем при атамане Просовецком, а летом 1612 года перешел во Второе ополчение. В июле 1612 года Секирин, вместе с Федором Шишкиным и подьячим Девятым Русиновым ездил из Ярославля с посольством в Новгород. Целью этого, второго, ярославского посольства (посланного в ответ на миссию Отрепьева - см. выше) было заключение договора с русско-шведским правительством Новгорода - о поддержании мирных отношений и возможном призвании Карла-Филиппа.
После освобождения Москвы Секирин какое-то время видимо служил вторым воеводой в Уфе. В конце 1613 года он был уже в Москве и поневоле принял участие в известном конфликте кн. Пожарского с Б. М. Салтыковым - был послан выдавать князя головой марфиному племянничку.
В феврале 1614 года Секирин был назначен вторым воеводой в войско собираемое против литвы в Калуге. Здесь на него бил челом голова казанских татар О. Я. Прончищев и выиграл - был переподчинен первому воеводе кн. А. М. Львову [- правительство не решилось поддержать воеводу].
Войско Львова-Секирина довольно успешно действовало под Кричевым и Мстиславлем и в августе 1614-го Секирин был награжден шубой (37 рублей) и серебряным кубком.
В 1620/21 году он был воеводой в Арзамасе, в 1622 году - приставом у юргенчского царевича Авгана Арапуховича (при этом бил челом на кн. Г. К. Волконского - отказано из-за безместия). В 1624 - 1626 годах Секирин служил вторым воеводой в Казани (с боярином С. В. Головиным).
Секирины видимо были как-то связаны со Стрешневыми (последние тоже служили по Мещовску) и со второй половины 1620-х Перфилий часто назначался на службы при царице Евдокии.
В 1632 - 1635 годах он был воеводой во Владимире, а в 1638 - 1639 годах в Ярославле. Позднее Секирин уже не служил, в мае 1653 года был отставлен «для старости и увечья» и видимо вскоре скончался, прожив более 90 лет.
В 1611? году, вероятно правительством Первого ополчения, был пожалован в московские дворяне и до конца жизни служил в этом чине. По боярскому списку 1616 года его оклад составлял 700 четей и 60 рублей.
Мисюрь Иванович Соловцов
скрытый текст
Соловцовы были однородцами Вельяминовых и выводили свое происхождение от Юрия Вельяминова-Грушки, младшего брата последнего московского тысяцкого Василия Вельяминова. Дед Мисюря в Тысячной книге был записан дворовым по Пскову, отец, Иван Федорович Голова Соловцов, служил выборным по Нижнему Новгороду. Иван Федорович приходился также двоюродным братом Михаилу Богдановичу Сабурову [пожалованному в бояре Самозванцем - он был братом жены царевича Ивана Васильевича и соответственно «родственником» Гришки], вторым браком женатого на Ульяне Погожей, вдове боярина Александа Никитича Романова и был, таким образом, дальним родственником одновременно и Годуновых и Романовых.
Сам Мисюрь (Пантелеймон) Соловцов (родившийся на рубеже 1570-1580-х годов) к началу Смуты служил городовым сыном боярским по Нижнему, к 1607 году будучи уже в выборе, с окладом в 750 четей.
Соловцовы оставались стойкими сторонниками царя Василия - Мисюрь воевал с болотниковцами (в марте 1607-го участвовал в битве у Серебряных прудов и отвозил взятых в ней пленных в Москву), в 1608 - 1610 годах, вместе с братьями Яковом и Михаилом, служил в войске Ф. И. Шереметева.
Зимой 1609 года, будучи письменным головой, посылался из Чебоксар приводить к шерти местных татар и черемисов. В июне 1609-го был отправлен с отрядом из Нижнего к Юрьевцу - против Лисовского и был разбит последним, однако позднее поквитался, разбив приданный полковнику ростовский отряд И. Наумова у острова Мамшин и отбив Юрьевец.
В августе 1609-го братья Соловцовы участвовали в походе армии Ф. И. Шереметева на Касимов и действовали в ее составе вплоть до соединения со Скопиным-Шуйским и снятия осады с Москвы. За службы с Шереметевым Мисюрь был пожалован переводом части поместий в вотчину (125 четей).
Присягать Владиславу Мисюрь не стал и вскоре примкнул к Первому ополчению - в июле 1611 года назначен воеводой небольшого Ядрина. Позднее он входил в состав Второго ополчения - в июле 1612-го отправлен из Ярославля в Суздаль - управлять вотчинами суздальского архиепископа.
Мисюрь Соловцов был среди подписавших «Утвержденную грамоту» об избрании Михаила Федоровича (вероятно в качестве представителя Нижнего). В 1614 году он служил под Смоленском с кн. Д. М. Черкасским, а позднее в том же году был отправлен заново ставить разоренный в Смуту Царицын. В новопоставленном Царицыне Мисюрь прослужил воеводой до 1616 года. В 1616 году попал под следствие по жалобе персидского купца и в 1617 году видимо был отставлен со службы - с его поместий служил сын Андрей. Позднее на службу вернулся - в 1622 -1623 годах был воеводой в Цивильске. Умер в 1627 году.
Степан Лазаревич Татищев
скрытый текст
До Смуты Татищевы служили по Дмитровскому уезду. Сам Степан Татищев в Смуту вероятно служил царю Василию и участвовал в защите Москвы от тушинцев, позднее был в армии Скопина-Шуйского. В августе 1610 года он присягнул Владиславу. В сентябре 1610 года входил в состав посольства Филарета, направленного к королю Сигизмунду под Смоленск, где представлял Дмитров. Из под Смоленска Татищев отъехал в декабре 1610-го, получив от Сигизмунда грамоты на свои поместья.
В 1611 году он примкнул к Первому ополчению, позднее поддержал Второе - в апреле 1612 года был послан из Ярославля с посольством в Новгород, что привело к установлению мирных отношений со шведско-русским правительством и инициировало переговоры о призвании Карла-Филиппа.
Летом 1612 года Татищев уже бился с поляками под Москвой - участвовал в «Хоткеевом бою» и пр. Летом 1613 года был послан под Смоленск с армией кн. Д. М. Черкасского и служил под Смоленском до сентября 1614-го, получив за смоленскую службу прибавку к денежному окладу.
В 1617 году Татищев был вторым воеводой в Вязьме (первый - кн. Никита Мезецкий), позднее, в 1617 - 1619 годах - первым в Болхове, где отличился в многочисленных столкновениях с поляками.
В 1625 - 1628 годах он был вторым воеводой в Терском городке (с кн. В. П. Щербатым), позднее служил в основном дворовые службы. В 1631 и 1633 годах был объезжим головой в Москве. В 1642 году отставлен для старости, умер в 1643-м. У Татищева было три взрослых сына - Юрий, Алексей и Михаил, внуком Алексея и, соответственно, правнуком Степана Лазревича был широко известный Василий Петрович Татищев, историк, государственный деятель и пр. и пр.
К осени 1614 года Степан Татищев числился уже московским дворянином, начиная с 1615 года обзаведясь поместьями в Кинешемском уезде. На 1632 год его поместный оклад составлял 1000 четей, денежный - 90 рублей. К 1643 году в Кинешемском и Кашинском уездах у него имелось не менее 513 четей поместной земли.
Федор Иванович Мерин Волконский
скрытый текст
Князья Волконские до начала XVII века были захудалой ветвью черниговских Рюриковичей с проблемным происхождением - считались «выблятками» рожденными «девкой» (первый Волконский был вероятно прижит кн. Юрием Михайловичем Тарусским с наложницей), что им регулярно поминали в местнических столкновениях.
Князь Федор Иванович Мерин Волконский принадлежал к средней ветви Волконских и к началу Смуты был уже немолодым человеком - впервые упоминается послухом еще в 1571/72 году (т. е. к началу Смуты ему было в лучшем случае под пятьдесят)*.
В боярском списке 1602/03 года князь был записан выборным по Алексину (400 четей), в росписи войска посланного против Самозванца в 1604 году он записан с тем же чином и окладом в 500 четей.
Дальнейшая его биография известна фрагментарно. По некоторым сведениям осенью 1604 года князь был назначен воеводой передового полка в Новосиль, по другой версии в 1604 - 1605 годах служил осадным головой в Белгороде и перешел на сторону Самозванца.
Позднее Волконский служил царю Василию и в июле 1607 года был вторым воеводой сторожевого полка в войске посланном против захватившего Коломну Лисовского. Посылка сопровождалась местничеством воевод [в котором участвовал и сам Мерин, см . последнюю кн. Ю. М. Эскина] и по некоторым сообщениям Волконский командовал полком в одиночку. Несмотря на ссоры воевод Лисовский был наголову разбит у Медвежьего брода.
Осенью 1608 года Волконский упоминается на службе в Москве - вместе с боярином И. Куракиным назначен защищать Покровские ворота. В дальнейшем он продолжал служить Шуйскому, а летом 1610 года, после свержения царя Василия, участвовал в его насильственном пострижении.
Во второй половине 1610 года князь был уже воеводой в Суздале, причем по некоторым сведениям в августе того же года успел присягнуть Вору. Позднее он оставался суздальским воеводой уже на службе у Владислава.
В начале 1611 года Волконский был уже воеводой в Костроме, служа Первому ополчению - 24 февраля выступил из Костромы к Москве с отрядом из костромских детей боярских, местной посохи и астраханских казаков. От Совета Первого ополчения князь получил чин московского дворянина и подмосковное поместье в 398 четей (отнятое у Клешниных).
После убийства П. Ляпунова Волконский видимо покинул подмосковные таборы. В апреле 1612 года он значился уже в рядах Второго ополчения в Ярославле и позднее участвовал в освобождении Москвы.
После очищения столицы Волконский был назначен приставом к арестованному изменнику Федору Андронову, вскоре (13 марта 1613-го) благополучно сбежавшему из под ареста при помощи человека князя. Под арест был посажен уже сам Волконский, однако 15 марта Андронова поймали под Москвой и князя отпустили.
В том же марте 1613-го князю, вместе с двумя дьяками, было указано ведать «судные, разбойные, татинные, холопьи и всякие земские дела» - в справочнике Лисейцева - Эскина - Рогожина это учреждение (официального наименования не имевшее) условно именуется Приказом Сыскных дел третьего формирования [ссылочка на справочник, к слову, неверная - указана 350-я страница, надо - 202-я].
В 1614 - 1615 годах князь был воеводой в Ельце. В апреле 1616 года, вместе с троюродным братом кн. Г. К. Волконским, бил челом на боярина П. П. Головина - отправлен на три дня в тюрьму за бесчестье.
В боярской книге 1616 года кн. Ф. И. Волконский записан московским дворянином с окладом в 1100 четей и 130 рублей.
Весной - летом 1618 года Волконский был первый воеводой в войске посланном из Мценска к Стародубу (к июню находилось в Болхове). В марте того же года на князя бил челом его второй воевода М. К. Челюсткин (отправлен в тюрьму и списки взял).
В июне 1618-го назначен третьим воеводой в полк кн. Б. М. Лыкова в Можайске, заместничал с назначенным вторым воеводой И. А. Момотом Колтовским - оба были отставлены.
В 1618 - 1619 годах - воевода в Кашире (в ноябре 1618-го отбил нападение запорожцев).
За московское осадное сидение 1618 года пожалован вотчиной, однако в московском осадном списке князя нет - вероятно награжден за иные службы, а к московским сидельцам приравнен.
В 1621 году назначен в товарищи к кн. Г. П. Ромодановскому в Московский судный приказ. В октябре 1626 года посылался Пушкарским приказом для государева дела в Ржеву Пустую. Позднее служб уже не нес, умер в июле 1630 года.
Сыновья Мерина достигли значительных высот. Старший, кн. Федор Федорович Меринок Волконский, за оборону Белой в июле 1634 года был пожалован в окольничие, а за участие в подавлении восстания во Пскове в декабре 1650 года - в бояре. Он служил также судьей Челобитного (1634 - 1643) и Казачьего (1640/41 - 1643) приказов и приказа Большого прихода (1652 - 1653), участвовал в составлении Соборного уложения и пр.
Средний сын Мерина - кн. Петр Федорович, был пожалован в окольничие при воцарении Алексея Михайловича (1645).
* У князя имелся полный тезка - пятероюродный брат Федор Иванович Волконский, умерший с ним в один год и также имевший сына Федора, что создает определенные проблемы с идентификацией.
Данила Семенович Змеев
скрытый текст
Змеевы были однородцами Беклемишевых и в XVI веке были отмечены в Тысячной книге, Дворовой тетради, служили в опричнине. Сам Данила Змеев в боярском списке 1602/03 года был записан жильцом.
В ходе Смуты он верно служил царю Василию, после его свержения в августе 1610 присягнул Владиславу, позднее примкнул сначала к Первому, а затем и Второму ополчениям - награжден за участие в «Хоткеевом бою» и «Китайском взятьи». В 1614 - 1615 годах служил под Смоленском с кн. Д. М. Черкасским, в 1618-м участвовал в обороне Москвы от Владислава.
В 1620 - 1621 годах был воеводой в Шуе, где активно конфликтовал с местными губными старостами, был отозван и на воеводские должности долго не назначался. В 1632 году назначен воеводой в Белоозеро. В 1642 году был приставом у турецкого посла. Умер не ранее 1646 года.
В 1618 году был пожалован в московские дворяне. Поместный оклад Змеева на 1642/43? год составлял 950 четей, денежный (на 1615 год) - 47 рублей. Он был довольно крупным землевладельцем имея к концу жизни только в вотчинах в Вологодском и Шуйском уездах 99 дворов с 299 крестьянами.
Сам по себе Данила Змеев был ничем не примечателен, но имел довольно заметных потомков. Женой его была Аграфена Ивановна Нарышкина - тетка будущей царицы Натальи Кирилловны. Один из его сыновей - Василий, дослужился до стольника, другой - Семен Данилович, играл заметную роль в ходе Тринадцатилетней войны. В 1659 - 1660 годах С. Д. Змеев был вторым воеводой в армии кн. А. И. Лобанова-Ростовского (взятие Старого Быхова), позднее командовал воеводским полком в армии кн. И. А. Хованского (был ранен под Полонкой) и был в товарищах у кн. Ю. А. Долгорукого (Шклов), затем воевал в Малороссии, где и погиб в июне 1661 года.
Сын С. Д. Змеева Василий был комнатным стольником царевичей Алексея и Федора Алексеевичей, в 1682 году прожалован в думные дворяне, умер после 1705 года.
Федор Васильевич Левашов
скрытый текст
Левашовы выводили свой род от [мифического] выезжего немца, были в боярах у тверских князей, а в конце XV века перешли на московскую службу. В опричнину они подверглись репрессиям и были выселены в Казань, вернувшись из ссылки в конце XVI века.
Дед Федора Левашова служил дворовым сыном боярским по Торжку, отец попал в опалу и был сослан в Поволжье, сам Федор еще в 1596 году числился «козьмодемьянским жильцом», а к началу Смуты уже служил по Арзамасу (на 1596 год оклад 300 четей, на начало 1606 года - 500 четей, фактическое на то же время имелось 182 чети).
О его деятельности в начале Смуты сведений нет, летом-осенью 1606 года при осаде Тулы Ф. Левашов служил головой у арзамасских мурз и татар в Каширском полку кн. А. Голицына. Осенью 1608 года арзамасский «город» перешел на сторону Вора, примкнул вероятно к тушинцам и Ф. Левашов - по сообщениям недоброжелателей он неоднократно участвовал в боях с нижегородскими лоялистами (сам Левашов позднее службу Вору отрицал, утверждая, что бежал от мятежников в Нижний). Так или иначе, к началу 1609 года Левашов вновь отмечается на службе у царя Василия - в январе участвует в неудачном походе нижегородцев на Муром, в марте посылается на Владимир, с помощью местных жителей успешно отбив его у тушинцев.
В 1610 году он, по некоторым сведениям, был воеводой в Балахне.
После свержения царя Василия Левашов примкнул к Первому ополчению. В боярском списке 1610/11 года он записан выборным по Арзамасу, с окладом в 700 четей. Позднее Левашов примкнул и ко Второму ополчению - в июле 1611 года был вторым воеводой в передовом отряде ополчения, первым пришедшем к Москве, позднее участвовал в боях с Ходкевичем и пр. После воцарения Михаила Федоровича был видимо пожалован в московские дворяне.
В 1614 году Левашов служил в армии кн. Д. Т. Трубецкого, посланной против шведов, где возможно командовал отрядом арзамасцев. В марте 1614-го он упоминается в качестве воеводы Рамышевского острога, в мае того же года был послан кн. Трубецким строить острог под Бронницами, в районе Новоселиц. В июле, после разгрома основной армии, был осажден шведами в Новоселицком остроге и после недельной осады сдался, попав в плен. В мае 1615 года освобожден в ходе обмена пленными. Оклад на июнь 1615 года - 1050 четей, фактически имелось 557 четей земли.
Осенью 1618 года Левашов участвовал в обороне Москвы - был вторым осадным воеводой в острожке за Яузой. В 1619 - 1620 годах - воевода в Царицыне, в 1629 году - объезжий голова в Москве. По боярской книге 1627 года - московский дворянин, с окладом в 1000 четей и 150 рублей. Умер в феврале 1630 года.
В годы Смуты среди землевладельцев Арзамасского уезда шла довольно активная борьба за землю - лоялисты пытались расширить свои владения за счет изменников и наоборот. Весьма активно, хотя и с переменным успехом, участвовал в этой борьбе и Ф. Левашов, отчего его реальное землевладение неоднократно претерпевало значительные изменения.
Второй сын Федора Левашова Иван большую часть Смуты был «в воровстве», оставаясь с Заруцким вплоть до разгрома последнего в Астрахани в 1614 году. Был вероятно прощен - на 1628 год выборный по Арзамасу с окладом в 350 четей, однако натура взяла свое - позднее бежал в Литву.
Младший, четвертый, сын Ф. Левашова, Никифор, оказался пьяницей и зернщиком, промотав полученную от отца вотчину и обзаведясь большими долгами - в 1640 году взят на поруки.
Наиболее успешной оказалась линия третьего сына, Григория. Его внук, Василий Яковлевич Левашов, дослужился до генерал-аншефа и был почти бессменным командиром Низового корпуса в Персии, а затем московским главноуправляющим. Сын В. Я. Левашова был обер-егермейстером и командиром Семеновского полка, внук - сенатором, а правнук, Василий Васильевич Левашов, стал председателем Государственного совета и был возведен в графское достоинство.
Федор Тимофеевич Черново-Оболенский
скрытый текст
Князь Федор Черново-Оболенский родился видимо в 1588 году, на службу вышел в 1603-м и к началу Смуты был совсем молодым человеком. Отец его был помещиком новгородской Деревской пятины, после его смерти в 1597 году большая часть его поместий перешла к другим лицам.
Сам Федор к 1606 году числился стряпчим с платьем (от кого получен чин неизвестно), с денежным окладом в 25 рублей. Он участвовал в боях с болотниковцами (в боярском списке 1606/07 года упомянут под Калугой), в 1608 году получив за это придачу к окладу - 15 руб. В том же году он отъехал в Тушинский лагерь, где позднее получил чин стольника. В Тушине князь почти ничем не отметился, в 1610 году присягнул Владиславу, а позднее примкнул к Первому ополчению.
Он вероятно входил в состав делегации В. И. Бутурлина, отправленной Ляпуновым весной 1611 года в Новгород на переговоры со шведами. После захвата шведами Новгорода и смерти Ляпунова князь остался на Новгородчине, перейдя на службу к шведско-русскому правительству. Последнее назначило ему поместный оклад (700 четей) и наделило поместьями в Водской и Обонежской пятинах (239 четей).
Зимой 1611 года князь посылался для денежного сбора в Оштинский стан Обонежнской пятины, а в июне 1612 года был (вместе с игуменом Геннадием и Смирным Отрепьевым) послан с посольством в Ярославль, к правительству Второго ополчения. За посольскую службу князь получил новую поместную дачу - 132,5 чети в Старорусском уезде.
В марте 1613 года Оболенский во главе отряда новгородских детей боярских ходил с Э. Горном на Псков.
В июне 1614 года князь Федор был отправлен Делагарди в Бронницы - на переговоры с пришедшим к Новгороду кн. Д. Т. Трубецким и обратно уже не вернулся, перейдя на службу к царю Михаилу. Поместья его были отписаны шведами, судьба оставшейся в Новгороде семьи (жена и дочь) неизвестна.
В Москве князь служил в чине стольника с денежным окладом в 40, а с 1616 года - уже в 100 рублей. В 1616 - 1620 годах он был воеводой в новопостроенном (между 1609 и 1613 годами город был совершенно разорен и заброшен) левобережном Саратове, возможно сам и руководя его восстановлением.
В 1622 - 1623 года кн. Федор был воеводой в Ржеве Володимировой, в 1625 году служил первым воеводой «прибылого полка» в Мценске. Во второй половине 1620-х князь был переведен из стольников в московские дворяне, служил разные дворцовые службы, а в 1631 году был отправлен в Астрахань для городового дела. В 1631 - 1632 годах под его руководством была расширена астраханская крепость.
В 1638 - 1640 годах Оболенский был воеводой в Коле.
В 1641 году князь участвовал в Земском соборе, рассматривавшем вопрос принятия Азова под государеву руку, представляя дворян московских (записан третьим из 22). Участвовал и в Соборе 1649 года (один из двух представителей дворян московских), подписав Соборное уложение. Умер в 1651 году. Детей у князя не было и наследниками его стали племянник и двоюродные внуки - дети окольничего Венедикта Андреевича Оболенского.
Со второй половины 1620-х князь оставался московским дворянином, оклад его к 1639 году составлял 800 четей и 80 рублей, в 1641 году, за прошлые астраханские службы было добавлено еще 200 четей и 60 рублей.
Федор Кириллович Плещеев-Смердов
скрытый текст
Плещеевы вели свой род от Федора Бяконта и служили московским государям с XIV века. Ф. К. Плещеев принадлежал к старшей, не самой заметной, ветви рода, идущей от Фофана (Феофана) Федоровича. Ее родовые владения находились во Владимирском и Муромском уездах.
Отец Ф. К. Плещеева, Смерд (Кирилл) Иванович Плещеев в Дворцовой тетради был записан по Владимиру, а в боярском списке 1588/89 года числился выборным по Суздалю, с окладом в 600 четей. Вершиной его карьеры было воеводство в Юрьевце Повольском (1583).
Сыновья Смерда Дмитрий и Федор в боярском списке 1602/03 года были записаны выборными по Суздалю, их сестра Прасковья была замужем за Леонтием Андреевичем Вельяминовым. В боярском списке 1606/07 года Федор Плещеев был уже стряпчим с платьем.
Чем Ф. К. Плещеев занимался в начале Смуты неизвестно, но в октябре 1608 года он был уже тушинским воеводой Суздаля. По одной версии Плещеев был назначен (не ранее февраля 1608-го) в Суздаль воеводой или осадным головой царем Василием и затем перешел на сторону Вора, по другой - прибыл в город с тушинцами уже после его измены. Лжедмитрий II пожаловал Плещееву чин окольничего (ноябрь 1608-го). Вору служил и старший брат Федора Дмитрий (воевода в Белой). Их шурин Л. А. Вельяминов остался верен царю Василию.
На воеводском посту Плещеев проявил себя активным сторонником Вора (фактически подчинялся гетману Сапеге), ведя, с переменным успехом, боевые действия против лоялистов в верхневолжском регионе (окрестности Суздаля, Шуя, Владимир, Лух и пр.). Воевода пользовался твердой поддержкой местного «города» - попытка Сапеги сместить его с поста в мае-июне 1609 года вызвала коллективное челобитье - суздальцы грозились оставить тушинскую службу. В июле 1609-го Плещеев был все-таки отозван в Тушино, что привело к отъезду части суздальских детей боярских.
После развала тушинского лагеря Плещеев остался с Лжедмитрием. В феврале 1610 года во главе большого отряда русских тушинцев он пытался отбить у поляков Можайск, но был разбит.
В августе 1610 года Плещеев целовал крест Владиславу, но уже в октябре того же года отъехал из Москвы к Сапеге (которого в письмах называл своим государем, кормильцем и приятелем), стоявшему у Боровска. Следующие несколько месяцев он служил Сапеге, активно участвуя в переговорах гетмана с русскими тушинцами и Первым ополчением.
В марте 1611 года Плещеев оставил Сапегу и примкнул к Первому ополчению, участвуя в боях под Москвой. В мае-июне того же года он (будучи вторым воеводой у кн. Д. М. Черкасского) был послан против Сапеги под Можайск, где вел с гетманом переговоры, уже от имени ополчения.
Чем Плещеев занимался между июнем 1611 и осенью 1612 года неизвестно, но в октябре 1612-го он обнаруживается уже в рядах Второго ополчения (там же служил и его старший брат Дмитрий).
При выборах государя Плещеев видимо поддержал кандидатуру Михаила Федоровича, что обеспечило ему устойчивое положение при новом режиме.
В июле 1613 года он был послан с войском к Тихвину. Назначенный к Плещееву вторым воеводой Исак Семенович Погожий бил на него челом, но проиграл. Ко времени подхода Плещеева блокада Тихвина была уже снята и в ноябре 1613-го Плещеева назначили тихвинским воеводой.
В 1616 году Плещеев, назначенный, вместе с другими воеводами, охранять Москву «по ногайским вестям», бил челом на кн. Федора Ивановича Лыкова, но проиграл и был выдан последнему головой.
В 1618 - 1619 годах Плещеев был воеводой в Белгороде, в июле 1622 командовал полком посланным к Кашире по ногайским вестям. В 1623 - 1625 годах был вторым воеводой в Тобольске, с боярином кн. Ю. Я. Сулешевым.
В начале Смоленской войны (июль 1632 года) назначен первым воеводой войска посылаемого к Новгороду-Северскому, однако в ноябре того же года умер и в боевых действиях активного участия принять не успел.
Единственная дочь Плещеева была замужем за кн. М. В. Прозоровским.
Воровской чин окольничего ни ополчения, ни правительство Михаила Федоровича за Плещевым не признавали. В боярском списке Первого ополчения (1611 год) он значился в старом чине стряпчего, не позднее марта 1614 года был повышен и в боярском списке 1616 года записан уже стольником, с окладом в 900 четей и 130 рублей. По земельному списку 1613 года за Плещеевым числилось 916 четей вотчинной и поместной земли.
Во второй половине 1620-х был (по возрасту?) переведен из стольников в московские дворяне.
Андрей Захарович Просовецкий
скрытый текст
О происхождении и ранней биографии известного казацкого атамана А. З. Просовецкого почти ничего не известно. По некоторым сообщениям он был выезжий литвин, возможно шляхетского происхождения. Вся семья Просовецких была православной.
В источниках Просовецкий появляется только в начале 1609 года. К этому времени он уже стольник тушинского двора Лжедмитрия II. На рубеже февраля-марта 1609-го Просовецкий был назначен воеводой Луха, а в начале апреля того же года - вторым воеводой Суздаля. Вместе с первым воеводой, Ф. К. Плещеевым, польскими ротмистрами и А. Лисовским он активно участвовал в боях с лоялистами и в июле? 1609 года, после отзыва Плещеева, стал уже первым воеводой Суздаля. Правой рукой его с этого времени выступает брат Иван, тоже тушинский стольник.
Вместе с Лисовским Просовецкий удерживал Суздаль до весны 1610 года, находясь к этому времени уже в полном окружении. Весной 1610 года Просовецки и Лисовский вынуждены были покинуть Суздаль и разорив Троицкий монастырь в Калязине [и Ростов] ушли в район Пскова-Ивангорода. Здесь они какое-то время воевали со шведами в союзе с псковичами, но вскоре рассорились друг с другом - Лисовский присягнул Владиславу, Просовецкий остался на стороне Вора.
После серии вооруженных столкновений с отрядами Лисовского Просовецкий ушел из под Пскова и в начале 1611 года, по одной версии, помог присягнувшему Владиславу Г. Валуеву разорить Великие Луки, по другой - напротив, сражался с этим самым Валуевым. Так или иначе, к февралю 1611 года Просовецкий был уже под Суздалем и 7 февраля вновь захватил город.
Здесь он сделался одним из главных организаторов Первого ополчения и в конце марта 1611 года с отрядами ополчения был уже под Москвой. Суздаль при этом фактически оставался вотчиной Просовецких и летом 1611 года атаман вел здесь бои с отрядами гетмана Сапеги, пытавшегося захватить верхневолжские города.
В начале декабря Просовецкий руководил неудачным штурмом Китай-города и после его провала ушел из под столицы в Суздаль, где вновь сражался с польскими отрядами.
В феврале 1612 года Просовецкий по приказу Заруцкого пытался захватить Ярославль, чтобы не пустить в него отряды Второго ополчения, но опоздал и вскоре вынужден был оставить и Суздаль, перешедший на сторону Пожарского и Минина и ушел к Москве.
В марте 1612 года Просовецкий вместе с Трубецким и Заруцким присягнул псковскому вору Сидорке (Лжедмитрию III). Далее в его биографии огромная черная дыра - свидетельств его участия во Втором ополчении и пр. не имеется, сам Просовецкий вместе с братом в источниках вновь появляется лишь в октябре 1619 года - вместе с братом Иваном его указано сослать в Великий Устюг. В 1621 году Просовецкие переводятся из Устюга на Соловки, а в 1623 году - в Томск.
В Томске Просовецкий видимо нес какие-то службы - в 1634 году возглавлял экспедицию против киргизов, вскоре после которой был возвращен в Москву.
В 1635/36 году он числится уже московским дворянином, с окладом в 700 четей и 40 рублей. В 1636 - 1638 годах - воевода в Чаронде. В 1639 году - голова сборной сотни тверичей, можаичей, новоторжцев и пр. в Туле в полку кн. Д. М. Черкасского. В 1646 году назначен воеводой Козьмодемьянска. В 1653 году от службы отставлен, умер в 1656/57 году. Своих детей он видимо не имел, падчерицы выданы замуж за И. А. Философова и кн. И. Б. Вяземского.
Григорий Никитич Орлов
скрытый текст
Относительно происхождения Григория Орлова имеются разные мнения, автор очерка (Рабинович) считает что он принадлежал к древнейшему из двух родов Орловых (выводившему себя от немца, выехавшего к вел. кн. Василию I и позднее числившемуся по Московской губернии, другой род Орловых, прославившийся при Екатерине II, был новгородского происхождения).
В источниках Григорий Орлов впервые появляется в августе 1611 года - по его челобитной правительство Владислава (фактически - московский комендант А. Гонсевский) передало Орлову поместье кн. Д. М. Пожарского (село Ландех). В следующий раз Орлов «отличился» ровно через год - в августе 1612-го провел к осажденным в Кремле полякам обоз с продовольствием и 500 или 600 гайдуков от гетмана Ходкевича.
Позднее Орлов оказывается на московской службе, однако особым доверием правительства видимо не пользуется. В 1614 - 1618 году он был вторым воеводой в далеком Пелыме. В 1625 - 1626 годах упоминается на дворцовых службах. В 1626 - 1630 годах был воеводой левобережного Саратова, где отличился в боях с ногаями и воровскими казаками, получив прибавки к окладам (200 четей и 40 рублей), шубу (почти 90 рублей) и кубок.
В 1631 году был послан с кн. И. М. Барятинским на Дон - оберегать от казаков едущего в Москву турецкого посла.
В 1632 - 1635 году Орлов был воеводой в отдаленной Мангазее. В 1637/38 году служил в большом полку в Туле, в 1639 году охранял засеки в Тульском уезде. В 1639 - 1641(42?) годах снова был воеводой в Саратове.
Осенью 1642 года служил приставом при колодниках Челобитного приказа. В1649/50 году отставлен, в боярском списке 1656/57 года помечен умершим.
Сын Г. Орлова Федор в боярском списке 1643/44 года записан стряпчим. Его дочь и наследница Прасковья вышла замуж за одного из Татищевых и приходилась по мужу родной теткой знаменитому Василию Никитичу Татищеву.
Ранний чин Орлова неясен (жилец?), поместный оклад на 1611 год (по его же челобитной) - 500 четей. Братья его были видимо жильцами, поместья и вотчины семьи располагались в Дмитровском уезде.
В боярском списке 1624 года Г. Орлов записан московским дворянином, с окладом в 700 четей и 40 рублей, за первую саратовскую службу к ним добавлено 200 четей и 40 рублей.
Атаманы Василий Хромой, Макар Козлов, Афанасий Коломна
скрытый текст
Все трое известны лишь со времени Первого ополчения.
Василий Савельев, по кличке Хромой, вместе со многими другими казацкими атаманами, после присяги Заруцкого и Трубецкого Псковскому вору оставил подмосковные таборы и в июне 1612 года прибыл в Ярославль, примкнув ко Второму ополчению. В составе ополчения он бился при освобождении Москвы, осенью 1613 года в составе отряда А. Ф. Палицына действовал протв шведов под Старой Руссой, в 1615 году вместе с кн. Д. М. Пожарским ходил против Лисовского. Дальнейшая его судьба неизвестна.
В Первом ополчении он был верстан поместным и денежным окладом (500 четей и 15 рублей) и (единственным из казаков) получил поместье (200 четей) в Лухском уезде. Правительство Второго ополчения это поместье у атамана забрало, пустив в раздачу смолянам. Вместо поместья Хромому был назначен оклад из Владимирской чети - 12 рублей и 20 четей хлеба. В 1613 году Хромой был верстан городовым сыном боярским по Владимиру, с окладом в 500 четей.
Афанасий Коломна до Смуты был посадским человеком Кожевенной слободы Коломны (откуда и
За очищение Москвы был верстан поместным и денежным кладом (650 четей и 25 рублей), фактически получив в Суздальском уезде сильно разоренное поместье в 115 четей с осьминою (в живущем всего 12 четей с осьминою - 3 крестьянских двора). В марте 1615 года за новгородскую, бронницкую службу и за ранение получил единовременно 9 рублей и придачу к окладу в 5 рублей. За московское осадное сиденье поместный атаман получил право перевести часть поместья в вотчину (на 1625 год имел вотчину в 45 четей).
Его младший брат с матерью продолжали жить в Коломне - от Второго ополчения атаман получил на их двор обельную грамоту (подтверждалась Объединенным ополчением и Михаилом Федоровичем).
Макар (Алексеевич) Козлов, вместе с Коломной поддержал отряды Второго ополчения в ходе боя с Ходкевичем. Летом - осенью 1613 года участвовал в боях под Тихвиным, позднее был с кн. Трубецким в новгородском походе. Помимо боевых подвигов (в мае 1614 года семерым казакам дано английское сукно за взятие языков под Новгородом) станица Козлова отличилась грабежами, ограбив обоз Кирилло-Белозерского монастыря, вотчины кн. Ф. И. Мстиславского и Марфы Нагой и в октябре 1614-го атаман на какое-то время сел в тюрьму.
Летом 1618 года он посылался к мятежным вольным казакам в Каширский и Тульский уезды, с целью вернуть их на царскую службу, но не преуспел. В сентябре был со станицей в войске Г. Волконского на Оке, позднее оборонял от войск Владислава московский Симонов монастырь.
За очищение Москвы Козлов был пожалован поместьями в Лухском и Щацком уездах, еще одно поместье в Лухе (32 чети) получил в 1620/21 году. За московское осадное сидеье часть поместий была перевена в вотчины (в Лухе - 37 четей). Вотчины атамана наследовал его сын Василий.

* * *
Местнические конфликты в эпохи войн и смут конца XV - XVII веков
Работа посвящена в основном местничеству на военной службе. Книга весьма интересная, но, к сожалению, текст видимо вообще не вычитывали и он имеет массу разнообразных дефектов.
скрытый текстВторая половина XV - первая половина XVI века
скрытый текст
Сообщений о местничестве в этот период относительно немного и они часто малодостоверны.
Местничество предполагают, например, в походе на Казань 1469 года, однако автор (со ссылкой на Ю. Г. Алексеева) эти предположения не считает убедительными.
Более похожа на местничество, по мнению автора, история со взятием шведами Ивангорода в августе 1496 года - стоявшие недалеко от крепости с войсками воеводы кн. И. Брюхо Пужбольский и кн. И. Гундоров по каким-то причинам не пришли на помощь ивангородскому воеводе кн. Ю. Бабичу (не желали идти в сход?).
Известен эпизод случившийся перед битвой на Ведроши в июле 1500 года - Юрий Захарьич, назначенный первым воеводой сторожевого полка, писал Ивану III, что не желает «стеречь» кн. Д. В. Щеню (бывшего фактическим главнокомандующим), однако боярина уговорили и в битве его полк сыграл важнейшую роль. В литературе нет единого мнения относительно этого конфликта - можно ли его считать именно местническим.
Разгрому русской армии в битве под Оршей<, в сентябре 1514 года, видимо способствовал конфликт воевод - первого воеводы большого полка И. А. Челяднина и первого воеводы полка правой руки кн. М. И. Булгакова-Голицы.
В походе на Казань весной 1530 года командовавшие войсками князья М. Л. Глинский и И. Ф. Бельский, по сообщению «Казанской истории» заместничали, споря кому первым въезжать в уже оставленный было врагом город и были разбиты пришедшими в себя татарами (за что были отправлены в тюрьму). Однако, как отмечает автор, в разрядах это местничество не отмечено, не придал ему значения и М. Г. Худяков.
В декабре 1544 года, при нападении крымского калги Эмир-Гирея на Белевский и Одоевский уезды, воеводы князя П. М. Щенятев, М. И. Воротынский и К. И. Курлятев, по сообщению «Царственной книги» (в разрядах местничества нет), «распрелись о местах» и калга ушел безнаказанным, взяв большой полон.
Местничества вероятно способствовали неудаче двух походов на Казань в 1547 году - в феврале первый воевода полка правой руки кн. И. В. Пенков бил челом на первого воеводу большого полка боярина кн. А. Б. Горбатого-Шуйского (и получил невместную грамоту), в декабре местничали уже несколько воевод.
Местничествами сопровождались и неудачные походы на Казань в 1549 - 1550 годах.
Любопытный случай имел место летом 1554 года - в плавной рати отправленной на Астрахань первым воеводой сторожевого полка был рязанский дворянин С. Г. Сидоров, а вторым кн. А. Г. Булгак Барятинский. Князь бил челом на первого воеводу, однако правительство фактически предпочло встать на сторону опытного ветерана и указало воеводам быть без мест.
Вторая половина XVI века
скрытый текст
Местничества второй половины XVI века автор делит на две большие группы - на «берегу» (против Крыма) и в Ливонской войне / войнах со шведами.
«Берег»
Посланные летом 1562 года преследовать отходившего от Мценска Девлет-Гирея князья А. И. и М. И. Воротынские хана не догнали. Примерно в то же время боярин кн. И. И. Турунтай-Пронский донес, что А. И. Воротынский заместничал с ним и сказавшись болен, саботировал царский наказ о преследовании хана. Возможно этот конфликт и помешал преследованию Девлет-Гирея. Оба брата Воротынских попали в опалу, А. И. Воротынский вскоре постригся.
В октябре 1565 года при набеге крымцев под Болховым заместничали земские воеводы - кн. И. А. Шуйский (первый в левой руке) бил челом на князей П. М. Щенятева и И. И. Турунтая Пронского (первые в передовом и сторожевом полках)*. Против крымцев пришлось отправлять опричное войско.
Весной 1569 году второй воевода плавной рати посылаемой против османов в Астрахань З. И. Сабуров дважды бил челом на первого воеводу - кн. П. С. Серебряного и добился невместной грамоты.
В том же году в Калуге сцепились опричные воеводы кн. А. П. Телятевский и Ф. А. Басманов, конфликт был прерван смертью Телятевского (по одной из версий - тайно устраненного Басмановым).
Весной 1571 года, еще до прихода Девлет-Гирея, в собравшейся у Коломны армии второй воевода передового полка кн. П. И. Татев бил челом на М. Я. Морозова (второй в большом) и получил невместную грамоту.
Весной (вероятно во время смотра армии в апреле у Коломны) 1572 года произошла целая серия местничеств - кн. Н. Р. Одоевский (первый в правой руке) бил челом на кн. М. И. Воротынского (первый в большом), кн. И. П. Шуйский (первый в сторожевом) на Одоевского, кн. А. В. Репнин (первый в левой руке) - на кн. А. П. Хованского (первый в передовом). Записано было только челобитье Шуйского, остальные оставлены без внимания. Возможно в какой-то форме было объявлено безместие, в любом случае, последствий эти столкновения не имели.
Позднее - в разрядах осени 1572 и 1573 и 1574 годов на «берегу» объявлялось безместие.
В апреле 1573 года, при составлении берегового разряда, на первого воеводу большого полка кн. М. И. Воротынского бил челом кн. В. Ю. Булгаков-Голицын (первый в сторожевом), через три месяца получивший невместную грамоту (с этого началась вторая опала победителя при Молодях, вскоре закончившаяся его смертью).
В 1576 году, в армии собравшейся в Коломне для большого похода против крымцев, произошло сразу девять местничеств - били друг на друга все основные воеводы (включая даже воевод у наряда). В результате было объявлено безместие, с обещанием дать счет после службы, однако из-за внешнеполитических изменений (избрания Батория королем Польши) поход был отменен.
В 1586 году, для отражения крупного набега ногаев Малой орды, на Мещеру было послано вспомогательное войско кн. Д. И. Хворостинина. При необходимости ему предписывалось идти в сход с основной армией. Второй воевода Хворостинина кн. А. И. Дашков бил челом на вторых воевод других разрядов - основной армии (кн. С. Г. Звенигородский) и тульского разряда (кн. Жировой-Засекин). Дашкову разъяснили что ему «нет дела» до других разрядов. Тогда же на кн. Д. И. Хворостинина бил челом кн. В. И. Бахтеяров-Ростовский (воевода Ряжска?) - челобитная записана.
Весной 1587 года при большом набеге татар было объявлено безместие, что не помешало воеводам разряда сцепиться друг с другом (7 местничеств), дав татарам успешно отойти.
В 1591 году, при приходе к Москве хана Казы-Гирея, было объявлено безместие, однако главнокомандующий (первый воевода большого полка) кн. Ф. М. Мстиславский в июле получил «грамоту с опалою» - за то что осмелился «выпустить» имя царского шурина (и своего второго воеводы) Б. Ф. Годунова в ответных грамотах царю (царские грамоты адресовались им обоим).
Весной 1592 года, при большом набеге татар на рязанские, тульские и пр. места воеводы опоздали выйти в поле, массово сцепившись друг с другом - между 2 и 29 апреля произошло 12 местничеств, местничали едва ли не все воеводы. Основные силы крымцев с набранным огромным полоном начали отходить 19 мая, а воеводы выступили в погоню лишь 1 июня и с крымцами «разошлися».
* У Зимина и пр. это конфликт ошибочно описан как местничество И. В. Шереметева Меньшого с кн. П. М. Щенятевым
Ливонская война и Швеция
На ход шведской войны 1554 - 1557 годов местничества никак не повлияли, хотя известны два эпизода - в декабре 1555-го З. И. Очин-Плещеев (первый в левой руке) бил челом на первых в правой руке и сторожевом полку - С. В. Шереметева и кн. Д. С. Кнута-Шестунова и списков не взял, однако подчинился под угрозой опалы. Позднее, оставленный в Кореле вторым воеводой кн. И. И. Буйносов-Ростовский бил челом на первого воеводу кн. И. И. Слизнева Елецкого, но был сразу же наказан - выдан ответчику головой.
В Ливонии первые неудачи связанные с местничеством отмечаются осенью 1559 года. Первый воевода сторожевого полка З. И. Очин-Плещеев заместничал со вторым воеводой большого З. И. Сабуровым в Изборске. Воеводы получили указ о безместии, возможно запоздавший - оба были разбиты немцами.
В августе 1559 года после взятия Феллина первым воеводой города был назначен полуопальный А. Ф. Адашев. На него бил челом назначенный вторым воеводой О. В. Полев, Адашева перевели вторым воеводой в Дерпт, где он вскоре умер при невыясненных обстоятельствах, а Полев получил место Адашева.
Весной 1561 года заместничало сразу несколько воевод армии собравшейся во Пскове, однако видимых последствий конфликт не имел.
В конце лета-осенью 1561 года заместничали воеводы посланные из Дерпта отбивать занятый литвой Тарваст, однако правительство ходу искам не дало. Покинутый литвой Тарваст был занят, однако удерживать и укреплять его воеводы не стали. Правительство, впрочем, посчитало видимо поход успешным - воеводам были посланы золотые, раздача которых вызвала новый конфликт, снова пресеченный правтельством.
В Полоцком походе зимой 1563-го бывший фактически пятым воеводой передового полка (после служилых царевичей Тохтамыша и Ибака, кн. М. В. Глинского и И. В. Большого Шереметева) боярин А. Д. Басманов видимо местничал с последним - после похода получил на Шереметева правую невместную грамоту. В том же походе его юный сын Федор (рында у третьего саадака) выиграл дело у другого рынды.
В начале 1564 года (Ула и пр.) местничеств не зафикировано. Весной 1564-го князьям И. Ф. Мстиславскому и И. Д. Бельскому (командующим армиями собиравшимися у Великих Лук и Вязьмы) был послан указ о безместии. Заместничавшему в июле того же года с кн. И. И. Турунтаем-Пронским кн. А. И. Воротынскому было отказано*.
В 1569 году, во время похода на Изборск, местничество опричных воевод, первого - З. И. Очина-Плещеева и второго - В. И. Умного-Колычева, было пресечено указом о безместии. Аналогичный указ был послан воеводам армии собиравшейся в Смоленске.
Затяжной местнический конфликт имел место при второй осаде Ревеля (ноябрь - декабрь 1576 года). Местичало сразу 6 воевод - кн. Ф. И. Лыков (второй в сторожевом) бил челом на второго в большом И. В. Меньшого Шереметева (по одной версии челобитье записано и обещан счет после похода, по другой - Лыков должность не принял и служил в строю, дело не вершено из-за гибели Шереметева в бою); кн. Г. А. Булгаков-Куракин (первый в сторожевом) бил челом «на своих племянников» князей И. Ю. и В. Ю. Голицыных (первые в правой руке и передовом), но получил отказ; кн. А. Д. Палецкий (второй в левой руке) бил челом сразу на трех воевод - кн. П. И. Хворостинина, кн. Ф. И. Лыкова и Ф. В. Шереметева (вторых в передовом, сторожевом и большом). Ссоры воевод видимо способствовали неудаче осады.
В большом ливонском походе 1577 года известны несколько местничеств. В июле третий воевода передового полка М. А. Безнин бил челом на вторых воевод передового и большого полков - О. М. Пушкина и кн. М. В. Троекурова и получил безместную грамоту. Посланные в августе брать Кукенос воеводы заместничали после взятия города - второй воевода Д. Б. Салтыков бил на первого - кн. П. И. Татева и получил невместную память.
Тяжелые последствия имело местничество при осаде Кеси (Вендена) летом 1578 года. В конфликт были втянуты едва ли не все воеводы. Сначала кн. М. В. Тюфякин (назначенным вторым в сторожевой) бил челом на своего первого воеводу - кн. Д. И. Хворостинина (победителя при Молодях). Хворостинин был отозван в Москву (что возможно сохранило ему жизнь, но лишило армию способного воеводы), а Тюфякина назначили третьим воеводой большого полка. Не успокоившийся Тюфякин снова бил челом - на вторых воевод передового и сторожевого полков кн. А. Д. Палецкого и кн. П. И. Хворостинина, однако на этот раз получил грамоту с опалою и приказ служить по росписи.
Следом за Тюфякиным заместничали и другие - кн. В. А. Сицкий (второй в большом) бил челом на первых воевод передового и сторожевого полков Ф. В. Шереметева и кн. П. И. Татева, Татев бил на Шереметева, а на Сицкого бил вышеуказанный Палецкий. Сицкому и Палецкому отказали, исход остальных дел неизвестен, однако в результате всего этого «воеводы замешкались и к Кеси не пошли».
Видимо в связи с этим в армию были отправлены царские эмиссары с чрезвычайными полномочиями - посольский дьяк Андрей Щелкалов и «из Слободы» дворянин Д. Б. Салтыков, которым было приказано «идти х Кеси и промышлять своим делом мимо воевод, а воеводам с ними».
21 октября русская армия была разгромлена под Кесью объединенным польско-шведским войском и бежала бросив осадный наряд. Князья В. А. Сицкий и М. В. Тюфякин были убиты, П. И. Татев и П. И. Хворостинин попали в плен.
В войске отправленном из Пскова на выручку осажденного Полоцка летом 1579 года кн. М. Ю. Лыков бил челом на Ф. В. Шереметева, однако оба воеводы попали под раздачу при взятии поляками Сокола - Лыков был убит, Шереметев - пленен и «суда у них не было». Ссоры между воеводами («люди были в розни») видимо способствовали успеху врага.
В новом войске, собранном в том же году во Пскове, воеводы снова местничали (в дело было втянуто 6 воевод), однако царь Иван реагировал, как пишет автор, «благодушно» - дачей невместных грамот и обещанием счета после службы.
Весной 1580 года, в Великих Луках, еще до осады их Баторием, третий воевода Ю. И. Аксаков бил челом на второго - кн. М. Ф. Кашина и четвертого - В. И. Бобрищева-Пушкина.
В войске кн. В. Д. Хилкова, действовавшего против поляков в том же году в районе Холма, также происходили местничества - первый воевода передового полка кн. М. В. Ноздроватый бил челом на самого Хилкова, а второй воевода передового кн. И. М. Барятинский - на Ноздроватого и В. В. Головина (первый в сторожевом). На этот раз правительство реагировало жестче - Ноздроватому ответили, что он «бредит» и грозили смертной казнью, если откажется служить, Барятинскому также приказали списки взять, грозя батогами.
В войске Симеона Бекбулатовича, стоявшем в Волоке Ламском, перессорились почти все воеводы (не менее 4 местничеств). Все эти конфликты видимо способствовали поражению кн. Хилкова под Луками в сентябре 1580 года и падению самого города.
В 1581 году, во Пскове, за несколько месяцев до начала осады, также имело место местническое столкновение - на Н. И. Очина-Плещеева (четвертого воеводу?) били челом Р. Д. Бутурлин и А. Е. Салтыков (пятый и шестой?), воеводы были «розведены» и обещан счет после службы. На обороне Пскова это видимо никак не отразилось.
В целом, как отмечает автор, «местническая составляющая неуспехов в этой войне была существенна, причем поразительно в целом благодушное отношение царя к этим тяжбам (с 1565 по 1579 гг. в по Ливонскому театру военных действий ни разу не объявлялось безместие в масштабе разряда)... Репрессивный в целом режим управления Ивана Грозного никак не отразился на местническом порядке, наказания за неподчинение не стали тяжелее, монарх охранял незыблемость самого института, на который не покушался и режим опричнины».
При царе Федоре число местничеств резко увеличилось - ввиду общего ослабления власти и сложного лавирования фактически управлявшего страной Годунова между аристократическими группировками. Только на шведском театре военных действий летом 1589 - летом 1592 года произошло 44 местничества.
Местничества не прекращались на протяжении всей русско-шведской войны 1590 - 1595 годов.
Воеводы массово заместничали уже летом - осенью 1589 года, при выдвижении войск к шведской границе, однако всем было указано быть по росписи, с обещанием счета после службы. После сосредоточения армии в Новгороде (январь 1590 года) местничества возобновились (8 тяжб), хотя не все они имели отношение к воеводским назначениям (ввиду личного присутствия государя местничали рынды).
Весной-летом 1591 года в Ивангороде местничали почти все воеводы (четверо из пяти), что никаких последствий, впрочем, не имело.
В том же 1591 году шведы разбили под Гдовом войско П. Н. Шереметьева и кн. В. Г. Долгорукого. Как отмечает автор, длительным скандалом сопровождалось уже назначение воевод этого отряда. Назначенный первым воеводой передового полка кн. В. Г. Барятинский бил челом на отца Шереметева и других воевод. За бесчестье Шереметевых князя указано было бить кнутом и выдать им головой, одако он продолжал упорствовать и был сначала посажен в тюрьму на три дня, а затем сослан в Сибирь.
Уже в ходе похода другой представитель этого рода, кн. Д. М. Барятинский (первый в сторожевом), бил челом на И. Г. Меньшого Волынского (второй в большом). Распри воевод видимо способствовали поражению - шведы разбили передовой полк кн. В. Г. Долгорукого (сам он попал в плен), стоявший вдалеке от сторожевого и большого - «Долгорукой от большово и сторожевова полку... отшел далече... и пособить было им некому и нельзя».
Зимняя кампания 1591 - 1592 годов также сопровождалась массовыми местничествами полковых и городовых воевод (снова отличились Барятинские - кн. Д. М. Барятинский, назначенный вторым в сторожевой, на службу не явился, однако судьбы родственника не разделил - об опале сведений нет), однако на ходе боевых действий это видимо никак не отразилось.
Отношение правительства к местникам по-прежнему оставалось весьма либеральным - при подготовке зимнего похода 1591 - 1592 года разряд трижды (в течении одного дня) переписывали в угоду спорящим и т. п.
* Выше тот же? эпизод отнесен автором к 1562 году и «берегу».
Смута
скрытый текст
Как отмечает автор, после Смуты Разрядный приказ, руководствуясь видимо неким негласным указом, отвергал все запросы местников относящиеся ко времени между низложением Федора Годунова и воцарением Михаила Романова (весна 1604 - лето 1613 годов) - «не сыскано», «разряды не писаны» и т. п., и практическое применение «случаев» эпохи Смуты позднее сделалось невозможным. Однако многочисленные свидетельства происходивших местничеств сохранились, хотя их достоверность нередко сомнительна.
На первом этапе Смуты (октябрь 1604 - май 1605-го), до падения Годуновых, в разрядах зафиксировано 12 местничеств в армии. Важнейшим из них было столкновение П. Ф. Басманова с кн. А. А. Телятевским [способствовавшее, как известно, переходу Басманова в стан врагов Годуновых. Однако в целом видимо исход местнических споров не определял позицию участников. Так, один из заговорщиков, П. Ф. Басманов, проиграл оба местнических спора (князьям А. А. Телятевскому и М. Ф. Кашину), а другой, М. Г. Салтыков, из четырех местнических столкновений проиграл одно, а три фактически выиграл].
Определенное значение имело также местничество случившееся еще до Смуты - известного в будущем деятеля романовского царствования кн. Б. М. Лыкова и будущего национального героя кн. Д. М. Пожарского. Помимо прочего кн. Б. М. Лыков обвинял кн. Пожарского и его мать в том, что они «доводили» на него царю Борису и царице Марии. Местническое дело не было «вершено», а надоедавшего ему жалобами кн. Б. М. Лыкова царь Борис выслал на воеводство в Белгород, который обиженный князь видимо сдал Самозванцу.
При Самозванце местничества продолжались. Первые столкновения видимо имели место уже на пути к Москве - кн. А. Г. Долгорукий бил челом на П. Ф. Басманова (оба были посланы в Орел, на встречу с делегацией Думы), а Н. М. Плещеев возможно бил на Г. Г. Пушкина (оба? посланы были бунтовать Москву против царя Федора).
Любопытно, что местничали и свергнутые Годуновы, разосланные «царем Дмитрием» по сибирским воеводствам. В январе 1606 года М. М. Годунов, назначенный воеводой в Тюмень, бил челом на однородца Н. В. Годунова, назначенного в Тобольск. Последнего перевели в Уфу, а на назначенного на его место в Тобольск кн. Р. Ф. Троекурова коллективно била челом уже вся годуновская родовая корпорация, добившись от Самозванца невместной грамоты.
При Василии Шуйском местничество резко активизировалось - в 1608 - 1610 годах известно 32 дела (18 в 1608-м, 10 в 1610-м и 4 в 1610-м). Активизации местников способствовали несколько факторов - общее восприятие аристократией нового царя как законного монарха (и, соответственно, арбитра), желание старинной знати, представителем которой был сам царь Василий, восстановить утерянные ранее позиции, слабость правительства, вынужденного мириться даже с явно неправомочными претензиями низкостатусных лиц.
Местничество (в немалой степени видимо отражавшее общую политическую «шатость» участвующих лиц) при царе Василии существенно влияло на ход боевых действий.
В июле 1606 года местничество М. М. Салтыкова и кн. Л. О. Щербатого (последний отказался видимо служить вторым воеводой сторожевого полка) способствовало вероятно поражению царской армии под Ельцом. В том же месяце конфликтовали орловский воевода кн. И. А. Хованский и ливенский М. Б. Шеин (будущий герой Смоленска), не желавшие идти в сход друг с другом - Шеин в результате был разбит под Ливнами.
В августе 1606 года запутанный конфликт в командовании другой царской армии (с участием князей Я. П. Барятинского, Б. М Лыкова, Г. П. Ромодановского и М. А. Нагого) привел к ее разгрому под Кромами.
В марте 1608 года кн. В. Ф. Литвинов-Мосальский (второй воевода сторожевого полка) бил челом на кн. Б. М. Лыкова (второй воевода большого) в армии под Болховым и был отозван. По мнению автора отсутствие этого опытного воеводы могло способствовать поражению царской армии под Болховым.
Возможно местничество повлияло и на ход битвы на Ходынском поле в июне 1608 года. Упомянутый выше кн. В. Ф. Литвинов-Мосальский (третий воевода большого полка) ранее бил челом на вторых воевод строжевого (окольничий Ф. В. Головин) и передового (кн. Г. П. Ромодановский). В ходе боя, по некоторым сообщениям передовой и сторожевой полки бежали, бросив большой на произвол судьбы. Последний был разбит и кн. В. Ф. Литвинов-Мосальский попал в плен к тушинцам (в августе 1608-го бежал из плена в Москву).
Падение Коломны летом 1608 года также было видимо связано с местничеством - воевода кн. А. Г. Долгорукий конфликтовал со вторым воеводой И. А. Момотом Колтовским и бежал, бросив в городе епископа Иосифа, известного противника воров.
В августе 1609 года очищавшая от воров Поволжье армия Ф. И. Шереметева соединилась у Владимира с подошедшим из Москвы отрядом В. И. Бутурлина. Воеводы соединенного войска немедленно разругались - на назначенного вторым воеводой Бутурлина бил челом второй воевода Шереметева - И. Д. Заец Плещеев, сам же Бутурлин ударил челом на Шереметева. Конфликт воевод привел к поражению войска под Суздалем.
В январе 1610 года сцепились посланные под тот же Суздаль князья Б. Лыков и Я. П. Барятинский - последний не пошел в сход к Лыкову и отбить Суздаль вновь не удалось.
Слабостью правительства, как уже отмечалось, пользовались относительно низкостатусные персонажи. Так, в июле 1607 года Ф. Ю. Булгаков-Денисьев (один из лидеров рязанской корпорации, в списках писался выше Г. Ф. Сунбулова и П. П. Ляпунова) перед сражением на р. Восме у Каширы местничал с кн. Б. М. Лыковым. В нормальной ситуации попытка местничать с куда более статусным вельможей дорого обошлась бы Булгакову, однако теперь правительство нуждалось в рязанцах (позднее исход сражения на Восме решила атака рязанцев под командованием того же Булгакова) и ему все сошло с рук (в челобитье ему не отказали - это считалось частичной победой).
В январе 1608 года, еще один рязанец, А. Н. Ржевский, бил челом на кн. М. Ф. Кашина, в компании которого руководил обороной Брянска от отрядов Вора - оставшись недоволен полученной наградой (утверждал что фактически обороной руководил именно он). Ржевскому отказали, но со ссылкой прежде всего на ранг оппонента («что он боярин»), а не на (несравнимо более высокую) «честность» рода.
В сентябре 1609 года письменный голова И. Г. Коробьин бил челом на кн. В. Ф. Литвинова-Мосальского и с князем, посланным встречать обоз с продовольствием на Коломенскую дорогу, «не пошел», что возможно способствовало разгрому отряда Литвинова-Мосальского. Коробьин не был наказан и даже видимо был «розведен» с князем (т. е. фактически выиграл).
Местничество воевод далеко не всегда вело к поражению. Так, летом 1608 года против взявшего Коломну Лисовского была выслана царская армия, почти все воеводы которой (Г. Г. Пушкин, В. И. Бутурлин, князья Б. М. Лыков, Г. К. и Ф. М. Волконские) немедленно заместничали. Сохранилось даже сообщение об отказе одного из них (В. И. Бутурлина) идти на помощь другим (передовому полку князей Б. М. Лыкова и Г. К. Волконского). Несмотря на все это Лисовский был наголову разбит у Медвежьего брода.
В октябре 1608 года к той же Коломне был выслан отряд кн. В. С. Прозоровского и В. Б. Сукина. Коломенские воеводы И. М. Сопля Бутурлин и С. Глебов должны были идти в сход к Прозоровскому. Бутурлин бил челом на последнего, однако получил из Москвы резкую отповедь и вынужден был подчиниться. Совместными усилиями воевод был разбит пришедший под Коломну отряд П. Хмелевского.
Местничеством сопровождалась и оборона Троице-Сергиева монастыря - изначально командовавший гарнизоном окольничий кн. Г. Б. Роща Долгорукий конфликтовал с пришедшим позднее и взявшим на себя руководство Д. В. Жеребовым (грамоты им посылались «порознь»). После снятия осады Долгорукий вроде бы даже бил челом на Жеребцова, но безответно.
Как отмечает автор, многие поражения войск Шуйского никак не были связаны с местническими конфликтами - Калуга (сентябрь 1606-го), Венев (февраль 1607-го), Пчельна (май 1607-го), Зарайск (апрель 1608-го), Рахманцево (сентярь 1608), Клушино (июнь 1610-го) и пр. и в целом не следует абсолютизировать этот фактор - возможно шляхетская и казацкая анархия создавали другой стороне не меньше проблем.
Безместие по военным поводам при Шуйском объявлялось дважды - во время осады болотниковцев в подмосковном Заборье (крупная победа царских войск) и в разряде обороны Москвы 1609 года. Помимо этого, без мест проходили и свадьба Шуйского (что, впрочем, не помешало ее участникам местничать - известно ок. 4 случаев, разряд свадьбы был по приказу царя сожжен) и его венчание на царство.
После свержения царя Василия местничества на какое-то время прекращаются - ввиду отсутствия государя или неясности его положения. Утвердившееся в литературе мнение о принятии Первым и Вторым ополчениями приговоров о безместии автор отвергает - соответстующих текстов не найдено.
С окончанием междуцарствия и появлением законного монарха институт местничества мгновенно возродился. Местничества происходили и при дворе и в армии и правительство, как и при царе Василии, часто вынуждено было идти на компромисс, отступая от сложившихся норм и закрывая глаза на своеволие различных лиц.
Местничества в армии возобновились еще до коронации царя Михаила (прибыл в столицу 2 мая, венчался на царство 11 июля 1613-го). Высланный в помощь Тихвину из Москвы И. Н. Сунбулов в июне (или июле) 1613-го заместничал со вторым воеводой Тихвина Л. А. Батраковым-Вельяминовым. Несмотря на заведомо более высокую «честность» Вельяминовых правительство уступило - Сунбулов был подчинен непосредственно первому воеводе кн. С. В. Прозоровскому. В другом отряде, направленном к Тихвину в начале июля 1613-го, второй воевода И. С. Погожий бил челом на первого - Ф. К. Смердова-Плещеева.
Ссорами воевод сопровождалась борьба с Заруцким - двигавшиеся из Мещовска и Мценска князья А. И. Хованский и И. А. Хворостинин действовали «порознь», шедший из Мценска кн. Т. Ю. Мещерский после подчинения рыльскому воеводе кн. Е. Ф. Елецкому бил на того челом (безответно).
Позднее вновь «отличились» посланные на помощь осажденному литвой Белеву [автор явно путает его с крепостью Белая] князья А. И. Хованский и И. А. Хворостинин - последний не пошел в сход к первому и писал в Москву, что Хованский от литвы бежал. Раздраженная Москва решила обоих воевод переменить, прислав новых.
В походе на Новгород кн. Д. Т. Трубецкого стряпчий Ф. И. Пушкин (посланный правительством собирать детей боярских во Владимир, дабы в дальнейшем вести их в Торжок к Трубецкому) бил челом на второго воеводу армии - кн. Д. И. Мезецкого (видимо не желая быть третьим или сходным воеводой) и был переподчинен одному Трубецкому.
Многими местничествами сопровождалась Смоленская кампания 1614 - 1617 годов.
В феврале 1614-го, в войске отправленном к Брянску и Кричеву, на второго воеводу П. И. Секирина бил челом голова О. Я. Пронищев (командовал казанскими татарами и новокрещенами). Правительство и здесь пошло на уступки - голова был подчинен одному первому воеводе - кн. А. М. Львову, несмотря на явно большую «честность» Секирина.
Посланный с подкреплениями в главную армию под Смоленском еще один представитель скандального рода - М. А. Пушкин, в феврале 1614-го бил челом на второго воеводу кн. И. Ф. Троекурова и также был подчинен одному первому воеводе - кн. Д. М. Черкасскому. Троекуров (двоюродный брат Михаила Федоровича) в ответ в марте бил челом «об оборони» и стал бойкотировать службу. Правительство не решилось четко встать на чью-либо сторону - Троекурову была послана выдержанная в примирительном тоне грамота с разъяснениями.
В дальнейшем, видимо во избежания похожих инцидентов, при посылке воевод к Смоленску их направляли к одному кн. Д. М. Черкасскому «с товарищи». Это однако не помогло - в ноябре 1614-го отправленный к Смоленску с припасами С. А. Ратман-Вельяминов бил челом на того же кн. И. Ф. Троекурова (однако ему приказали ехать, угрожая при отказе послать, сковав - Вельяминов подчинился).
В апреле-мае 1615 года тот же Ратман-Вельяминов (будучи уже воеводой у обоза) снова бил челом на Троекурова и вновь неудачно.
В июне 1615 года Черкасского и Троекурова под Смоленском сменили кн. И. А. Хованский и М. А. Вельяминов. Несмотря на смену командования иски на второго воеводу продолжали подаваться, самый скандальный случай имел место в январе 1616 года, после разгрома М. А. Вельяминовым польского отряда Томашевского. Отправленный к воеводам с золотыми и жалованным словом кн. С. Ф. Волконский бил челом на Вельяминова, прося чтобы ему велели поздравлять одного кн. Хованского, а Вельяминова «в наказе не велели писать». Вместо С. Ф. Волконского Москва решила послать его брата - кн. М. Ф. Волконского, однако тот подал аналогичный иск и правительство уступило - реального победителя поздравлять не стали (хотя и наградили позднее).
В октябре 1616 [у автора 1615-го] местничали уже сами воеводы смоленской армии [- к этому времени ей командовали М. М. Бутурлин и И. С. Погожий*]. Последний бил челом на первого воеводу, отправившего в Москву сеунч лишь от своего имени (делу не дали ход). [Конфликт между этими воеводами видимо ощутимо влиял на ход боевых действий**].
В украинном разряде, собранном весной 1615 года против Лисовского, также местничали воеводы - кн. С. В. Прозоровский (первый в передовом полку в Мценске) бил челом на первого воеводу большого полка в Туле кн. В. С. Куракина, а мценский воевода кн. Ю. И. Шаховской и Ф. И. Леонтьев (второй в сторожевом в Новосили) - на второго воеводу большого С. А. Ратмана-Вельяминова. Последний бил «об оборони». Всем местникам было указано быть по росписи и обещан счет после службы.
В этой же кампании пострадал очередной Барятинский - кн. М. П. Барятинский должен был идти из Волока Ламского в сход к кн. В. И. Туренину, шел он «мешкотно», возможно не желая помогать своему местнику Ф. И. Шереметеву, так или иначе, правительство заподозрило дурное - князь был отправлен в тюрьму.
Активно местничали воеводы и в «королевичев приход» 1617 - 1618 годов. Уже в июле 1617-го при назначении разряда против «прихода» Владислава вторые воеводы массово били челом на первых. Всем велели быть по росписи, однако в следующем большом разряде решено было писать в грамотах лишь первого воеводу большого полка «с товарищи» (своеобразная форма безместия) и эта практика позднее все более распространялась.
В июне? - августе 1617 года конфликтовали воеводы в Вязьме. На кн. Н. Н. Гагарина, второго воеводу посланного к Вязьме войска, били челом сначала третий воевода Я. Н. Дашков, затем воевода Вязьмы И. А. Колтовский - бояре приговорили и здесь писать грамоты первому воеводе (кн. П. И. Пронскому) «с товарищи». В октябре кн. П. И. Пронский и сменивший Колтовского кн. М. В. Белосельский опоздали на помощь Дорогобужу и (вместе с фактически бежавшим войском) отступили аж до Можайска (за что были отправлены в тюрьму).
В августе 1617 года посланный в Тулу для сбора служилых людей М. И. Лодыженский бил челом на второго воеводу Тулы Ю. В. Вердеревского, однако получив по морде (в буквальном смысле - думный дьяк Сыдавной Васильев бил его по щекам) поехал.
В октябре 1617-го, направленный из Мценска в сход к Калуге воевода передового полка Н. П. Лихачев, бил челом на второго воеводу большого полка - того же Ю. В. Вердеревского (обещан счет после службы).
В январе 1618 года посланные в Калугу И. П. Кологривов (с денежной казной) и Ю. В. Вердеревский (с тульскими дворянами) били челом на второго воеводу кн. А. Ф. Гагарина (обещан счет после службы).
В марте кн. Ф. А. Елецкий, посланный в Белую к кн. Ф. А. Хилкову с хлебными запасами, бил на последнего челом и вероятно был отставлен.
В мае, направленный вторым воеводой в Калугу И. А. Момот-Колтовский, бил челом на первого - кн. Д. М. Пожарского. Младший сын последнего, кн. Петр, бил челом за отца «об оборони» и Колтовского за бесчестье Пожарского отправили в тюрьму, а затем отослали в Калугу. Посланный к тому же Пожарскому с милостивым словом Ю. И. Татищев также бил челом, после отказа сбежал с церемонии отпуска, был найден, бит кнутом и отправлен в Калугу силой - для выдачи Пожарскому головой.
В июне, в войске направленном в помощь защищавшему Можайск кн. Б. М. Лыкову, третий воевода И. А. Момот-Колтовский бил челом на второго - кн. В. П. Ахамашукова-Черкасского, разряд был изменен и Колтовского назначили вторым воеводой к Лыкову. Здесь уже на Колтовского бил назначенный третим воеводой кн. Ф. И. Мерин-Волконский, в итоге обоих князей отставили.
После отступления русских войск к Москве 26 (или 27) июля 1618 года было объявлено безместие, в целом соблюдавшееся. За время обороны столицы известны лишь два случая местничества - посланный делать острог за Яузой боярин М. М. Годунов бил челом на другого боярина - кн. А. В. Лобанова-Ростовского назначенного надзирать за этой службой и был отправлен в тюрьму [второго случая автор не приводит].
Безместие видимо не распространялось на дипломатические, административные и церемониальные «посылки» - там местничать продолжали. Так, различные лица назначаемые / посылаемые к послам, ведущим мирные переговоры в Деулине (бояре Ф. И. Шереметев и кн. Д. И. Мезецкий, окольничий А. В. Измайлов) били челом на второго и третьего послов***.
* Погожие были свойственниками новой династии - Ульяна Семеновна Погожая, возможно сестра местника, была второй женой одного из братьев Романовых - умершего в 1601 году в ссылке Александра Никитича.
** [См. Смирнов Н.В. Очерки военной истории Смутного времени. Осада Смоленска 1613-1616 гг. [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. — 2015. — Специальный выпуск IV. Смоленские войны XV-XVII вв. — Ч. I.]
*** Как отмечает автор, выдвинувшийся в ходе Смуты рязанский дворянин А. В. Измайлов был постоянной целью местников - между 1602 и 1632 годами он местничал 18 раз, причем лишь 6 раз выступал истцом.
Смоленская война
скрытый текст
Подготовка к войне с Польшей началась задолго до ее официального начала. Уже в июне 1631 года были назначены главные воеводы - бояре кн. Д. М. Черкасский и кн. Б. М. Лыков. Назначение сразу же обернулось проблемами - кн.Б. М. Лыков о невместнсти челом не бил, но устроил публичный скандал шурину - патриарху Филарету, наговорив ему дерзостей прямо в соборной церкви. Приняв назначение, фактически князь видимо службу саботировал и в подготовке армии участия почти не принимал. Кн. Д. М. Черкасский пожаловался на коллегу лишь после объявления войны - в конце апреля 1632 года, причем жаловался именно на саботаж, а не на челобитье. Дело разбиралось около месяца - Лыков в итоге был оштрафован на огромную сумму - 1200 руб. Обоих воевод уже 23 апреля отставили, назначив вместо них бояр М. Б. Шеина и кн. Д. М. Пожарского.
Новые назначения дела не улучшили - М. Б. Шеин скандалил в Думе, кичась своими сомнительными подвигами, (неясно носили ли эти споры местнический характер), что позднее дорого ему обошлось. Пожарский на момент назначения был нездоров (неясно, на самом деле или не хотел служить с Шеиным, не ожидая от него ничего хорошего) и вскоре окончательно отказался от службы (отставлен 4 июня) и был заменен окольничим А. Б. Измайловым.
Еще при назначении Пожарского, 23 апреля, на него бил челом В. В. Волынский, поставленный на особо важный пост - «у немецких людей у раздачи жалованья» и «у немецкого суда». Его переподчинили первому воеводе Шеину. После назначения Измайлова Волынский бил и на него, его снова переподчинили Шеину, однако закусивший удила Волынский видимо не желал теперь служить и с ним, сначала прикидывался больным, затем просто не являлся на службу (и службы соответственно не нес), наконец, 15 августа его велено было сослать в Казань как колодника, ни на какие службы не назначать, а имения отписать на государя (после этой истории полностью сошел со сцены).
Местничали и менее значительные персонажи - назначенный 28 января 1632 года собирать корма пришедшим к Москве «немецким людям» (наемным частям) И. Ф. Нелюбов-Огарев бил челом на своего коллегу - Г. А. Загряжского, но получил отказ. Загряжский, в свою очередь, 9 августа бил на второго воеводу А. Б. Измайлова - ему отказали, грозя тюрьмой. Однако Загряжский «у кормов сидеть не почал» и по жалобе Измайлова был таки отправлен в тюрьму.
На отправленого к Шеину с полковыми пушками («100 пищалей коротких немецкого литья») московского дворянина И. Н. Арбузова 30 августа в Можайске били челом приданные ему головы трех стрелецких сотен (московский дворянин и двое выборных), требуя переподчинения Шеину и Измайлову - иск удовлетворили.
Местничали и городовые корпорации. Еще в декабре 1631 года при разборе в Туле каширяне из захудалого рода князей Мещерских не явились на разбор к окольничему Г. К. Волконскому, отказавшись быть в окладчиках и не взяв жалованья. Другие каширяне, Лихаревы, также отказались быть в окладчиках и били челом на Волконского. Первый случай не разбирался, дело Лихаревых замяли, не ответив.
В августе 1632 года в Ржеве Володимеровой городовые дворяне били челом на одного из разборщиков - И. Г. Кондырева, Разряд опять промолчал - правительство явно не желало ссориться с городовыми корпорациями.
3 ноября 1632 года правительство наконец решилось издать указ о безместии (позднее подтвержденный Земским собором), на другие разряды не распространявшийся (на «берегу» продолжали местничать).
Указ не вполне соблюдался - в декабре, после взятия Белой, назначенный вторым воеводой передового полка кн. М. В. Белосельский бил челом на А. В. Измайлова (челобитье оставили без внимания).
В июне 1633 года на высланного в Стародуб-Северский с подкреплением из московских чинов и мобилизованных дворцовых служителей Г. А. Алябьева (совсем худородного) били московские чины, отказавшись ему подчиняться - их переподчинили бывшему в Стародубе Ф. М. Бутурлину.
Осенью 1633 года, в связи с приходом под Смоленск короля Владислава, в Можайске начала собираться еще одна армия, во главе которой поставили бояр кн. Д. М. Черкасского и кн. Д. М. Пожарского. В Ржеву и Калугу для сбора войск были посланы кн. Н. И. Одоевский и кн. Ф. С. Куракин. Собрав войска они должны были идти в сход к кн. Черкасскому. В октябре оба били на кн. Черкасского челом (от службы не отказывались, но просили записать челобитье, на случай будущих проблем - намекали, что Черкасский выше их только как царский родственник), тот бил в ответ «об оборони». Несмотря на действовавший вроде бы указ о безместии дело разбиралось боярами месяц, 18 ноября оба истца были отправлены в тюрьму (обоих не доведя до тюрьмы простили).
В декабре уже второй воевода Одоевского, кн. И. Ф. Шаховской, бил челом на Пожарского, тот бил «об оборони». Вопрос снова рассматривался боярами - Шаховского послали в тюрьму на день.
В целом, как отмечает автор, местнические конфликты в ходе этой войны приводили к значительным потерям времени и тем самым способствовали провалу и так шедшей ни шатко, ни валко кампании. Нерешительность в части реализации указа о безместии, попытки замять конфликты и пр., как полагает автор, были связаны с ослаблением политической воли руководства, а возможно были результатом противодействия политическому курсу Филарета, главного инициатора войны.
«Берег» в XVII веке
скрытый текст
Под «берегом» здесь подразумеваются все службы по защите южной границы между 1622 и 1680 годами.
[После окончания Смуты службы по защите южной границы вновь стали регулярными. Назначалось теперь два полковых разряда - большой «украинный» Тульский (Тула, Мценск, Крапивна, Дедилов и пр.) и Рязанский (Рязань, Пронск, Михайлов)]. Рязанский был более молодым и менее почетным, что порождало конфликты между воеводами двух разрядов. Воеводы обоих разрядов регулярно местничали при назначении («у скаски»), в ходе самой службы конфликтов было относительно немного.
Нападения татар, после некоторой паузы, начиная с 1622 года возобновились, [однако до Смоленской войны носили характер частной инициативы отдельных крымцев, ногаев и азовских татар, масштаб их был относительно невелик]*.
В марте 1622 года кн. С. Г. Гагарин, назначенный в передовой полк в Дедилове, бил челом на кн. В. П. Щербатого (первый в большом), но получил жесткий отказ. В Рязанском разряде Д. П. Беклемишев (второй в большом) бил челом сначала на своего первого воеводу И. Н. Сабурова, а затем на первого в передовом В. П. Чевкина (отказано в обоих случаях). Позднее уже И. Н. Сабуров отказывался идти в сход с кн. В. П. Щербатым (Разряд пошел на компромисс, приказав послать в сход второго воеводу). Местничали и головы, пытаясь бить на того же Чевкина (приговорены к батогам и тюрьме). Набег ногаев и прочей сволочи в 1622 году оказался относительно успешным и воеводы «удостоились» специального выговора от государя [однако местничество никак видимо на результате не сказалось].
В марте 1623 года, при назначении разряда, первый воевода сторожевого полка Б. М. Нагой и второй воевода большого Б. И. Нащокин били челом на кн. В. Р. Барятинского (первый в передовом). Обоим отказали (из-за равенства постов) однако Нащокин упорствовал, не брал списков, был посажен в тюрьму на неделю и отправлен в Тулу силой, где продолжал саботировать службу (и попал в тюрьму еще на две недели). На делах Тульского разряда это видимо не отразилось.
В марте 1625 года при «сказке» заместничала большая группа воевод Рязанского разряда - вторые воеводы сторожевого и большого В. П. и У. С. Ляпуновы били челом на князей И. Ф. и Ф. Ф. Волконских (второй в большом и первый в сторожевом). [Так у автора. Судя по соответствующей разрядной книге В. П. Ляпунов был вторым воеводой тульского сторожевого, У. С. Ляпунов - вторым рязанского передового, И. Ф. Волконский вторым в рязанском большом, а Ф. Ф. Мерин-Волконский - первым в рязанском передовом, обоим Ляпуновым отказали]. И. Ф. Волконский после этого бил челом на первого воеводу рязанского разряда, кн. П. А. Репнина, [«по недружбе», как на родню Ляпуновых и был отставлен]. На ходе борьбы с татарами это не сказалось - Ф. Ф. Волконский и У. С. Ляпунов даже ходили вместе в успешный поход (после возвращения из которого Ульян Ляпунов, впрочем, в съезжую избу не пошел и свое имя в отписке писать не велел).
В марте 1626 года при «скаске» случилось сразу 9 конфликтов. Татарских набегов в этот год не было.
В марте 1627 года при «скаске» случилось 7 местничеств (с 12 участниками). Большинство споров было решено тут же, но некоторые продолжились после службы. Так, В. Н. Пушкин (первый в рязанском сторожевом) бил на А. О. Плещеева (первый в тульском сторожевом) - заявив, что в сход с последним ему идти невместно. Ему был обещан счет после службы (дан, дело не вершено). На службе у воевод конфликтов не было.
В январе 1631 года второй воевода Ельца И. Г. Скорняков-Писарев бил челом на назначенного первым И. Ф. Леонтьева (и был видимо отставлен). В апреле второй воевода рязанского большого полка В. П. Чевкин бил на второго в тульском большом И. И. Пушкина (отказано «с кручиною» - т. е. особым неудовольствием государя), упоминавшийся уже У. С. Ляпунов (второй воевода в полку в Михайлове) бил на В. Г. Ляпунова (второй в Рязани), своего двоюродного брата. На службе опять конфликтов не было.
В апреле 1632 года второй воевода тульского сторожевого И. П. Вердеревский бил челом на М. П. Крюкова и Б. Г. Пушкина (вторые в передовом и большом), подчинился под угрозой наказания, однако позднее опять скандалил - не брал списки в Крапивне и пр.
В марте 1633 года воеводы вновь массово местничали при «скаске» - 9 из 14 подали челобитья. На первого воеводу большого тульского полка кн. И. И. Ромодановского били челом его второй воевода С. С. Колтовский (видимо отставлен), первые воеводы рязанского большого С. И. Колтовский и тульского прибылого (Мценск) А. Г. Колтовский [так у автора, ниже первым воеводой рязанского большого назван кн. А. Г. Козловский] и т. д.
О конфликтах в ходе боевых действий сведений нет, но как считает автор «ситуация не могла сказаться на общем настрое и взаимоотношениях... воевод и вероятно косвенно повлияла на катастрофические результаты лета 1633 года».
После Смоленской войны отношения с Крымом вновь радикально ухудшились и правительство приступило к строительству новых городов на юге, а затем и к возведению Белгородской черты, постепенно сдвигая к югу линию обороны.
В апреле 1635 года массово местничали воеводы тульского и рязанского разрядов (в конфликте участвовало 6 воевод).
В марте 1636 года история повторилось, однако правительство быстро восстановило порядок, грозя местникам тюрьмой (второй воевода большого рязанского Н. И. Уваров был таки в нее посажен - за бесчестье И. А. Ржевского, второго в большом тульском) и большой татарский набег был успешно отбит.
В марте 1637 года воеводы тульского и рязанского разрядов снова местничали друг с другом, один из воевод тульского разряда, кн. А. И. Солнцев-Засекин, уже прибыв на службу (принудительно, под конвоем пристава) не взял списков и отправился в тюрьму (где сидел почти до самого конца службы).
В сентябре того же года заболевшего первого воеводу большого тульского полка кн. И. Н. Хованского заменили было И. Я. Вельяминовым. Однако московские чины (стряпчие, московские дворяне и жильцы) отказались подчиняться последнему, взбунтовав позднее и большую часть городовых дворян. К дворянам присоединились воеводы разряда - князья И. И. Лобанов-Ростовский (первый в сторожевом полку в Дедилове) и выбравшийся к этому времени из тюрьмы А. И. Солнцев-Засекин (первый в Крапивне). Деятельность разряда оказалась парализована и татары, прорвавшись у Яблонова, безнаказанно разгромили несколько уездов. Разряд фактически капитулировал перед бунтовщиками, прислав вместо Вельяминова кн. Ф. А. Телятевского.
Начиная с 1638 года в береговых разрядах ежегодно объявляется безместие [в другом месте автор пишет, что безместие на берегу объявлялось ежегодно с 1613 года]. Напор татар после 1637 года вновь ослабел, сведясь к отдельным нападениям по частной инициативе. До 1645 года случаев местничества почти не отмечено. Известны лишь мелкие конфликты городового дворянства со вторыми воеводами (в разряды не занесенные) летом 1642-го и весной 1645-го года.
Конфликты между воеводами возобновились в 1645 году. В сентябре первый воевода в Белгороде кн. Ф. А. Хилков просил оборонь на И. А. Милославского [место службы последнего автор не указывает] - тот не шел в сход с князем, игнорировал его приказы и пр., бесчестя, тем самым, истца.
В декабре 1645-го, при отражении большого татарского нападения, воеводы вновь конфликтовали - кн. Ф. А. Хилков по каким-то причинам не оказал помощи кн. С. Р. Пожарскому (местнической логики вроде бы не прослеживается), сам Хилков обвинял других воевод в нежелании помогать Пожарскому и т. д. Разряд в итоге наказал всех, кроме Хилкова (включая и отличившегося Пожарского) - воеводы были ненадолго отправлены в тюрьму.
Начиная с 1646 года полки выдвигаются уже на достраивавшуюся Белгородскую черту.
3 января 1646 года было объявлено безместие, однако при объявлении разряда 1 февраля А. Л. Плещеев (третий в большом) бил челом на князей Дмитрия и Семена Петровичей Львовых (вторые в большом и передовом). Несмотря на объявленое безместие воевод переставили - А. Л. Плещеев стал вторым в передовом, а С. П. Львов - третьим в большом. С. И. А. Ржевским (назначенным отвозить жалованье солдатским и драгунским полкам на черте и бившем на тех же Львовых) обошлись жестче - отправили в тюрьму на полгода.
Февральский разряд реализован не был и в июне 1646-го был назначен новый. Одновременно был издан очередной (уже третий в этом году) указ о безместии, однако конфликты (не записанные в разряды) продолжали происходить. В мае С. А. Измайлов из Корочи не пошел в сход к И. А. Милославскому (Яблонов) и последний был разбит татарами, от набега которых пострадало также несколько уездов.
В августе между назначенными в Оскол вторым воеводой Д. И. Плещеевым и В. Б. Шереметевым (первым воеводой) случилась «недружба» (Шереметев расценил ее как местничество и пожаловался в Разряд, Плещеев местничество отрицал) - Плещеева посадили в тюрьму на три дня, а затем заменили Г. Б. Нащокиным.
В сентябре кн. М. И. Щетинин (Карпов) бил челом на кн. Ф. И. Хилкова (сходный воевода к Белогороду), возможно отказав ему в подчинении - велено посадить в тюрьму.
В декабре 1646 года, в связи с большим нападением крымцев, был назначен новый разряд, вызвавший сразу несколько конфликтов - кн. Г. Д. Долгорукий (назначен в строжевой на Ельце) бил на кн. И. Ф. Лыкова (передовой в Курске), сам Лыков бил на кн. И. П. Пронского (большой полк) и т. д.
В Рязанском разряде в ноябре В. В. Бутурлин (должен был идти в сход к В. Б. Шереметеву, первому в передовом, на Елец) бил челом на последнего. Получив отказ Бутурлин поехал в полк, где возобновил челобитье, а к Шереметеву не пошел - ему вновь отказали, грозя «опалой и жестоким наказаньем».
В мае 1647 года, при назначении разряда, Ф. А. Лодыженский (осадный воевода в Ливнах) бил на А. В. Клепикова-Бутурлина (второй воевода там же?) - отправлен в тюрьму. Сам Клепиков-Бутурлин бил на второго воеводу в Ельце кн. Г. Д. Долгорукого - отправлен в тюрьму (за нарушение указа о безместии и бесчестье? князя). На Долгорукова бил также кн. Г. А. Козловский (сходный воевода в Переяславле-Рязанском) - отправлен в тюрьму. Позднее одоевский воевода кн. М. А. Кольцов-Мосальский бил на курского воеводу кн. И. Ф. Лыкова - челобитье проигнорировано.
В том же году имел место конфликт связанный со статусом целой служилой корпорации - назначенные в Ливны владимирцы (традиционно писавшиеся первыми во всех списках) в присланных грамотах были ошибочно записаны ниже украинных городов (первыми только среди замосковных). «Город» немедленно отреагировал и из Москвы пришлось спешно слать новые, исправленные, списки.
В 1648 году Т. Ф. Вороненок Бутурлин (должен был идти в сход с Белгорода к кн. А. И. Буйносову-Ростовскому) бил челом на последнего при объявлении разряда. В Москве его интересы представлял родственник, В. В. Бутурлин, которому удалось добиться рассмотрения дела, несмотря на объявленное безместие. По результатам рассмотрения сам В. В. Бутурлин был послан в тюрьму в Москве, а Т. Ф. Вороненок Бутурлин - в Ельце.
В мае 1649 года при назначении разряда было объявлено безместие, однако на первого воеводу кн. В. Б. Хилкова били челом А. Д. Плещеев (назначен в Венев) и А. О. Охотин-Плещеев [служба не указана] - обоих приказано выдать князю головой. На Хилкова бил и назначенный в Мценск кн. И. А. Жировой-Засекин [результат не указан].
В мае 1650 года на первого воеводу разряда кн. Б. А. Репнина бил челом второй, В. П. Головин - послан в тюрьму, затем снова просил отставки - выдан Репнину головой и послан служить.
После 1650 года, из-за отвлечения сил крымцев западнее, на юге долгое время было относительно спокойно и обстановка снова обострилась лишь к концу десятилетия.
В марте 1659 года В. Н. Лихарев (должен был идти из Козлова в сход к тамбовскому воеводе И. А. Полеву) бил челом на последнего. Разряд взялся было разбирать дело, но передумал и отправил Лихарева в тюрьму (на день).
В декабре 1661 года ссорились воеводы отправленные восстанавливать засеки Большой засечной черты - А. Д. Леонтьев, восстанавливавший Одоевскую, бил на кн. А. Ю. Звенигородского, посланного дозирать его работу (челобитье проигнорировано), а В. Я. Колтовский (Рязанская засека) - на посланного с той же целью Е. И. Сопленка Бутурлина. Последнее дело разбиралось и вызвало конфликт уже среди Бутурлиных - Сопленок, представлявший захудалую новгородскую ветвь рода, слался на «случаи» более знатной старшей ветви, что возмутило последнюю.
В июне 1664 года назначенный вторым воеводой в Белгород кн. С. И. Львов отказался сидеть в съезжей избе с первым воеводой кн. Б. Репниным до получения указа о безместии, последний пришел в сентябре и князь вернулся к службе.
В январе 1669 года снова (см. ниже) сцепились оставленные на черте после подавления мятежа Брюховецкого кн. П. И. Хованский и кн. А. И. Лобанов-Ростовский (первый и второй воевода Белгородского разряда?). Лобанов снова бил челом на Хованского - его отправили в тюрьму, однако князь упорствовал. Тем временем татары разорили несколько пограничных уездов, что видимо сказалось на суровости нового приговора - в июне 1669-го Лобанов-Ростовский был приговорен к смертной казни, тут же помилован «прошением царевичей» и сослан с женой в свои нижегородские поместья (прощен видимо не ранее января 1671 года). [Так в основном тексте. В приложении приводится разрядный документ из которого следует, что к смерти приговорили обоих князей, обоих же простили и разослали по их поместьям - Хованского в нижегородские, а Лобанова - в костромские].
Последнее местничество на «берегу» автор относит к лету-осени 1677 года. Стоявший в Мценске кн. П. И. Хованский в июле получил наказ идти в сход к командовавшему полком в Путивле кн. В. В. Голицыну и сноситься с Москвой через последнего. В сентябре? Голицын жаловался в Москву, что Хованский (успевший разбить татар у Нового Оскола) к нему о делах не пишет и тем бесчестит и просил записать челобитье в разряд. [Строго говоря, этот эпизод относится скорее к Чигиринским походам, но у автора он помещен в главе о «береге»].
В целом: «отношение правительства к конфликтам на «берегу» в XVII веке характеризуется... попытками жестко пресекать чреватые крупными неприятностями... местничества», а ввиду «важной роли служилых городов в обороне южных рубежей, видно стремление идти им навстречу в... столкновениях с присылаемыми из Москвы чинами Государева двора» и «строгом соблюдении их старшинства в официальных списках и при... дислокации на берегу».
* См. Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке.
Тринадцатилетняя война
скрытый текст
В самом начале войны - 3 октября 1653 года был издан указ о безместии, собственноручно заверенный (уникальный случай) лично царем Алексеем Михайловичем. Местничеств воевод в начале войны было очень мало и правительство жестко на них реагировало.
В июле 1654 года третий воевода армии В. П. Шереметева думный дворянин и ясельничий Ж. В. Кондырев бил челом «об оборони» - некий Богдан Булгаков (сотенный стрелецкий голова той же армии) позволил себе похваляться что ему «со Жданом быть не велено, а... с одним боярином Василием Петровичем Шереметевым». Кондыреву пошли навстречу и Булгаков отправился в тюрьму на день (но за бесчестье, а не за нарушение безместия).
В ноябре 1654 года, после взятия Смоленска, Б. И. Плещеев бил челом на однородца И. М. Плещеева, посланного собирать хлебные запасы в Смоленский уезд (т. е. не на воеводскую должность) - просил признать того меньше, во избежание возможных будущих проблем (челобитная записана в Разряде).
В мае 1655 года городовая корпорация Можайска жаловалась боярину кн. Н. И. Одоевскому на конфликт внутри «города» - усилиями родни молодежь из хороших семей в списках писали выше заслуженных ветеранов (исправлено).
В июне 1655 года, в ходе государева похода на Вильно, назначенный к воеводе кн. Ю. Н. Барятинскому (посланному «для языков») голова (со свияжскими татарами) М. И. Наумов бил челом на князя - как позднее утверждал - «по недружбе». Наумову не поверили, били батогами и отправили к Барятинскому (которому специально приказали «не мстить»), однако тот вновь не поехал и был примерно наказан - лишен поместий и вотчин и сослан в казачью службу на реке Лена.
Позднее в том же походе, назначенный сотенным головой к воеводе кн. А. И. Лобанову-Ростовскому князь Н. Я. Львов, бил у руки челом о невместности (от посылки не отказывался, но просил не писать в разряд), перечил царю, раскручинил государя и тоже был строго наказан - бит кнутом и назначен головой у донских казаков (судьбы Наумова избежал срочно покаявшись за свое поведение).
Первое воеводское местничество случилось в начале 1656 года - перемирие с поляками и начало новой войны со Швецией видимо дало местникам основания считать, что безместие закончилось.
В феврале 1656-го, назначенный вторым воеводой в армию в Полоцке, окольничий кн. Д. С. Велико-Гагин бил челом на первого воеводу, боярина кн. И. П. Рыбина-Пронского (оправдываясь тем, что служба «местная»). Государь велел указать, что безместие продолжает действовать, а кн. Велико-Гагина на три дня посадить в тюрьму и затем выдать Пронскому головой. Как отмечает автор, при заявленном безместии истца фактически наказали по местническим правилам. Это заметил и сам кн. Велико-Гагин и продолжил протестовать, за что, уже после выдачи головой, был снова отправлен на день в тюрьму, а затем понижен - назначен уже не вторым, а осадным воеводой в Полоцк.
В феврале 1657 года [в тексте - 1558-й] второй воевода собиравшейся в Минске армии окольничий М. С. Волынский бил в Москве «у сказки» о невместности на первого воеводу - боярина кн. Ю. А. Долгорукого. Об указе о безместии не вспомнили, но дело разбирать не стали, отправив Волынского на неделю в тюрьму.
В октябре 1657-го кн. Ю. А. Долгорукий разбил под Верками обоих литовских гетманов, взяв в плен В. Гонсевского, однако другой гетман - П. Сапега, ушел. Сам князь винил в этом великих послов*, не давших ему охранявший посольство отряд. Глава посольства, кн. Н. И. Одоевский «говорил» своему товарищу, боярину В. П. Шереметеву, чтобы тот отдал соответствующий приказ, однако командовавшие посольским отрядом стольники кн. Ф. Н. Барятинский и Ф. И. и А. Д. Плещеевы заявили, что им в сход к Долгорукому идти невместно. По возвращении в Москву стольники были наказаны, но видимо лишь за бесчестье кн. Долгорукого.
Вероятно некий местнический конфликт имелся между кн. Г. С. Куракиным служившим полковым воеводой в Новгороде в феврале 1657 - сентябре 1658 года и тамошним осадным воеводой кн. А. М. Солнцевым-Засекиным - в сентябре 1658 года Алексей Михайлович в личной беседе предлагал Куракину «оборонь», однако тот отказался, заявив, что конфликт улажен.
В мае 1658 года приказной стрелецкий голова И. Д. Зубов бил челом на третьего воеводу Киева И. И. Чаадаева и был переподчинен первому воеводе - боярину В. Б. Шереметеву.
В августе 1658-го воевода Коротояка Т. У. Хрущов бил челом на второго воеводу Белгородского разряда Л. П. Ляпунова (которому был подчинен в отсутвии первого воеводы, кн. Г. Г. Ромодановского) и получил отказ из-за безместия. Примерно тогда же В. Н. Лихарев, оставленный «воеводой по вестям» в Козлове, бил уже на обоих воевод разряда - и Ляпунова и Ромодановского. В иске на Ляпунова ему отказали (безместие), а за челобитье на Ромодановского отправили на день в тюрьму (бесчестье).
В ноябре 1658 года сцепились воеводы армии собранной в Смоленске - кн. А. И. Лобанов-Ростовский и кн. Г. А. Козловский (инициатором конфликта был последний - не отдавал Лобанову знамя, хамил при встрече и пр.).. По жалобе Лобанова кн. Козловского указали на день отправить в тюрьму (4 декабря), однако последний также бил челом и сообщал о «недружбе» с первым воеводой. Дело разбирал уже сам государь в Тайном приказе и приговорил кн. Козловского к выдаче головой (15 декабря).
Ранее, в октябре того же года, посланный из Белой с рейтарами в Смоленск к тому же кн. Г. А. Козловскому, Л. В. Ляпунов [назначен третьим воеводой] бил на него челом (как на второго воеводу? просил переподчинения первому?). В ноябре уже на самого Ляпунова бил челом брат князя А. Аф. Козловский (об оборони?) и государь счел, что Ляпунову вместно быть с обоими воеводами [тут у автора неясно].
В декабре 1658-го Л. В. Ляпунов вновь бил на кн. Козловского, ему приказали быть по росписи, но обещали отставку после службы (14 января 1659-го). Этим оказался недоволен уже кн. Козловский, в марте 1659-го приславший в Разряд предыдущую, ноябрьскую грамоту.
Склоки между воеводами видимо не лучшим образом отражались на эффективности действий армии и в марте? 1659-го наиболее конфликтный** из воевод, кн. Козловский, был отозван вместе со своим полком и заменен соединением с другими воеводами (С. Д. Змеевым и кн. И. И. Касаткиным-Ростовским).
В октябре 1659 года [в тексте 1658-го], при осаде Старого Быхова, пятеро голов жилецких сотен и примкнувший к ним голова белян отказались идти в посылку со вторым воеводой С. Д. Змеевым и кн. Лобанов -Ростовский вынужден был переподчинить их однородцу - кн. Касаткину-Ростовскому.
В кампании против Выговского, в апреле 1659 года, боярин и главнокомандующий кн. А. Н. Трубецкой бил челом о бесчестье на кн. Ф. Ф. Куракина, пославшего (после взятия Сребного) в Москву сеунч в обход Трубецкого (через которого должен был сноситься со столицей). Близкому к государю князю пошли навстречу - Куракина было приказано отвести в тюрьму, не сажая.
В сражении у Конотопа (июнь-июль 1659-го) «явно выраженных местнических коллизий» автор не видит, однако действия Трубецкого находит странными, «похожими на нерасшифрованную интригу». Как отмечает автор неясно, «почему именно эти события позднее были представлены сторонниками отмены местничества как один из важнейших аргументов».
В июле 1660 года М. П. Щепин-Волынский, назначенный вторым воеводой в армию собиравшуюся в Смоленске (после разгрома Хованского при Полонке), сначала сказался больным, а затем у руки бил челом о невместности на первого воеводу, кн. Ю. А. Долгорукого. За бесчестье последнего его отправили в тюрьму на день, однако Волынский упорствовал, продолжая упирать на нездоровье и его отставили, но, дабы он не мог поставить это себе в находку, в разрядах велели писать, что на службе не был «за болезнью».
В сентябре? 1660-го с тем же кн. Ю. А. Долгоруким заместничал кн. К. О. Щербатый [у автора - «назначенный вторым воеводой», но непонятно куда - к Долгорукому или в Смоленск, ранее вторым воеводой у Долгорукого указан О. Сукин] - отправлен в тюрьму за бесчестье.
В октябре 1660 года за прибывшего с полком к Басе, на помощь кн. Долгорукому, М. Г. Ртищева бил в Москве челом его отец, постельничий Г. И. Ртищев (Ртищев-младший, как сходный воевода, оказывался ниже второго и третьего воевод Долгорукого и отец просил его уровнять, переподчинив первому воеводе) - челобитье удовлетворено.
В Чудновской катастрофе октября 1660 года местнические мотивы не прослеживаются, хотя и она позднее служила примером битв проигранных из-за местничества.
В Глуховской кампании 1664 года автор, напротив (вслед за А. Маркевичем), местнические мотивы обнаруживает - кн. Я. К. Черкасский из Брянска и кн. Г. С. Куракин из Путивля не шли в сход с кн. Г. Г. Ромодановским [что, как мы теперь знаем, не соответвует действительности - см. свежую работу И. Бабулина].
Ликвидация последствий мятежа Брюховецкого в 1668 году сопровождалась целым рядом местнических конфликтов.
В мае 1668-го кн. П. И. Хованский, назначенный вторым воеводой к кн. Г. С. Куракину в армию в Севске, сказался больным, а затем бил челом о невместности. Вместе с сыном в конфликте участвовал отец - кн. И. А. Хованский. Долгая свара в июне завершилась посадкой старшего Хованского в тюрьму и принудительной высылкой младшего на службу (с выдачей головой Куракину). В Севске кн. П. И. Хованский, впрочем, продолжил скандалить и на службу не ходил.
В начале июля 1668-го князь Б. Е. Мышецкий, ранее бывший третьим воеводой армии в Севске и смененный М. М. Дмитриевым, отказался служить на положении четвертого воеводы. Дмитриев через брата в Москве бил челом «об оборони». Мышецкого было приказано посадить на день в тюрьму (которой он избежал, уехав еще до прихода указа в Москву), Дмитриеву отказали, со ссылкой на указ о безместии.
Отправленный в Севск для разбора детей боярских кн. А. И. Лобанов-Ростовский (фактически в ранге второго воеводы) в июле? бил челом на второго воеводу армии Куракина - кн. П. И. Хованского и был отправлен в тюрьму на день за нарушение указа о безместии.
В августе [бывший в Севске осадным воеводой] кн. Я. П. Волконский бил челом на присланных Г. С. Куракиным в город с войсками князей Д. А. и А. Аф. Барятинских. Ему ответили отказом, однако разошедшийся князь отказал людям Барятинских в постое, подводах и проч. и 31 августа его было приказано арестовать, а сына воеводы - кн. Григория Волконского бить на Москве батогами и выслать к отцу. 2 сентября решение видимо поменяли - войска Барятинских передали под начало Я. П. Волконского, сына его били батогами в Севске, самого воеводу раздели, но не били (для прежних служб и старости), обоих отправили в тюрьму.
В конце лета, на упоминавшегося уже М. В. Дмитриева, били челом четверо? сотенных голов - Л. Н. Кобяков, Р. Е. и Е. Е. Яковлевы и Ф. Г. Засецкий. Кобякову приказали представить случаи (но суда не было), Засецкого послали в тюрьму, Е. Е. Яковлева (не просто бивший челом, но и отказавшийся подчиняться воеводе) также отправился в тюрьму.
[У автора эпизоды 1668 года, связанные с мятежом Брюховецкого разнесены почему-то по двум главам - ссора Хованских и Куракина в главе о Тринадцатилетней войне, остальное в главе о «Береге» XVII века, хотя это одна и та же кампания - см. другую свежую книгу И. Бабулина].
Помимо полковых местничали также и городовые воеводы на театре военных действий. Так, род Вельяминовых отметился целой серией челобитий на полоцких службах.
В 1659 году Н. А. Вельяминов с братом Иваном (вторым воеводой в Полоцке) били челом на кн. Ф. Н. Барятинского, второго в (видимо более «честном») Смоленске, им отказали.
В августе 1660-го Н. А. Вельминов, посланный вторым воеводой в Полоцк, бил на своего первого воеводу и родственника С. М. Вельяминова и был отставлен (т. е. фактически выиграл).
В мае 1661 года все тот же Н. А. Вельяминов с братьей снова били челом по поводу полоцкого воеводства - при первом воеводе кн. Д. С. Велико-Гагине, вторым и третьим посылались С. М. и И. А. Вельяминовы (что было им невместно). Третье полоцкое челобитье семьи вызвало видимо раздражение в верхах - Вельяминовым ответили, что они «бьют челом не познав свою меру», а Н. А. Вельяминов отправился в тюрьму.
В 1661 году первый воевода Переяслава кн. В. Б. Волконский просил оборонь от И. И. Чаадаева (второго воеводы) бесчестившего его самоуправством и т. д.
С начала 1670-х снова выпускаются указы о безместии (есть сведения за 1671 - 1673, 1674 годы). В 1673 году второго воеводу Переяслава А. В. Апухтина отправили в тюрьму за иск против первого воеводы кн. В. А. Волконского (безместие). В ноябре 1673 года воеводам (И. И. Вердеревскому и П. Д. Скуратову) заместничавшим при назначении Белгородского разряда отказали (безместие) и т. д.
В целом: «как видно из изложенного, несмотря на первоначальные строжайшие меры по внедрению безместия, государство не смогло справиться с традиционными формами конфликтов среди элиты даже в столь ответственных военных кампаниях... непоследовательность властей проявлялась в первоначально жестком, но постепенно смягчавшемся воплощении собственных указов... потворствовании тем или иным вельможам... стремлении Алексея Михайловича сглаживать противоречия».
* Армия Долгорукого сопровождала Великое посольство кн. Н. И. Одоевского, В. П. Шереметева и кн. Ф. Ф. Волконского, ведшее в Вильне переговоры с польско-литовскими комиссарами и вступила в бой после провала переговоров.
** Князь местничал и после официальной отмены института - в апреле 1691 года отказался быть на обеде у патриарха, скандалил, был доставлен силой и в наказание лишен «чести» и боярства и написан с городом по Серпейску, однако в конце июля того же года был прощен.
Чигиринские кампании
скрытый текст
В ходе Чигиринских походов открытых местнических столкновений почти не было и на ход боевых действий местничество видимо никак не влияло.
В кампании 1677 года имело место негласное противостояние двух основных военачальников - кн. Г. Г. Ромодановского и кн. В. В. Голицына. Последний, при поддержке влиятельных родни и друзей стремился обеспечить себе статус главнокомандующего (или по крайней мере не идти в сход к Ромодановскому). До прямых столкновений дело, впрочем, не дошло.
К этой же кампании относится стычка Голицына с кн. Хованским, помещенная автором в главу о «Береге» (см. выше). Стоявший в Мценске кн. П. И. Хованский в июле получил наказ идти в сход к командовавшему полком в Путивле кн. В. В. Голицыну и сноситься с Москвой через последнего. В сентябре? Голицын жаловался в Москву, что Хованский (успевший разбить татар у Нового Оскола) к нему о делах не пишет (но пишет в Москву напрямую) и тем бесчестит и просил записать челобитье в разряд.
Перед кампанией 1678 года был выпущен указ о безместии (5 ноября 1677? [в тексте 1678] года), по содержанию близкий к указу 1653-го. В число карательных мер за нарушение указа впервые было введено разжалование из чинов, отражавшее изменения в структуре армии.
Несмотря на это, местничества в армии происходили, хотя на ходе боевых действий вероятно не отразились. В июле кн. Ф. Л. Волконскому было указано быть без мест с В. М. Дмитриевым - оба были в товарищах в ранге второго воеводы [так у автора] у кн. И. А. Хованского. В июле - августе в полку кн. М. А. Черкасского местничали знаменщики - им дали счет прямо в сотне (в нарушение указа).
[В приложении обнаруживается еще одно местничество. В октябре 1678 года кн. К. О. Щербатый бил челом о бесчестье на стольника Л. Р. Неплюева. Последний по указу должен был идти из Севска в сход с князем, но не пошел (отписав князю, что ему с ним быть невместно). Дело слушалось царем и боярами - Неплюева выдали истцу головой].
Имел место также некий неофициальный конфликт кн. Г. Г. Ромодановского со стрелецкими полковниками. Последние были обижены князем - при приеме гетмана Самойловича Ромодановским их посадили не за главный стол, а за соседний (хотя и не ниже) и полковники затаили зло. Позднее, как считает автор, это способствовало гибели Ромодановского в ходе стрелецкого мятежа 1682 года.
Квазиместнические конфликты происходили и позднее, даже после формальной ликвидации института в январе 1682 года.
Роспись московских чинов в роты в ноябре 1681 года породила протест - князья Долгорукие и Щербатовы (поддержанные видимо Мосальскими и Дмитриевыми) явились на смотр в черном платье. Инициатор реформы кн. В. В. Голицын затребовал в Разряде указ о жестоком наказании протестующих, узнав о приходе которого последние каялись и смирились.
В 1687 году при подготовке первого Крымского похода кн. В. В. Голицын назначил более знатного родственника кн. М. А. Голицына ниже себя, что поссорило его с частью родни, и так уже политически расколотой.
Местничество как фактор поражения
скрытый текст
Во введении автор приводит составленную им диаграмму местничеств (всех типов) по годам. Между 1500 и 1540 годами достоверно известно лишь 14 случаев местничества. Позднее их число резко возрастает и колеблется в зависимости от внутренней обстановки. Наибольшее число дел приходится на периоды кризисов, нестабильности и ослабления центральной власти.
Безместие используется с 1549 года, однако мотивы его введения / невведения зачастую остаются неясными.
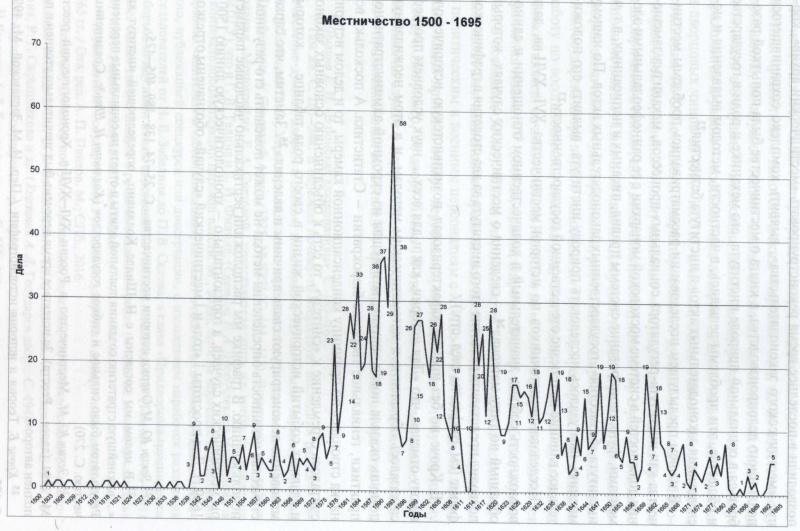
Относительно рассмотренных местничеств на военной службе автор делает вывод приводимый ниже. Приведенный список, заметим, весьма спорный (Полоцк, Верки, Глухов), но таково мнение автора.
«... Опираясь на собственные исследования и мнение современников, мы можем считать местнические конфликты одной из основных причин поражения или серьезной военной неудачи в целом ряде сражений:
1495 год (Ивангород), 1514 год (Орша), 1530, 1547, 1549 - 1550 годы (Казань), 1544 год (набег Эмир-Гирея), 1565 год (Болхов), 1559 год (близ Изборска), 1578 год (под Кесью), 1591 год (под Гдовом), некоторые сражения начала Смуты в 1606 - 1607 годах, 1637, 1645, 1646, 1669 годы (крымские набеги), 1657 (под Вильной [Верки]).
Местническая составляющая присутствовала в неудачах обороны от набегов 1571, 1587, 1590, 1623, 1633 годов, в поражениях конца Ливонской войны 1579, 1580 годов (Полоцк, Сокол, Великие Луки), в Смуту - в 1606 году (Елец, Ливны, Кромы), 1609, 1610 годах (Коломенская дорога, Суздаль, Троица), в 1613 - 1615, 1631 - 1633 годах (кампании против И. М .Заруцкого, А. Лисовского, Новгородская, Смоленская), 1659 года (у Березины [при осаде Старого Быхова]) и 1664 года (под Глуховым), при этом Конотопская, Чудновская катастрофы и Чигиринские походы, вопреки мнению современников, этой составляющей почти не имеют. То же можно сказать о кампаниях Тринадцатилетней войны...
Местническим конфликтам Российское государство обязано не менее чем 15-20 крупными военными неудачами, преимущественно в XVI - первой половине XVII веков и несколькими десятками - в качестве одной из их причин».