Немецкая заря Венесуэлы

День в истории Блогхауса: 15 декабря 2018

Шано, блог «Архив Шано»
* * *
В конце ноября 1534г. отряд Себастьяна Бельалькасара, завоевателя Эквадора, подступил к Кито. Генерал инков Руминьяви понял, что удержать город не удастся, «и явился в свой гарем, к женам и наложницам. «Радуйтесь»-сказал он им-»ибо приближаются христиане, с которыми вы сможете повеселиться». Многие, как свойственно женщинам, засмеялись, не подумав. После чего этим смешливым он перерезал горло» (Ф.Л.Гомара, «Общая история Индий»). Лозунг «Любишь-докажи» заиграл новыми красками!
скрытый текст[MORE=читать дальше]
Инка Гарсиласо не согласен с этим описанием и дает более смачную картину. Руминьяви явился к «девам Солнца» (девственницы-жрицы культа солнца, из которых Великий Инка набирал наложниц), чтобы отобрать лучших для себя. По статусу они ему не полагались, но Руминьяви после казни Инки Атауальпы провозгласил себя королем Кито и делал, что хотел. Желая заинтересовать женщин, он начал рассказывать им о подступающих испанцах, про их лошадей, оружие и бороды. «Их обычаи так странны, что у них есть штучки, похожие на маленький шалаш, в которых они держат свои гениталии». Он имел в виду гульфики. «Женщины засмеялись над такой глупостью, больше чтобы угодить ему. Он же пришел в бешенство, приписав их смех нечестным намерениям. «Развратницы, предательницы! Если вы так веселитесь при одном рассказе, чего вы только не сделаете, когда испанцы придут? Но вы их не увидите!»
А поскольку дева Солнца, уличенная в прелюбодействе, подлежала смерти, это и было тут же сделано-всех закопали живьем. Учитывая, что затем он спалил под ноль весь город, чтобы ничего не оставлять врагу (современный Кито был основан Бельалькасаром заново), это более правдоподобно. Но первая версия мне нравится больше-кто сказал, что у индейцев не было чувства юмора?
Руминьяви (Rumiñahui), которого Гарсиласо душевно называет «бешеной собакой», сейчас национальный герой Эквадора, 1 декабря-гос. праздник его памяти, есть несколько монументов. Хотя Бельалькасара тоже помнят. Не знаю про Эквадор, но в Колумбии есть несколько его памятников.

Руминьяви на купюре в 1000 сукре (отменен в 2000г, когда Эквадор перешел на доллар США).

Бельалькасар на купюре в 10 сукре. Жмоты!
ПС. К вопросу о произношении индейских имен. Сейчас в «Swords and hilt weapons” наткнулся на суровую подпись к рисунку ацтекского воина: «На рисунке из Кодекса Иштлильшочитль изображен Несауалькойотль, король Тешкоко, держащий в руке макуауитль.” Из всего этого могу выговорить только «макуауитль»-и то потому, что слово часто встречается. Восхищаюсь индианистами! Эти имена страшнее обсидианового ножа.[/MORE]

Денис Миллер, блог «Очень Дикий Запад»
* * *
Антрополог Фрэнсис Денсмор из Смитсоновского института записывает на фонограф песню вождя племени черноногих [1916 год]

Шано, блог «Архив Шано»
* * *



скрытый текст[MORE=читать дальше]Возникает чувство, что линейная схема истории музыки современным слушателем воспринимается примерно так: григорианский хорал, а потом - хоп! и сразу Бах [в лучшем случае, Букстехуде или Телеманн]. А из инструментальной музыки Возрождения и раннего барокко вообще как-то мало что сходу приходит на ум. И это интересно, потому что по-моему именно в эти времена мастера делали самые потрясающие музыкальные инструменты.
Вот, например, клавесин, сделанный около 1550 года неизвестным мастером:




Давайте, навскидочку, композитора середины XVI века? Чего исполняли-то на этом клавесине? А ведь этот парень, между прочими, до сих пор играет и неплохо звучит:
Джованни Баффо, венецианец, один из самых известных и великолепных мастеров своего времени. Вот его спинет, сделанный в 1594 году для королевы Елизаветы I:




Его же клавесин, сделанный в 1574 году:




Невероятно гламурный спинет Аннибале Росси, 1577 г.:



Спинет неизвестного мастера, около 1600 г.:



Фламандские двойные верджинелы конца XVI века:


Немецкий верджинел конца XVI века:

Итальянский клавикорд XVI века:


Еще парочка верджинелов рубежа XVI-XVII веков:


До тех пор, пока не наступил XVIII век с его золотищами, жирными узорищами и резьбищами, что не инструмент - изумительное произведение искусства. Голову бы отдал, чтобы просто потрогать любой из них.
Клавесин 1667 года, мастер неизвестен:




Фотографии инструментов тиснуты с сайтов V&A, Metropolitan Museum, Бостонского Музея Изящных Искусств и парижского Musée de la Musique.[/MORE]
и в комменте к посту еще
Пишет [J]Крысолов[/J]:
Клавесин и верджинел, два в одном [точнее, три в одном, если считать еще и верджинел, нарисованный на крышке] Рукерса-младшего, 1619:

[MORE=читать дальше]
 [/MORE]
[/MORE]
Mallari, блог «Судовой Журнал»
Эпиграф: Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать.
*смотрит и думает*
Для меня "смерть автора", отвлекаясь от оригинальной философской концепции, это тот момент, когда мне, как автору, нечего добавить в картину нарисованного мной мира.
Когда мир выплеснутый моим исскуством на бумагу, становится самодостаточным, расправляет плавники и окончательно рвёт всякую связь с моим внутренним миром, который в сущности и есть я).
Это приводит к тому, что опыт накопленный за время творения, переосмысливается, добавляется в копилку, даётся толчёк к эволюции моего внутреннего мира. Он меняется (в другом направлении, по сравнению с начальным посылом/направлением движения, логики ново созданного произведения) и это приводит к определённому отчуждению между мной и моим творением.
Я считаю, что это хорошо, мне интересно возвращатся и рассматривать, взвешивать, сравнивать, мерять пропорции).
Накапливать новый опыт, менятся дальше).

Денис Миллер, блог «Очень Дикий Запад»
* * *
Возьмем, например, Кони-Айленд, или, как его еще называют, Город огня, каких-то сто лет назад.
скрытый текст[MORE=читать дальше]
Изначально крошечный песчаный кусочек земли, полный кустарников и диких кроликов (Сonies), отчего это место и получило свое название, был промежуточной станцией, а после стал местом отдыха горожан Нью-Йорка. Однако, потом остров стал меняться, чтобы в итоге стать фантасмагорическим местом: миром чудес, иллюзий, а также — катастрофическим и мистическим Городом пожаров.
Публичный дом в форме слона, механические пони и дерущиеся клоуны
Здание в форме слона в Кони-Айленд было построено в 1885 году Джеймсом Лафферти (который также создал знаменитого бегемота в Атлантик-Сити, существующего до сих пор), и он стал первой достопримечательностью острова. Слон был не просто статуей. Фактически это был функциональный пятиэтажный отель и… публичный дом.
Но слон — это было лишь начало, «пробный шар». В 1897 году Джордж Тилоу создал один из бессмертных парков — Steeplechase Park.
Трудно представить себя на месте посетителя такого парка в те времена. Никто до этого не видел ничего подобного: дикий и шумный, оглушающий и удивительный, Steeplechase стал местом средоточия смеха и ужаса. Главным аттракционом были механические пони: гонки на опасной скорости вверх и вниз, кружась вокруг себя... Как кто-то верно заметил, аттракцион давал мальчикам шанс обнимать девочек, а девочкам — быть обнятыми мальчиками.
Но на пони не заканчивается веселье этого парка. Выходящие с аттракциона сталкиваются с клоунами и карликами. Клоуны задирали и толкали мальчиков, а девочкам пытались поднять юбки до самой головы...
Человеческая Рулетка, Бочка любви, Пещера ветров…
Бедой для всего острова стал пожар в парке в 1907 году. Но парк был восстановлен, — и в масштабах, которые трудно представить человеку из
Парк был удивительным. В целом он представлял собой огромную площадь, застроенную веселыми аттракционами и огромными батутами.
Позже появился «Луна Парк». Созданный Фредериком Томсоном и Элмером Данди, «Луна Парк» представлял собой своего рода галлюцинацию, искаженное видение вращающихся минаретов и волнистых сводов. А когда наступала ночь, очаровательный вид создавался сотнями и тысячами невиданных ранее электрических огней. В «Луна Парке» посетителей ждали разные аттракционы. Например, тонущая лодка Shoot-the-Chutes. И, конечно же, животные, включая и стадо слонов. Но, самое главное, посетители могли размеренно прогуливаться по «Луна Парку» и чувствовать, что они сбежали из привычного города в мир восторженных фантазий, на секунду ставший реальностью.
Вид «Луна Парка» даже сегодня остается ошеломительным. Здесь есть макет морских сражений, включая нападение на Манхеттен объединенными военно-морскими силами Германии, Франции и Испании и даже Великобритании, которое было отбито флотом адмирала Дьюи; путешествие на Луну с озорным «космонавтом»; путешествие на Северный полюс на подводной лодке; и огромное количество других изумительных вещей.
Но «Луна Парк» также отражал и реальный мир, который уже тогда для большинства посетителей был таким же зрелищем как Северный полюс или Луна. Целые деревни были созданы и размещены в парке для просвещения и развлечения посетителей.
«Луна Парк» бесспорно является легендой и беспрецедентным зрелищем. Но спустя некоторое время появился Dreamland.
Построенный в 1904 году уже много повидавшим Уильямом Рейналдсом, Dreamland стал украшением острова, и даже в сравнении с «Луна Парком» и Steeplechase это был грандиозный парк развлечений.
Сложно даже представить масштабы и величие парка, который создал Рейналдс. Если в «Луна Парке» было порядка четверти миллиона электрических огней, то Dreamland обладал более чем миллионом: именно это и дало парку прозвище Город Огня.
Dreamland был ослепительным «обозрением» всего мира. Каждый час 2000 пожарных участвовали в представлении по тушению шестиэтажного здания. Целый городок был построен — в масштабе один к двум, разумеется, — для 350 карликов, работающих в парке. 375 футовая башня светила так ярко, что ее можно было увидеть из Манхеттена. Существовало также театрализированное представление по библейским мотивам, а наряду с этим и путешествие в Ад. И нельзя не упомянуть инкубатор младенцев.
Да, это именно так: одной из самых знаменитых выставок в Dreamland был инкубатор младенцев, созданный замечательным доктором Мартином Артуром Коуни. Больницы, не приняв его изобретение всерьез, отказались от него, и доктор Коуни стал тесно сотрудничать с Рейналдсом. И добился своего: мир обратил внимание на технологии, позволяющие сохранить жизнь недоношенным детям.
К сожалению, как и в случае со слоном в Steeplechase и многими другими достопримечательностями Кони-Айленда, Город Огня оправдал свое название, и Dreamland сгорел дотла в ужасном пожаре, который, по иронии судьбы, начался на выставке «Врата Ада». К счастью, это понесло за собой лишь несколько трагедий, включая льва, сбежавшего во время пожара и убитого полицейскими. Однако парк больше не был реконструирован и Dreamland сохранился только в памяти тех счастливчиков, которым удалось побывать там до того, как он превратился в груду пепла...
Однако еще более печально то, что «Луна Парк» и Steeplechase, будучи столь привлекательными и популярными, канули в Лету еще задолго до того, как превратились в руины.
Сегодня существуют Диснейленды и множество других парков аттракционов во всем мире, и нам даже кажется, что мы видим что-то удивительное и сногшибательное. Но, если вы взглянете на фотографии Кони-Айленда в период его процветания, то вы поймете, что то, что мы считаем удивительным, на самом деле очень мелко, банально и незатейливо. Чтобы увидеть действительно чудесные и изумительные аттракционы, нам нужно вернуться на 100 лет назад, в Кони-Айленд, в легендарный Город Огня...
[/MORE]

Шано, блог «Архив Шано»
* * *
Испанский галеон «Нуэстра Сеньора». На таких кораблях конкистадоры добирались до Нового Света. Фото: AKG/EASTNEWS
скрытый текст[MORE=читать дальше]Всего лишь четверть века в этой испанской колонии хозяйничали немцы, но то был один из интереснейших периодов ее историиПосле смерти в январе 1519 года императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга перед его внуком, молодым испанским королем Карлом I, открылась блестящая перспектива занять трон деда. Но 12 курфюрстов, участвовавших в выборах императора, куда больше интересовались деньгами, нежели родословной претендента, а главный соперник Карла, французский король Франциск I, был намного его богаче. Карл нашел выход: он обратился за помощью к богатейшим банкирским домам Германии — Фуггеров, Эхингеров, Сайлеров и Вельзеров. Те были крайне заинтересованы в союзе с испанским королем — он давал им доступ не только на обширный испанский рынок, но и в Новый Свет, а также к Островам пряностей, морской путь к которым был открыт экспедицией Магеллана. Банкиры не поскупились и выделили Карлу в общей сложности более 850 000 дукатов — сумму по тем временам астрономическую, не оставлявшую Франциску I никаких шансов. В 1519 году Карл I принял из рук папы корону Священной Римской империи и стал императором Карлом V. Немецкие банкиры поставили на верную карту. В период правления Карла немцы стали играть огромную роль в политической, экономической и культурной жизни Испании. Все это вызывало в Испании острейшее недовольство, однако Карла это нисколько не волновало.

Экспедиции конкистадоров к Южному морю На карте нанесены маршруты шести экспедиций немецких конкистадоров, отправлявшихся на поиски Южного моря и волшебной страны Эльдорадо. Европейцы были уверены, что Венесуэла — остров, и поэтому всегда стремились к его южному побережью. Здесь также изображены некоторые эпизоды из истории походов немецких конкистадоров. (1) В 1531 году Амвросий Альфингер отправился во вторую экспедицию на поиски южной оконечности «острова». Его сопровождали несколько сотен носильщиков — захваченных и превращенных в рабов индейцев. (2) Возвращаясь в Коро через Восточную Кордильеру, Альфингер потерял пятую часть своих соратников. (3) Спор между Хименесом де Кесадой, Николаусом Федерманом и Себастьяном де Белаль касаром о праве на владение землей чибчамуисков, считавшейся преддверием Эльдорадо. (4) Индейцы мифического города Куарика могли противопоставить аркебузам только луки. Но Гуттену пришлось убраться восвояси, поскольку туземцы во много раз превосходили немцев числом. (5) Обратная дорога отряда Филиппа фон Гуттена, была чрезвычайно трудна. Солдат косили тропические болезни, многие умерли от ран. Деньги в обмен на земли Но главное, чем Карл мог расплатиться за финансовую поддержку, — это земли Нового Света, которые по папской булле 1493 года были целиком отданы во владение Испании и Португалии для христианизации туземцев. К тому времени Южноамериканский материк был, можно сказать, только «приоткрыт», ибо никто не знал ни истинных его размеров, ни что находится в глубине земли. Освоение Южной Америки началось лишь в середине 20-х годов XVI века, после того как Кортес продемонстрировал изумленным европейцам богатства Мексики.
В 1524 году Родриго де Бастидас подписал контракт с королем на заселение побережья нынешней Колумбии, где основал колонию Санта-Марта. Два года спустя возникло первое испанское поселение и на соседней к западу территории, ранее названной Венесуэлой. Граница между двумя губернаторствами проходила по меридиану на юг от мыса Ла-Вела.
В 1528 году после долгих интриг глава дома Вельзеров Варфоломей заполучил от короля контракт на освоение Венесуэлы. Сделка казалась взаимовыгодной: сдавая «в аренду» неисследованные земли Нового Света, монарх получал единовременную плату (по различным данным, от 5 до 12 т золота) плюс пятую часть всей будущей добычи. Вельзеры же становились хозяевами огромной территории, ограниченной с севера Карибским морем, с запада мысом Ла-Вела, с востока мысом Маракапана (западная оконечность полуострова Пария), а с юга не ограниченной никак, поскольку никто еще не знал, как далеко она простирается в этом направлении. «До моря» — было указано в договоре, подразумевалось Южное море (так испанцы называли Тихий океан).
По условиям контракта немцы получали право ставить в Венесуэле своих наместников, право на исследование и хозяйственное освоение означенной территории, право верховного суда и беспошлинной торговли, право держать собственный флот. Немцам предписывалось заселить край, основать несколько городов и разведать залежи драгоценных металлов, но новые хозяева колонии вовсе не думали этим заниматься. Она интересовала их лишь как перевалочный пункт на пути в Тихий океан и по нему в Азию с ее сказочными богатствами. Дело в том, что Вельзеры, как и все тогда, считали Венесуэлу островом. Они были убеждены, что озеро Маракайбо сообщается не только с Карибским морем, но и с Тихим океаном, и требовали от своих наместников, чтобы те в первую очередь искали пролив, а уж заодно и выкачивали из этих территорий золото.
И каждый новый наместник Вельзеров, едва прибыв в Венесуэлу, тут же срывался в экспедицию и пропадал когда на год, когда и на все пять, а вместо себя оставлял заместителя-испанца, который, собственно, и занимался делами колонии. Конкистадоров в экспедиции также рекрутировали в Испании либо на острове Санто-Доминго (ныне Гаити), благо там хватало людей, готовых участвовать в любой авантюре, поэтому собственно немцев в Венесуэле было ничтожно мало — губернатор да пара-тройка его приближенных.

Зачастую индейцы нещадно расправлялись с европейцами, высадившимися на их земле. Однако это было реакцией на бесчеловечное отношение конкистадоров к туземцам . Фото: MARY EVANS/PHOTAS
К южному морю Первый немецкий губернатор Венесуэлы Амвросий Альфингер, наплевав на то, что испанские власти запрещали притеснять аборигенов, захватил несколько сот индейцев какетио, сковал их цепями с ошейниками, нагрузил поклажей и в августе 1529 года двинулся из Коро — единственного тогда европейского поселения в Венесуэле — к озеру Маракайбо на поиски Южного моря. Когда носильщик падал от изнеможения, ему просто отрубали голову, чтобы не расковывать цепь. Альфингер прошел восточным берегом озера до его южной оконечности и, как полагал, почти достиг цели, но вынужден был повернуть назад, поскольку людей косила лихорадка. В отчете Вельзерам он писал: «По многим и веским основаниям следует считать, что это озеро сообщается с Южным морем».
В июне 1531 года губернатор снова отправился на поиски морского пролива. На сей раз он пошел, «разрушая, — по словам хронистов, — все на своем пути», к проливу длинным путем вдоль берега Венесуэльского залива и переправился через узкую горловину, соединяющую озеро с Карибским морем. Награбив полтораста килограммов золота, Альфингер решил отослать сокровища в Коро. Отряд из 25 человек, дабы сократить путь, двинулся напрямик через сельву. Запасы провизии, которыми Альфингер снабдил отряд, быстро кончились, и питаться приходилось дикими плодами. Носильщики умирали, а новых испанцы раздобыть не могли, поскольку индейцы, наслышанные о зверствах чужеземцев, разбегались при одном их появлении. Пришлось конкистадорам нести золото на своих плечах. Когда они вконец обессилели, то зарыли драгоценный груз, надеясь когда-нибудь вернуться за ним. Но делу это мало помогло, отряд сбился с пути, люди голодали. Если испанец падал от изнеможения, его уже не подбирали. «И тогда, — пишет хронист Педро де Агуадо, — они принялись убивать одного за другим тех индейцев, какие у них оставались в услужении, и пожирать их, уподобляясь тем самым диким и кровожадным зверям… и настолько они не испытывали при том ни страха, ни отвращения, как будто бы с младых лет питались человеческим мясом». Когда с последним индейцем было покончено, каждый стал опасаться, что следующей жертвой может стать он. И тогда испанцы решили разделиться, каждый направился своей дорогой. Все эти кошмарные подробности сообщил единственный выживший — Франсиско Мартин.
Меж тем Альфингер обогнул с севера Восточную Кордильеру и двинулся на юго-запад, но вместо ожидаемого морского побережья вышел к берегам могучей реки, которая позже получила название Магдалена. Здесь-то он и услышал от индейцев, что вверх по течению в горных районах лежит богатая «провинция». Видимо, речь шла о стране чибча-муисков, где процветала самая развитая цивилизация на всем пространстве между государствами майя в Центральной Америке и инков на территории Перу. С превеликим трудом Альфингер прошел вдоль русла около 300 км, но непроходимые топи заставили его изменить маршрут. Он решил выйти к верховьям кратчайшим путем через горы и повернул на юго-восток, то есть двинулся в направлении, уводящем его и от «золотой страны», и от истоков Магдалены. Ошибка не была случайной: Альфингер считал Венесуэлу островом, вытянутым с запада на восток, и пребывал в уверенности, что Магдалена берет начало на востоке и в том же направлении тянутся Анды. Это заблуждение ему дорого стоило. В горах от холода и истощения погибли два десятка христиан и полтораста индейцев. Оставшиеся почти без носильщиков, конкистадоры были вынуждены бросить все снаряжение. Наконец экспедиция перевалила горный хребет и спустилась в населенную долину. Но злоключения на этом не кончились: индейцы сжигали свои селения и уходили, унося припасы, постоянно донимали пришельцев нападениями. Однажды Альфингер неосторожно отдалился от лагеря и попал в засаду. Прорваться к своим ему удалось, но через три дня он умер от полученных ран.

1. Легендарный доктор Иоганн Фауст — (ок. 1480–1540) в 1534 году составил гороскоп немецкого конкистадора Филиппа фон Гуттена, предрекавший тому страшные бедствия в Венесуэле. И оказался провидцем
2. Золотые изваяния индейских богов — желанная добыча европейских авантюристов
Фото: ULLSTEIN BILD/VOSTOCK PHOTO, TOPFOTO/FOTODOM.RU
Табель о рангахВойско конкистадоров состояло из всадников и пехоты. Главнокомандующий, генерал-капитан, обладал всей полнотой власти вплоть до права казнить провинившихся. Полное доверие к вождю в многолетней изматывающей экспедиции — абсолютная необходимость, поэтому он должен был делить с подчиненными все тяготы, а в бою находиться впереди. Офицеров назначал также генерал-капитан. Следующим по старшинству был заместитель генерал-капитана, который брал на себя командование в случае отсутствия или смерти командира . Ступенькой ниже стоял «маэстре де кампо» — он ведал всеми военными вопросами и нес ответственность за боеспособность войска. Далее следовали капитаны, стоявшие во главе подразделений — «капитаний». Всадники составляли, так сказать, «белую кость» войска конкистадоров, поскольку лошади были главным психологическим и наступательным оружием испанцев. Поэтому доля всадника при разделе добычи как минимум вдвое превышала долю пехотинца.
 Якоб Фуггер по прозвищу Богатый (1459– 1525) — глава аугсбургского торгово-банкирского дома Фуггеров, самый богатый человек Европы своего времени. Он был одним из тех, кто посадил Карла V на трон. Фото: INTERFOTO/PHOTASМоре венесуэльских равнин Поскольку об экспедиции Альфингера не было ни слуху ни духу, немецкие банкиры, прождав 10 месяцев, отправили в Венесуэлу Николауса Федермана, назначив его заместителем губернатора. Тот начал с того, что разорил несколько индейских селений, набрал две сотни рабов-носильщиков и с сотней пехотинцев и двумя десятками всадников в сентябре 1530 года двинулся на юг, к Южному морю, берега которого, как он полагал, завалены жемчугом и золотыми слитками. В долине реки Баркисимето Федерман обнаружил несколько крупных селений — тамошние жители подарили ему золотые безделушки и подтвердили, что дальше на юг лежит море. И такие сведения Федерман получал на протяжении всего своего пути. Аборигены вовсе не морочили конкистадорам голову: дело в том, что толмачи передавали понятие «море» словами «большая вода», а индейцы понимали под этим словосочетанием не только море, но и широкую реку или крупное озеро.
Якоб Фуггер по прозвищу Богатый (1459– 1525) — глава аугсбургского торгово-банкирского дома Фуггеров, самый богатый человек Европы своего времени. Он был одним из тех, кто посадил Карла V на трон. Фото: INTERFOTO/PHOTASМоре венесуэльских равнин Поскольку об экспедиции Альфингера не было ни слуху ни духу, немецкие банкиры, прождав 10 месяцев, отправили в Венесуэлу Николауса Федермана, назначив его заместителем губернатора. Тот начал с того, что разорил несколько индейских селений, набрал две сотни рабов-носильщиков и с сотней пехотинцев и двумя десятками всадников в сентябре 1530 года двинулся на юг, к Южному морю, берега которого, как он полагал, завалены жемчугом и золотыми слитками. В долине реки Баркисимето Федерман обнаружил несколько крупных селений — тамошние жители подарили ему золотые безделушки и подтвердили, что дальше на юг лежит море. И такие сведения Федерман получал на протяжении всего своего пути. Аборигены вовсе не морочили конкистадорам голову: дело в том, что толмачи передавали понятие «море» словами «большая вода», а индейцы понимали под этим словосочетанием не только море, но и широкую реку или крупное озеро.Когда Федерман пересек горный кряж, перед ним и вправду раскинулось море. Бескрайнее море жарких и влажных венесуэльских равнин — льяносов. Здесь христиан стала косить лихорадка. Больных несли в гамаках и везли на лошадях, а чтобы у туземцев не возникло сомнений в том, что белые люди бессмертны, заболевших представляли важными персонами.
В декабре измученный отряд вышел к крупному селению, где вместе с прилегающими деревнями проживали несколько тысяч человек. Туземцы на удивление радушно приняли гостей, что не помешало тем взять в заложники вождя. Правда, конкистадоры выступили на стороне местных жителей против враждебного им племени. В ходе карательной операции Федерман спалил несколько селений, пролил море крови и захватил в плен 600 человек — 200 раненых он отдал индейцам, а 400 здоровых распределил среди своих людей.
Передохнув, конкистадоры двинулись дальше на юг. В селении Техибера они получили сведения о том, что через три дня пути достигнут холма, с которого видно море. В нетерпении Федерман, оставив свой отряд, с 40 всадниками устремился вперед. Когда он поднялся на холм, то в туманной дали действительно увидел множество селений и большую воду, но так и не смог понять, что это: море, озеро или широкая река? Скорее всего, он вышел на один из крупных притоков Ориноко.
Федерман вернулся к основному отряду, намереваясь двинуться к побережью «моря», но путь конкистадорам преградило десятитысячное войско индейцев. В кровавой битве христиане, подстрелив из аркебузы вождя, одержали победу, но почти все получили ранения, в том числе и сам Федерман. Тогда он решил вернуться домой за подкреплением. В марте 1531 года его поредевшее войско достигло Коро. Здесь Федерман застал Альфингера, который собирался в свою вторую экспедицию, закончившуюся для него, как мы знаем, трагически. Губернатор был чрезвычайно недоволен своим заместителем за то, что тот затеял экспедицию без начальственного соизволения, и отослал его в Германию. Прибыв на родину, Федерман представил Вельзерам отчет о своей одиссее, озаглавив его «Индийская история». В нем он расписывал богатства Венесуэлы, приводил рассказы индейцев о богатой золотом стране и утверждал, что знает, где ее искать. Конкистадор явно хотел подогреть угасающий интерес немецких банкиров к этой земле.
И тут стали приходить известия о несметных сокровищах Перу! Все это заставило Вельзеров поменять свое отношение к Венесуэле — теперь они рассматривали ее не только как перевалочную базу на пути в Индию, но и как страну, богатую золотом. Новым губернатором на место погибшего Альфингера был назначен Георг Хоэрмут фон Шпейер (Шпайер). Федерман, к своему глубокому неудовольствию, так и остался заместителем.
В мае 1535 года Шпейер выступил из Коро на поиски Эльдорадо. В составе его экспедиции находился Филипп фон Гуттен — человек, которому предстояло сыграть заметную роль в истории немецкой Венесуэлы. Он приходился двоюродным братом видному немецкому писателю-гуманисту Ульриху фон Гуттену. Отправиться в далекую страну его заставила вовсе не жажда наживы: «Господь свидетель, — писал он, — что я предпринимаю это путешествие, движимый отнюдь не стремлением обогатиться, а странным желанием, коим давно уже был охвачен. Мне кажется, я не смогу умереть спокойно, ежели не увижу Индий».
В свободном поиске Конкиста была отдана на откуп частной инициативе: Америку покоряли отдельные, друг от друга не зависевшие отряды конкистадоров. Прежде чем пускаться в путь, главнокомандующий экспедицией был обязан заключить договор с королем, реже с представителем королевской власти в Новом Свете. Такой договор носил название «капитуляция». Суть этих пространных документов сводилась к нескольким положениям: львиную часть расходов несет главнокомандующий, новооткрытые земли объявляются собственностью испанской короны, туземцы, эти земли населяющие, должны признать власть испанского короля и христианское вероучение, пятая часть всей добычи (кинта) отходит в казну. Взамен главнокомандующий получал полную свободу действий и губернаторский пост. Король не рисковал ничем; конкистадоры же ставили на кон все. Так что инициатива и маниакальное упорство последних объяснялись, помимо прочего, стремлением во что бы то ни стало хотя бы окупить расходы . Дележ пирога Отправляясь в поход, Шпейер запретил Федерману покидать Коро. Но разве тот мог усидеть на месте! Как только губернатор отбыл, заместитель тут же взялся за подготовку собственной экспедиции и уже в августе выслал отряд на запад, к устью реки Рио-Ача, чтобы основать форт (там теперь город Риоача). Федерман решил достичь золотоносной страны, поднимаясь по реке Магдалена, и залез на территорию соседнего испанского губернаторства Санта-Марта. Однако ровно в это время, в январе 1536-го, туда прибыл новый губернатор с войском в 1200 человек, и немцу пришлось убираться восвояси.
 Николаус Федерман (ок. 1505–1542) — авантюрист и искатель приключений из Ульма, в 29 лет ставший генерал-капитаном Венесуэлы. Фото: INTERFOTO/PHOTASВ Коро Федермана не ждало ничего хорошего: кормить людей было нечем и грабить стало некого. Административный центр испанских колоний в Новом Свете, Санто-Доминго, был завален жалобами из Коро. Узнав, что власти собираются прислать в Коро альгвасила (судью), Федерман решил, что пора уносить ноги. Куда? Разумеется, в Эльдорадо! В конце 1537 года он покинул Коро, уведя с собой почти всех солдат и прихватив еще соседние гарнизоны. Отряд из 300 пехотинцев и 130 всадников двинулся по следам экспедиции Шпейера — на юг вдоль подножий Восточной Кордильеры. Больше года длился тяжелейший поход по бескрайним льяносам.
Николаус Федерман (ок. 1505–1542) — авантюрист и искатель приключений из Ульма, в 29 лет ставший генерал-капитаном Венесуэлы. Фото: INTERFOTO/PHOTASВ Коро Федермана не ждало ничего хорошего: кормить людей было нечем и грабить стало некого. Административный центр испанских колоний в Новом Свете, Санто-Доминго, был завален жалобами из Коро. Узнав, что власти собираются прислать в Коро альгвасила (судью), Федерман решил, что пора уносить ноги. Куда? Разумеется, в Эльдорадо! В конце 1537 года он покинул Коро, уведя с собой почти всех солдат и прихватив еще соседние гарнизоны. Отряд из 300 пехотинцев и 130 всадников двинулся по следам экспедиции Шпейера — на юг вдоль подножий Восточной Кордильеры. Больше года длился тяжелейший поход по бескрайним льяносам.В феврале 1539-го конкистадоры встретили индейцев с золотыми серьгами в ушах. На вопрос «Откуда золото?» они указывали на запад, где высилась горная гряда. Федерман повернул к ней. Больше месяца длился неимоверно трудный переход по высокогорью. В марте 1539 года его сильно поредевшее войско — погибли почти две трети христиан, а индейцев-носильщиков никто и не считал — спустилось в долину реки Паска в районе нынешней столицы Колумбии Боготы. Это была земля чибча-муисков.
Наградой за все лишения и жертвы стало известие, что уж два года как эту богатую золотом и изумрудами страну открыл и завоевал Гонсало Хименес де Кесада. Федерман решил идти ва-банк и предъявил права на эти земли, утверждая, что они лежат в пределах губернаторства Венесуэла. Кесада не располагал достаточными силами, чтобы поставить наглеца на место, и тянул время, ведя переговоры. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут с юга в страну муисков вторгся многочисленный и хорошо вооруженный отряд Себастьяна де Белалькасара.
Дело наверняка обернулось бы кровопролитием, если бы не поразительная изворотливость Кесады, который уговорил соперников вместе отправиться в Испанию и там разрешить спор в суде. Летом 1539 года три претендента на пост губернатора Нового Королевства Гранада — так Кесада окрестил страну чибча-муисков — прибыли в Испанию, и здесь их пути навеки разошлись. По-разному сложились судьбы трех конкистадоров: Белалькасар на удивление быстро получил пост губернатора «провинции» Попаян (на юго-западе нынешней Колумбии), Кесада после восьмилетних мытарств выиграл судебный процесс, получил звание маршала вице-королевства Новое Королевство Гранада, богатую ренту и даже фамильный герб. А Федерман…
Нищий богач Федерман явился к своему патрону Вельзеру с пустыми руками и красочными рассказами об Эльдорадо. Надобно знать, что в ту эпоху на всякого, кто возвращался из Америки, смотрели как на сказочного богача. Поэтому банкир потребовал от Федермана финансовый отчет, а когда тот предъявил одни убытки, обвинил конкистадора в том, что он «мошенническим путем скрывает золото, серебро и изумруды в огромном количестве». Все закончилось долговой тюрьмой и описанием имущества.
Поскольку дело происходило в принадлежавшей испанцам Фландрии, а Вельзер пользовался огромным влиянием при испанском дворе, рассчитывать на правосудие Федерман не мог, и он пошел в контратаку — обвинил банкира в сокрытии королевской кинты, пятой части добычи. Совет по делам Индий, заваленный жалобами на злоупотребления немцев в Венесуэле, конечно, вцепился в иск Федермана и затребовал того в Мадрид (в споре за Новую Гранаду интересы немцев защищал не Федерман, а сам Вельзер). Поразительно, но, хотя сам король под давлением банкира выступил против перевода Федермана в Испанию, совет настоял на своем, и в феврале 1541 года конкистадора доставили в Мад рид и поместили в частном доме под домашний арест.
Полгода он исправно давал показания против Вельзера и вдруг в августе по непонятным причинам письменно отказался от всех своих обвинений, якобы выдвинутых с единственной целью — выбраться из фламандской тюрьмы. Чиновники из Совета по делам Индий эту бумагу положили под сукно, тем более что Федерман на своем отказе не мог настаивать — в феврале 1542 года он умер.
Бескрайняя Маленькая Венеция Соратник Колумба Алонсо де Охеда вместе с Америго Веспуччи обследовал северное побережье Южноамериканского материка еще в 1499 году. На полуострове Парагуана Веспуччи увидел свайный поселок, «город над водой, подобный Венеции», и назвал лежащий к западу от полуострова залив Маленькой Венецией — Венесуэлой. Впоследствии это название перешло на весь южный берег Карибского моря до дельты Ориноко. Более четверти века никто не предпринимал попыток здесь закрепиться, лишь время от времени сюда наведывались работорговцы. В 1526 году житель Санто-Доминго Хуан де Ампьес, не раз плававший к берегам Венесуэлы, подписал с колониальными властями в Санто-Доминго договор на ее освоение и год спустя основал на побережье поселение Санта-Ана-де-Коро (нынешний Коро). Ампьес добился того, что власти запретили грабить и уводить в неволю местных туземцев. Немного нашлось бы в то время испанских поселений в Новом Свете, где царил такой мир.
 Филипп фон Гуттен (1511–1546) — конкистадор, оставивший после смерти дневники и письма к родным. Они представляют собой бесценный источник по истории конкисты XVI века. Фото: INTERFOTO/PHOTASНа пороге Эльдорадо Вернемся к Шпейеру и его правой руке Гуттену. Трудности, выпавшие на долю их экспедиции, Гуттен описывает в одном из своих писем: «Поистине ужас берет, когда вспоминаешь, чего только не ели христиане во время похода, а ели они всяких непотребных тварей — ужей, гадюк, жаб, ящериц, червей и еще травы, корни и прочее, что непригодно для пищи; притом находились и такие, кто вопреки людскому естеству пожирал человеческое мясо».
Филипп фон Гуттен (1511–1546) — конкистадор, оставивший после смерти дневники и письма к родным. Они представляют собой бесценный источник по истории конкисты XVI века. Фото: INTERFOTO/PHOTASНа пороге Эльдорадо Вернемся к Шпейеру и его правой руке Гуттену. Трудности, выпавшие на долю их экспедиции, Гуттен описывает в одном из своих писем: «Поистине ужас берет, когда вспоминаешь, чего только не ели христиане во время похода, а ели они всяких непотребных тварей — ужей, гадюк, жаб, ящериц, червей и еще травы, корни и прочее, что непригодно для пищи; притом находились и такие, кто вопреки людскому естеству пожирал человеческое мясо».Экспедиция двигалась на юг вдоль Восточной Кордильеры. Неоднократно Шпейер слышал от индейцев, что за горами на западе живет богатый народ (те самые муиски, до которых добрался Федерман). Трижды отряд пытался преодолеть горную гряду и трижды откатывался назад. В поисках прохода Шпейер упрямо продвигался на юг. Дорогу экспедиции преградила река Мета, столь бурная, что нечего было и думать о переправе. Восемь месяцев Шпейер шел вдоль нее, отыскивая брод, и только когда кончился сезон дождей, смог переправиться на другой берег. И снова на юг. В верхнем течении реки Гуавьяре, в 1000 км от Коро, касик индейского племени подарил губернатору несколько золотых украшений, которые якобы происходят из страны, где живут одни женщины. Путь в нее лежит через владения племени людоедов и богатые золотом земли отважных омагуа. Шпейер отправил на разведку 20 человек.
Через три недели возвратились двое — они сообщили, что отряд попал в засаду и был перебит. Шпейер и Гуттен, пребывавшие в уверенности, что стоят на пороге Эльдорадо, невзирая ни на что хотели двигаться дальше, но солдаты взбунтовались и решительно потребовали возвращения домой. Из 360 человек Шпейер в мае 1538 года привел в Коро лишь 90, и, по словам Гуттена, «одежды на них было не больше, чем на индейцах, которые ходят нагишом».
В реляции, отправленной колониальным властям в Санто-Доминго, Шпейер утверждал, что «не дошел всего двадцать пять лиг (около 140 км) до цели, которая стоила стольких трудов и жизней христиан». Он готов был сразу же отправиться в новую экспедицию, но Коро настолько обезлюдел, что ему пришлось набирать волонтеров в Санто-Доминго. Подготовка нового похода растянулась на три года. В июне 1540-го Шпейер скоропостижно скончался, губернатором Венесуэлы и генерал-капитаном экспедиции был назначен Филипп фон Гуттен. В его распоряжении было всего около полутора сотен человек, и все же он дерзнул отправиться покорять Эльдорадо.
Вожделенное золотое царство Из описания города Куарика, составленного в 1570-е хронистом Педро де Агуадо со слов «очевидцев»: «С той возвышенности сам генерал-капитан и все, кто его сопровождал, увидели неподалеку город огромных размеров, таких, что даже вблизи нельзя было разглядеть, где он кончается; в том городе дома стояли кучно, но по порядку, а в середине находилось здание, размерами и высотой намного превосходящее все прочие дома; и когда спросили индейца-проводника, что это за строение, столь отличное по своей пышности от прочих, тот ответил, что это дворец правителя сего города Куарика и что во дворце том, помимо золотых идолов размером с подростка и золотого изваяния женщины, которую почитают богиней, есть и иные сокровища».

1. Георг Хоэрмут фон Шпейер (второй немецкий губернатор Венесуэлы) при полном параде отправляется в заокеанскую экспедицию. Его провожал весь банкирский дом Вельзеров
2. Вместе со Шпейером в Америку отправился Филипп фон Гуттен (на заднем плане), романтик, мечтающий узреть чудеса далеких земель
Исчезнувший город В июле 1541 года экспедиция тронулась в путь. Тысячу километров Гуттен шел на юг по маршруту Шпейера, затем, поверив очередным россказням индейцев, свернул на восток, чтобы через год напрасных блужданий по равнинам вернуться в исходную точку. Обескураженные конкистадоры потребовали возвращения домой. Но Гуттен не пал духом и заявил, что пойдет даже один. К нему присоединились еще несколько десятков сорвиголов, и небольшой отряд двинулся на юг. К концу 1544 года он вышел на Амазонскую низменность и достиг экватора.
Дальше эта история превращается в загадку, которая долгое время не давала покоя искателям сокровищ Эльдорадо. По свидетельствам Гуттена и участников похода, а также хронистов, конкистадоры действительно вторглись во владения омагуа и приблизились к их столице, большому и богатому городу Куарика. Но, что удивительно, с тех пор никому не удалось отыскать ни такого народа, ни этого города. Как пишет хронист Педро де Агуадо, невдалеке от города христиане увидели двух индейских воинов с копьями. Пораженные видом чужестранцев, те бросились бежать. Гуттен вскочил на коня и поскакал вдогонку. Настигнув индейца, он попытался схватить его за волосы, но тот увернулся и вонзил копье в подмышку всаднику.
На следующее утро тишину разорвал грохот барабанов. От города двигалось войско, разделенное на 15 колонн по 1000 человек в каждой. Вождя несли впереди в паланкине, украшенном перьями попугаев. 15 000 против 40 воинов, один из которых ранен! Но отступать было поздно. В результате стремительной кавалерийской атаки воины, окружавшие вождя, были перебиты, а сам он лишился головы. И сразу же грянул залп аркебуз. С воплями ужаса омагуа бросились врассыпную.

Правитель мифической страны Эльдорадо. Индейцы-придворные покрывают его золотой пылью. Европейская гравюра, начало XVIII века . Фото: AKG/EAST NEWS
Окрыленный успехом, Гуттен собрался было взять город, но соратники остудили безумца: силы были слишком неравны, а на эффект внезапности рассчитывать больше не приходилось. Пришлось Гуттену возвращаться в Коро с надеждой набрать новый отряд и завоевать Куарику. Теперь-то он знал, где находится Эльдорадо.
По возвращении Гуттена ждал неприятный сюрприз. Почти пять лет заняла его экспедиция — самая длительная в истории конкисты, и колонисты, потеряв надежду увидеть губернатора живым, не дожидаясь решения Вельзера, выбрали вместо него Хуана де Карвахаля.
Человеком он был властолюбивым, деспотичным, коварным, но при этом достаточно разумным, чтобы прекратить поиски мифического Эльдорадо и заняться обустройством вверенных ему земель. Большую часть колонистов он переселил из Коро южнее, в долину Эль-Токуйо, плодородную и с более здоровым климатом. Сюда по пути в Коро пришел отряд Гуттена, и два губернатора встретились.
Карвахаль предложил немцу добровольно уступить ему власть, но получил отказ. Тогда Гуттен был убит. Спрятать концы в воду Карвахалю не удалось — он был осужден и повешен. Но что любопытно: хотя на процессе мотив убийства был точно установлен — борьба за власть, — в Европе все пребывали в уверенности, что Карвахаль убил Гуттена с целью завладеть сокровищами, которые тот якобы привез из Эльдорадо, и картой с маршрутом к городу Куарика. Гуттен оказался последним немецким губернатором Венесуэлы, после его смерти колония фактически перешла под управление испанцев. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7511/
Андрей Кофман. [/MORE]

Шано, блог «Архив Шано»
* * *
Очередной текст, написанный по заказу Гостелерадио Гламурного Журнала, но представляющий и некоторую негламурную ценность. Первые его две части довольно жесткие, поэтому под кат заглядывайте с осторожностью.
скрытый текст[MORE=читать дальше]Тем, кто интересуется вопросом более подробно, рекомендую «Психоисторию» Ллойда Демоза, «О процессе цивилизации» Норберта Элиаса, а так же труды Арно Грюна и Кристианен Бассиюни.
«Золотое детство», «счастливое детство», «детство – беззаботная пора» - знакомые выражения? Мы редко задумываемся о том, как изменились в ходе истории человечества нормы жизни, представления о плохом и хорошем, жестоком и добром, правильном и неправильном. А между тем, это так, и детство наших предков очень трудно назвать «лучшими годами жизни». Более того, чем дальше мы заглянем вглубь истории, тем больше увидим жестокости к детям.
Есть два главных условия здоровой душевной жизни ребенка (помимо любви): эмпатия и последовательное воспитание: когда понятно, за что именно тебя наказывают или хвалят, что можно, а что нельзя – при этом «нельзя» не чересчур много, а «надо» выполнимы.
Последовательность в воспитании появилась далеко не сразу: первобытные предки легко били и убивали детей, но не в наказание за проступок («у нас за это едят»), а по прихоти родителей или из-за суеверий племени.
Эмпатия же к детям (способность с помощью сопереживания внимательно относиться к чувствам другого человека) зародилась относительно недавно и в нашей стране до сих пор отнюдь не стала общепринятой нормой.
Дети (особенно собственные) – это главный объект проекций взрослого. Например, если взрослый в глубине души считает себя плохим, порочным, полным недостойных желаний, то он будет уверен, что и ребенок их испытывает. Если взрослый бессознательно полагает, что заслуживает наказания, то будет наказывать детей и т.п.
Кроме того, большинству взрослых свойственно делать с детьми именно то, что с ними делали в детстве (хотя есть люди–исключения, а так же те, кто, так или иначе, проработал свои проблемы).
Каждый стиль воспитания формирует свой тип характера, с присущими ему психологическими особенностями и проблемами. Поэтому общепринятое отношение к детям в конкретном обществе формирует то, какие люди будут составлять это общество спустя 20 лет и позже. Хотя в каждую эпоху есть люди, которые психологически отстают от своего времени (человека, считавшегося совершенно нормальным в архаическом обществе, мы сегодня назовем сумасшедшим) или опережают его (и становятся либо носителями прогрессивных идей, либо невротиками, которые с трудом справляются с жестокостью окружающего их мира – совершенно нормальной для их современников).
К счастью, на всем протяжении истории человечества в каждом поколении родителей появлялись те, кто относился к своим детям лучше, чем это было принято в его детстве. Именно благодаря таким людям отношение к детям постепенно становится более добрым и принимающим. В этом кроется причина определенного психологического прогресса: человечество психологически взрослеет, очень медленно (и неоднородно) двигаясь от состояния психики, свойственного младенцам к относительной зрелости.
Архаическое общество
О том, как обращались с детьми люди первобытной культуры, мы можем судить как по археологическим данным, так и по тому, как ведут себя с детьми сегодня австралийские, африканские и другие племена охотников и собирателей.
В архаическом обществе детоубийство – широко распространенное явление, обыденная норма, а ребенок просто не считается человеком до того, как в подростковом возрасте пройдет кровавый обряд инициации (во время которого совершенно не обязательно сможет выжить). Ребенок – это нечто не имеющее ни чувств, ни прав. Поэтому детоубийственные импульсы (возникающие в любой культуре) не считают нужным подавлять.
Родители охотно едят детей, причем не от голода, а ради удовольствия (это называется «голод к младенцам») или с магическими целями. Оставшихся детей воспитывают в суровом небрежении.
Даже в тех племенах, которые вызывают похвалы антропологов внимательным отношением к малышам, это внимание обычно только к нуждам тела, а не к чувствам. Исследователь воспитания у аборигенов А. Хипплер писал: «Я никогда не видел, чтобы хоть один взрослый йолнгу, любого пола и возраста, прогуливал малыша, начинающего ходить, показывал ему мир, объяснял что-нибудь, проявлял эмпатию к его потребностям». И даже физически заботливые матери без переживаний убивают или бросают своих детей, с которыми еще за неделю до того возились.
Каким вырастет ребенок, в воспитании которого нет никакой последовательности? До душевных потребностей которого никому нет дела? Которого не считают человеком?
Став взрослым, так выращенный человек живет в постоянном страхе перед жестоким и непредсказуемым миром. Он придумывает себе чудовищных божеств, которых надо подкупать человеческими жертвами – они символизируют его непоследовательных и жестоких родителей. Он вынужден постоянно совершать магические обряды, чтобы хоть немного уменьшить мучительную тревогу. Радость его всегда омрачается страхом расплаты, поэтому, когда происходит что-то хорошее, нужно срочно умилостивить жестоких божеств, а то отнимут: именно так поступали с этим человеком его родители. Он не ощущает границ своей личности (их постоянно нарушали в его детстве; фактически, их даже просто не определили), поэтому никогда не становится душевно зрелым отдельным человеком, а только частью племени – ведь и его родители провели жизнь в том психологическом слиянии с другими, которое в нашей культуре свойственно только младенцам. Насилие для него норма: жизнь первобытных племен полна кровавых обрядов и традиций (инициации, каннибализм, охота за головами и т.д.). Он не знает ни вины, ни ответственности. Он предпочитает суровые условия жизни и вечные лишения, так как это соответствует его внутренней жизни. Он жесток к своим детям.
Античное и раннее христианское общество (до 4 века н.э.)
Появились жестокие наказания «по поводу» – в этом были зачатки последовательности и внимания к детям (пусть и отрицательного), что, как ни странно, было шагом вперёд.
Ребенок считался собственностью родителей, с которой можно законно делать всё, что захочется: детоубийство оставалось нормой. Аристипп говорит, что мужчина может делать со своими детьми все, что ему заблагорассудится, ибо «разве мы не сплевываем лишнюю слюну или не отшвыриваем вошь, как нечто ненужное и чужеродное?».
Убивали почти всех незаконнорождённых и огромный процент законных детей; девочек – гораздо чаще, чем мальчиков. Как писал Посейдипп «даже богатые люди почти всегда бросают дочь».
«Бросают» – это вовсе не «отдают в приют», «бросают» – это убивают или выбрасывают. Если брошенный ребенок выживал, то обычно становился рабом или храмовой проституткой.
Повсеместно одобрялось убийство больных и слабых детей. Сенека писал: «Мы разбиваем голову бешеному псу; мы закалываем неистового быка; больную овцу мы пускаем под нож, иначе она заразит остальное стадо; ненормальное потомство мы уничтожаем; точно так же мы топим детей, которые при рождении оказываются слабыми и ненормальными. Так что это не гнев, а разум, отделяющий больное от здорового».
Легальным было принесение детей в жертву для религиозных обрядов и других нужд (например, замуровывание в стену при закладке здания).
Сексуальное использование детей, в том числе самых маленьких, считалось нормальным и законным – упоминаниями об этом полны античные переписка, мемуары и философские трактаты.
Человек античности жил в пугающем мире кошмаров и суеверий. Он растворялся в окружающих. Боги – проекции бессознательных страхов и родительских фигур, по-прежнему требовали жертв, часто человеческих и отличались жестокостью и непоследовательностью (вспомним мифы древней Греции, где боги ведут себя как шайка распоясавшихся хулиганов), хотя в отличие от хтонических чудовищ первобытных предков, уже приобрели человеческие черты. Люди наслаждались насилием: бои гладиаторов, мастерские для калечения детей, живые картины, в которых использовали убийства и истязания и т.д.
Несмотря на интеллектуальную и эстетическую зрелость, несмотря на развитие философской мысли, эмоционально и психологически большинство людей античности находились на уровне детей до 3 лет: были жестоки, не умели сострадать и мечтали о еде и удовольствиях, в том числе садистических («хлеба и зрелищ!»). Хотя это был шаг вперед, по сравнению с младенческим состоянием психики человека в архаическом обществе.
С 4 по 13 век нашей эры
В Европе сказывается влияние христианства: детоубийства становились не такими распространенными и считались не законными (хотя детская смертность всё ещё очень высока, в частности потому, что о безопасности детей очень мало заботятся).
С первых дней жизни детей отсылали на несколько лет кормилицам (все, кому позволял доход), а потом в услужение, в заложники (в дворянских семьях), в монастыри или просто на воспитание в другие семьи.
Характер людей в это время меняется. В прежние времена главным страхом детства было то, что тебя убьют, а теперь, что тебя покинут: родители, а потом и Бог, на которого средневековые люди проецировали свой детский страх оставленности. С этим связаны тоска, страхи и агрессия человека этой эпохи. Чтобы справляться с этими переживаниями люди объединялись в группы, символизировавшие родство и близость: феодальные структуры (король или сюзерен начинают восприниматься как отец), монастырские и цеховые братства.
С 13 по 18 век
Отношение к детям стало двойственным: дитя видят одновременно невинным и греховным. К сожалению, невинность ребенка нередко понималась в том смысле, что его невозможно растлить, что бы с ним не проделали, а «греховность» смиряли жестокими порками.
Ллойд Демоз в своей «Психоистории» писал об одном немецком школьном учителе, «который подсчитал, что в общей сложности отвесил 911527 ударов палкой, 124000 ударов плетью, 136715 шлепков рукой и 1115800 пощечин.
Детей били, они вырастали и в свою очередь били собственных детей. Так повторялось век за веком. Даже те гуманисты и педагоги, которые славились своей добротой и мягкостью одобряли битье детей. Жена Мильтона жаловалась, что не выносит криков своих племянников, когда муж их бьет; Бетховен хлестал учеников вязальными спицами, а иногда колол. Даже принадлежность к королевской семье не освобождала от побоев, чему пример – детство Людовика XIII. За обедом рядом с его отцом лежал кнут, а сам дофин уже в 17 месяцев прекрасно знал, что, если ему показали кнут, надо замолкнуть. В 25 месяцев его начали бить регулярно, часто по голому телу. Руссо рассказывает, как младенцев уже в первые дни били, чтобы успокоить. Одна мать пишет о своем первом сражении с четырехмесячным младенцем: «Я лупила его, пока рука не устала, буквально живого места не оставила, а он хоть бы на йоту уступил».
Большинство средневековых авторов описывает очень суровые сцены избиения».
Юристы 13 века оценивали положение дел так: «Если ребенка бьют до крови, это будет ему хорошая память, если же его забивают до смерти, тут дело касается закона».
Детей повсеместно жестоко запугивали, разделяя с ними страхи взрослых перед ведьмами и нечистой силой – в которых явно звучали отголоски психологической памяти о тех временах, когда детей поедали: ведьмы и чудовища из этих карательных фантазий, призванных усмирить ребенка, обычно едят детей.
Детоубийство уже осуждается, но только убийство законных детей. Именно повсеместное убийство незаконнорождённых младенцев породило миф о том, что «в старые добрые времена мораль была выше, и незаконнорождённых детей, если верить переписям, почти не было». Совершенно верно, не было – их просто убивали. По этой же причине, а не потому, что люди были чище и лучше, не было детских приютов: до детей, гибнущих на улицах, просто никому не было дела. Только в 1740-х появился первый детдом – госпиталь для брошенных детей открытый в Лондоне купцом Томасом Корамом.
Сопереживание всё ещё оставалось на зачаточном уровне, поэтому «добрый христианин» мог с удовольствием пытать врагов или выходить на большую дорогу, грабить и убивать проезжих, а жестокие казни считались шоу, на которые ходили семьями. Отличительной психологической чертой средневекового человека стал садомазохизм (в отличие от прежнего откровенного садизма): жестокость к другим сочеталась с жестокостью к себе: нанесение себе ран, психические эпидемии самоизбиений и других самодеструкций, умерщвление плоти, слепое подчинение церкви и феодалу.
Хотя желание слиться с группой (цехом или церковью) еще очень велико, у человека уже появился совершенно определенный образ целостного собственного «я».
Духовным идеалом стали гуманные христианские ценности: им обычно еще не могли следовать, но именно они уже были желанными. Количество людей, способных заботиться о ближнем и проявлять доброту очень медленно, но увеличивалось.
Всплески прежних страхов перед жестокими убивающими матерями (групповые страхи отмирают медленно и с рецидивами) приводили к охоте на ведьм, которым приписывали все качества чудовищных божеств архаического общества.
В 18-19 веке отношение к ребенку формулируется так «если ты будешь идеальным, не станешь вызывать у меня никаких искушений и дашь мне полностью контролировать твои чувства и волю, то я позволю тебе быть рядом со мной и буду тебя любить».
Детей с самого раннего возраста приучают к туалету (раньше они свободно «пачкали углы»), появляется запрет на мастурбацию и стремление, чтобы ребенок был чистым морально и физически. То есть, не напоминал взрослым об их запретных желаниях – не только сексуальных, а порой о совершенно невинных, но подавленных потребностях в эмоциональной свободе или спонтанности.
Ребенок, который не следует правилам: шалит, проявляет закономерный интерес к своему телу или просто слишком эмоционален – считается злокозненным и неправильным, его надо исправлять (желательно битьем, запугиванием и голоданием). Ребенок, которому удается справиться с родительскими требованиями, получает родительскую благосклонность (правда, бессознательно ощущает, что его любят только до тех пор, пока он ведет себя идеально, то есть любовь – более, чем обусловленная).
Воспитание стало набором последовательных, но очень строгих правил: и вместо людей, объятых тревогой, вырастают люди, не получившие душевного тепла, эмпатии и возможности выражать чувства. Поэтому главными чертами характера стали депрессивность, подавленность, мучительное терзающее чувство вины и психосоматические заболевания. Люди нового времени уже не боялись, что их покарают непредсказуемые божества, поэтому смогли произвести научную, индустриальную и технологическую революцию. Появились более теплые отношения в браке и личной сфере (правда, далеко не повсеместно).
ХХ -ХХI век
Начиная с конца ХIХ века и до наших дней, в Европе (хотя между разными европейскими странами есть в этом смысле существенная разница) и США преобладает социализирующий стиль воспитания детей, в котором последние несколько десятков лет появляются вкрапления поддерживающего, помогающего стиля.
Хотя даже в самых развитых странах хватает людей, обращающихся с детьми «как в старые добрые времена». Позиция «я боялся своего отца, так пусть и мои дети боятся меня» очень распространена. К тому же существует недооцененный феномен зависти к своим детям. Она обычно не осознается, но если вывести это ощущение на сознательный уровень, получается «а почему это ты должен жить лучше, чем жил я?».
В России социализирующий стиль тоже достаточно широко распространен, но далеко не повсеместно: побои, моральное и физическое насилие над детьми – в нашей стране скорее правило, чем исключение.
Проиллюстрирую опубликованными воспоминаниями актрисы Ольги Тумайкиной (замечу 1972 года рождения – далеко не начало ХХ века): «Мама отдала меня своим родителям в глухую таёжную деревню в два года. Так было принято – ребёнок до школы набирается сил. А в деревне воспитывают строго. Иначе нельзя: хозяйство большое, нужно всегда быть на подхвате. Помогать и не жаловаться. Я и не жаловалась. Однажды в лесу пропорола гвоздём ногу и до дома терпела, никому не сказала. Знала – попадёт. Ещё как-то зимой полоскала бельё в проруби и упустила простыню. Страх наказания был так велик, что я бежала километр или два по льду до порогов, где вода не замерзает, и выловила-таки её! Вся побилась, поморозилась, но опять никому ничего не сказала. В нашей семье дети не приучены беспокоить взрослых. Сын дяди, Кирилл, когда ему было десять лет, упал с велосипеда. От травмы в паху образовалась саркома, и он очень быстро сгорел. Врачи говорили, что если бы Кирилл вовремя сказал о своей боли, его можно было спасти. Но мы привыкли терпеть…».
К сожалению, более чем закономерно, что Ольга вышла замуж за человека, который бил ее и унижал морально, и молчала о том, что происходит в ее супружестве: привычка терпеть, если не преодолевать ее специально, остается на всю жизнь. Таких примеров в России очень и очень много.
Последовательности и эмпатии тоже часто не хватает. Вспомним, сколько родителей без всяких объяснений меняют «нельзя» на «можно» и наоборот, а лучшим объяснением считают «потому что я так сказал». Главной психологической проблемой России является проблема личностных границ.
О Японии, Китае, Индии и арабских странах я в этом тексте говорить не буду, так как это отдельная большая тема.
Но вернемся к социализирующему стилю:
Социализирующий стиль
У родителей, воспитывающих дочерей и сыновей в этом стиле, проекции на детей становятся всё слабее, поэтому родители хотят не столько взять ребёнка под полный контроль, сколько направить его на правильный (по их мнению) путь. Главное желание родителей теперь социализировать ребёнка, встроить в общество. Ребёнок считается хорошим, когда он ведёт себя социально одобряемо (слушается старших, вежливо здоровается и т.д.). Он по прежнему «должен» родителям, но уже не прислуживать в доме или терпеть побои, а быть социально успешным: хорошо учиться, «быть самым лучшим», «таким, чтобы мы могли тобой гордиться». Социальные успехи ребёнка становятся престижем родителей. Он нередко оказывается виноват, если «не оправдал»: «лучше бы я пошла работать, чем с тобой сидела!», «я столько в тебя вложил(а)!».
Практически вся Европа и США к началу ХХ века уже определились, что бить детей – нехорошо (впрочем, были исключения: например, Германия, где жестокие физические наказания были широко распространены вплоть до Второй мировой войны). Это вовсе не значит, что детей в Европе и Америке в ХХ совсем не били. Били, но обычно с оглядкой: побои либо скрывались, либо родители старались оправдаться совершенной невыносимостью ребёнка. В наше время контроль над телесными наказаниями детей в западных странах стал гораздо строже.
Детоубийство с ХIХ веке вызывает ужас, а сексуальное использование детей – такие тревогу и неприятие, что о нем предпочитают не говорить (из-за этого насилие над детьми часто остается безнаказанным – его боятся замечать и стыдятся преследовать). К сожалению, психологические травмы от использования детей, как морального, так и сексуального – одна из главных проблем в США и Европе ХХ-ХХI века.
Физический контроль над детьми при социализирующем стиле воспитания сменяется психологическим: битью предпочитают манипуляции и эмоциональный шантаж («веди себя хорошо, и тогда я…», «мальчики никогда не плачут» и т.д.).
Участие отца в жизни детей не только в качестве кормильца и наказывающей фигуры становится нормой. Всё меньше мужчин говорит «возиться с детьми женское дело», всё больше откликается на призывы жён «поговори с сыном», «дочке нужно твоё внимание». Да и количество мужчин, интересующихся своими детьми, душевно сближающихся с ними без напоминаний, увеличивается.
Между детьми и родителями появляется эмоциональная близость. Любимого человека по определению хочется радовать, и когда общество перестает «твердо знать», что только тотальная строгость и розга не дадут ребёнку стать аморальным и попасть в ад, всё больше родителей хочет доставить детям удовольствие, побаловать.
К сожалению, забота о ребёнке нередко бывает проективной: родитель удовлетворяет не истинные потребности ребенка, а свои за его счет; ребёнку дают то, что удобно дать родителям, а не то, в чём он нуждается.
Пример такого отношения, семьи, где у детей нет никаких ограничений, малейшие капризы мгновенно удовлетворяются без обсуждений, ребенка заваливают игрушками и подарками, но эмоционального контакта нет. Это своего рода способ откупиться вседозволенностью и попустительством от нужды ребенка в душевной близости и понимании. Баловать по-своему гораздо проще, чем вникать в чувства и потребности ребёнка или воспитывать в нем уважение к другим людям (без которого научиться уважению к себе самому невозможно). Кроме прочего попустительствующие родители часто незаметно для себя нарушают границы самого ребёнка.
Есть и категория родителей, которые стараются подкупить детей, так как это кратчайшая (хотя далеко не самая полезная для ребенка) дорога к их преданности. Такие люди нередко сравнивают себя с другими родственниками, против которых (порой бессознательно, а чаще вполне осознанно) настраивают ребёнка: «только мамочка тебя любит по-настоящему», «вот мать тебе не разрешает мороженое есть, а папа тебе всё что хочешь купит», «родители у тебя злые, а у бабушки всё, что хочешь можно делать».
Дети, получившие социализирующее воспитание гораздо меньше подавлены родителями, поэтому… позволяют себе злиться на них, обижаться, переживать, видеть достоинства и недостатки. (Для того чтобы испытывать агрессию к близким людям, особенно к родителям, тоже нужна определенная степень внутренней свободы и душевных сил). А значит, в конце концов, полюбить своих настоящих родителей, а не их идеализированные образы.
У людей ХХ века тоже есть жестокие потребности и желания, которые всё чаще (хотя не всегда) реализуются в символической форме: лучше смотреть фильм «Техасская резня бензопилой», чем публичные четвертования.
Для большинства наших современников, благодаря социализирующему стилю воспитания, очень важен социальный успех, ставший чем-то вроде религии: он определяет как идентификацию и самоидентификацию человека (на вопрос «Кто он?», люди чаще всего отвечают, называя профессию: «инженер», «бизнесмен»), так и его представления о качестве собственной личности и жизни. Например, слова «я ничтожество» или «я ничего не достиг» обычно означают отсутствие хорошей должности или высшего образования.
Ориентированность на социальное определяет устремления и выборы: люди часто отказываются от времени со своими близкими, личностного развития и других важных вещей ради карьеры.
Человек, воспитанный в социализирующем стиле, уже позволяет себе ощущать психологические потребности в любви, принятии себя (как другими, так и самим собой), поддержке и близости, но часто не умеет сформулировать и реализовать их. Из-за этого многие люди страдают от душевной пустоты и других экзистенциальных проблем, которые заглушают зависимостями: химическими (алкоголь, наркотики и т.д.), психологическими (деструктивные отношения, игромания и т.д.) и пищевыми расстройствами (булимия и анорексия). Собственно, именно эти психологические проблемы – самые распространенные на Западе, да и в России занимают заметное место.
Надежда на хэппи-энд
С середины ХХ века Европе очень медленно, буквально в виде единичных случаев, зарождается новый стиль воспитания – помогающий. Появляются родители, готовые прислушиваться к чувствам детей, доверять их эмоциональным потребностям, ценить близость с ребёнком, сочувствовать, когда ему плохо, создавать условия для его развития и интересов. Люди, которых воспитывают в этом стиле, обычно вырастают добрыми, искренними, хорошо знающими себя, творческими, адекватными и спонтанными. Они не страдают от депрессий и неврозов, у них сильная воля, они не склоняются перед авторитетом и легче, чем другие выдерживают прессинг.
[/MORE]
отсюда http://budurada.livejournal.com/119999.html
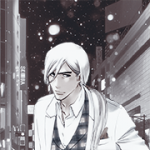
Darth Juu, блог «Мурлыкать можно»
Настроение последнего времени в одной картинке.
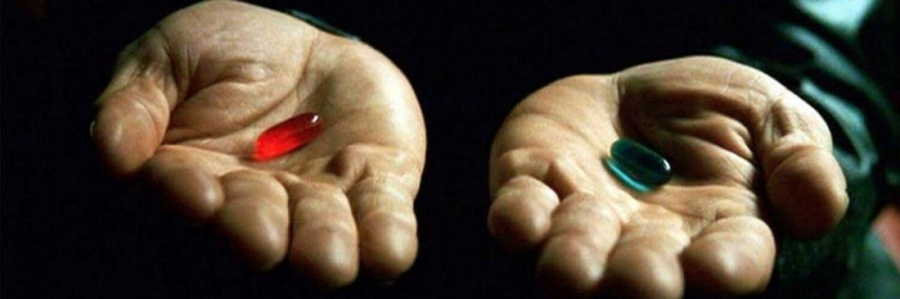
Именно так и никак иначе:)

Вопрос про игнорирование комментариев
Жаль, что нет на дайри такой опции — «игнорировать комментарии определённого пользователя», и пусть этот недоумок юзер пребывает в своём дневнике и там издаёт свои жалкие мысли, а если явится в комментарии вне своего дневника, его тексты просто не будут отображаться. Perfectかな~
Иногда забавно наблюдать за шизофрениками с гипертрофированной ипохондрией и проецированием своих проблем на других, но чаще — куда забавнее не наблюдать за плодами «творчества» шизофреников.
Хотя на БХ ведь тоже нет такой опции — «игнорировать комментарии определённого пользователя»? (такое вообще хоть где-то есть?)

