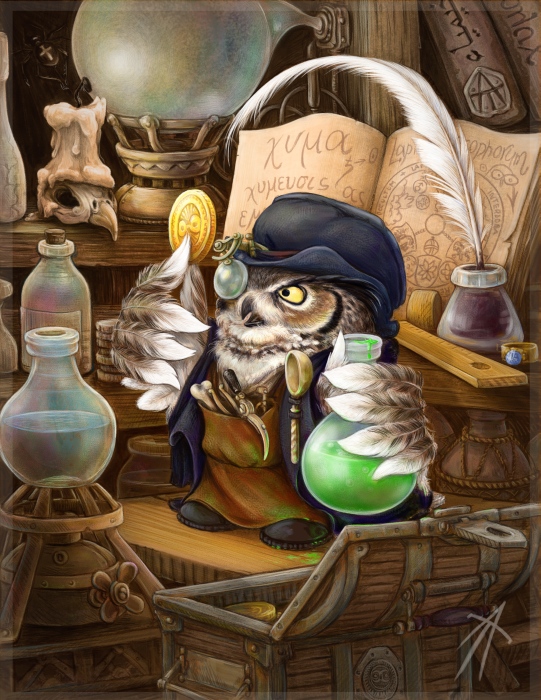День в истории Блогхауса: 8 февраля 2020

crome, блог «Send me a neon heart»
Une vieille maîtresse (2007)
Азия Ардженто в "Давней любовнице" Брейя появлялась в роли старой, некрасивой и вульгарной по меркам Парижа начала 19-го века испанки и каждый раз приносила с собой драму и страсти. Фуада Аит Аату Брейя якобы встретила в кафе и, не выясняя, умеет ли он играть, решила, что он ей нужен. Играть он, как выяснилось, все-таки умеет и у него получился персонаж, который сам себе каждый раз верит, хотя окружающим по его репутации понятно, чего от него следует ожидать.
Из персонажей второго плана больше остальных понравились невеста главного героя (нежная блондинка без каких-либо шансов в любовном треугольнике, в который ее занесло, но с характером) и ее бабушка. Особенно бабушка, которая время от времени вспоминала пришедшуюся на 18-й век молодость, а рассказ героя о безумных и нездоровых отношениях, порывах попить кровь человека, который вот только что внушал отвращение, и хейтсексе рядом с погребальным костром слушала, полулежа в кресле, с рюмкой и безмятежной улыбкой.

Psoj_i_Sysoj, блог «Мастер календаря»
Мастер календаря. Глава 15 — 18.02.2027. Чуси. Часть 2
Сяо Наньчжу не раз доводилось слышать, что зло никогда не возобладает над добром.
Бабушка постоянно говорила ему, что в этом мире добро и зло чётко разграничены, и если в твоём сердце главенствуют честность и справедливость, то тебе нечего бояться встать на скользкую дорожку.
Сяо Наньчжу твёрдо верил в эту истину, а потому, с чем бы он ни сталкивался, он никогда не чувствовал себя потерпевшим поражение — однако это необъяснимое упрямство отнюдь не способствовало безоблачности его жизненного пути.
Итак, глубокой ночью, в тот миг, когда Чуси сменил Няньцзю, перед окровавленным и грязным Сяо Наньчжу, который стоял на одном колене, силясь протереть глаза, предстала картина зла, подавляющего зло, насилия, предотвращающего насилие, убийства, препятствующего убийствам.
читать дальшеПеред его взором — ничего, кроме извивающихся потоков завораживающего кроваво-красного цвета.
Если истребляющего наваждений Няньцзю можно было уподобить сияющему льдистым светом белоснежному клинку, который рассекает тьму этого мира, то фигура, на миг ослепившая взор яркостью алых одежд, была подобна тысяче кровожадных духов, слившихся воедино в длинный окровавленный меч, жаждущий убийства. Хоть он истребил наваждений, окруживших Сяо Наньчжу, сам он нёс в себе куда более ужасающую опасность, чем все они вместе взятые.
— Очень хорошо.
Голос сочился холодом, однако от прикосновения кончика пальца нижнюю губу обожгло жаром. Шершавая кожа прошлась по ранкам на растрескавшейся губе — эти жгучие ощущения были почти невыносимы.
Поэтому, когда его подбородок приподняли, грубо удерживая его пальцами, раненый Сяо Наньчжу кое-как приподнялся, опираясь на здоровую руку, и совсем близко от себя узрел чёрные провалы зрачков. От разительного контраста зрачки самого Сяо Наньчжу невольно сузились.
По правде говоря, этого мужчину можно было назвать почти красивым.
Присущая ему от природы агрессивная красота идеально гармонировала с бледным без кровинки лицом. Ослепительно-красные одеяния, чёрные волосы и сияющие золотом латы тонкой работы — подобное сочетание могло свести с ума кого угодно.
В подобном ощущении подвластности было что-то неприятное — поэтому, на пару мгновений выпав из реальности, Сяо Наньчжу всё-таки воспротивился влечению этого обворожительного образа. Занервничав, он вырвался из хватки бледной руки и, пошатываясь и задыхаясь, поднялся на ноги.
— Вы… Чуси?
Его хриплый запинающийся голос заставил этого мрачного исполина опустить глаза на Сяо Наньчжу. Один этот взгляд наполнил его душу смятением — и, втайне проклиная себя, он отвёл глаза.
Прежде он не обращался с подобной вежливостью ни к одному из духов календаря: ни к Няньсы, ни к Няньу, над которыми он позволял себе подшучивать, словно над старыми приятелями.
Однако интуиция подсказывала ему, что Чуси — и впрямь птица совершенно иного полёта. Он никогда не сталкивался с мужчиной, который вызывал бы в нём такого рода сопротивление и отторжение. При взгляде на жалкое выражение Сяо Наньчжу на лице Чуси не отразилось ни единой эмоции — лишь слегка приподнялись уголки застывшего рта. Протянув окровавленную руку, он кончиком пальца коснулся побелевших губ Сяо Наньчжу:
— Тут кровь. — Голос звучал глухо, словно его язык шевелился с большим трудом.
При этих словах Сяо Наньчжу замер и бессознательно облизнул губы — в горле комом встал сухой металлический привкус, и это тошнотворное ощущение заставило его нахмуриться. В это мгновение он даже не заметил, насколько неподобающе это выглядело со стороны, и, лишь взглянув на Чуси, обнаружил, что тот по-прежнему не сводит с него этого странного, пронизывающего, угрюмого взгляда.
Эти глаза были холодны, словно декабрьский снег. По идее, канун Нового года должен быть весёлым и счастливым днём, однако в этом охраняющем покой конца года духе календаря не чувствовалось ни малейшего отголоска тепла, отчего он производил ещё более тяжёлое впечатление, чем недавние сонмища наваждений.
Это заставило Сяо Наньчжу припомнить то, что Няньсы говорил о многоликости Чуси: теперь, когда он собственными глазами узрел этого своеобразного бога календаря, до него в полной мере дошёл истинный смысл этих слов:
«Чуси-цзюнь [1] — наиболее могущественный из двадцати двух духов традиционных праздников. В прошлом у него был лёгкий и покладистый характер, как и у Хуачжао-цзюня [2] — он даже сердился редко и любил беззлобно подшутить над юными духами календаря…»
«Быть может, оттого, что он слишком долго выходил на стражу в конце года и убил чересчур много злых духов, его тело всё сильнее осквернялось тёмной энергией наваждений, и постепенно характер Чуси-цзюня в корне изменился — он больше не смеялся, стал скуп на слова, его обуяли мрачность и безнадёжность, он сделался жестоким и бессердечным. Раньше он был совсем не такой».
«Когда другие духи заметили это, было уже поздно. По счастью, несмотря на то, что нрав Чуси-цзюня сильно переменился, основа его натуры — стремление делать добро — осталась неизменной. Однако больше никто не осмеливался столь же легко заговорить или пошутить с ним…»
Всё ещё звучащие в ушах слова Няньсы заставили Сяо Наньчжу по-новому осмыслить пристальный взгляд Чуси. Теперь он мог с уверенностью сказать, что дух календаря страдал от своего рода психического расстройства, вызванного чрезмерным напряжением на работе без малейшей надежды на избавление.
В конце концов, психические заболевания современных людей отличаются изрядной причудливостью. Все эти обсессивно-компульсивные расстройства, трипофобия — а также куча других болезней, о которых и вслух-то не говорят; одним словом, если за вами не числится одного-двух синдромов, вас едва ли можно счесть нормальным человеком.
Так что Чуси, если не брать в расчёт его непрошибаемую мрачность, в остальном был очень даже ничего. Рассудив так, Сяо Наньчжу решил: если тот не будет создавать проблем, честно отслужив свой день, то и он не станет относиться к духу календаря с предубеждением. Однако, судя по тому, как Чуси отвёл взгляд, не похоже было, что он желает идти на контакт. Внезапно Чуси ледяным голосом гаркнул:
— Ко мне, скотина!
Как только отзвучали эти слова, раздался раздирающий уши звериный рёв.
Из-за раненой руки опешивший Сяо Наньчжу не успел обернуться вовремя, но он по-прежнему сжимал пистолет — сдвинув брови, мастер календаря передёрнул затвор и поднял ствол, намереваясь уложить тварь, которая устремилась к нему и Чуси.
Однако прежде чем он успел что-либо сделать, его повалила, прижав к земле, огромная туша с оленьими рогами, тигриными зубами, золотой чешуёй и гривой. Это похожее на льва чудовище голосило, подобно колокольному набату, и молотило хвостом перед бесстрастным лицом Чуси.
— Гав… Гав-гав-гав!
Сяо Наньчжу онемел от изумления.
Примечания Шитоу Ян (автора):
Как же я рада, что он наконец появился, ме-е-е~
А Чуси на поверку не так уж и страшен — мысленно прибавьте к собачьей крови толику садомазохизма и будьте спокойны, дорогие товарищи~ Теперь проволочек не будет — теперь, когда главный объект появился, скоро будет самое сладенькое~
А потому — не хотите добавить меня в избранное и накидать мне ещё комментариев, ха-ха? Всем спасибо за донаты, чмок-чмок!!! Оставляю вам эту милую скотинку, чтобы вы могли с ней поиграть~
Примечания переводчика:
[1] -Цзюнь 君 (-jūn) — в пер. с кит. вежливое «сударь, господин», также «государь, владетельный князь», а также «супруг».
[2] Хуачжао-цзюнь 花朝君 (Huāzhāo-jūn) — «утро цветов» (по поверью: день рождения цветов, 12-15-ый день 2-го лунного месяца).
Поздравляем дорогих читателей с Юаньсяо — Праздником фонарей!!!
Следующая глава

Mallari, блог «Судовой Журнал»
Удивления себе пост

Нарисовать фигню по фото?
Готово.
Надо нарисовать подарок?
Я пойду подумаю.... 
При том что мысль, что нарисовать и сделать есть, но я немного косоручка и ииии... не хочу хорошую идею запопртить своим исполнением.
Иррацеоональненько, да?)
Арабелла, блог «Старый замок»
Брак и правовое положение женщины ч.3
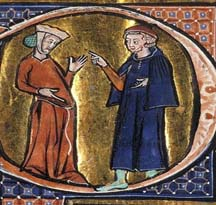
В Средние века брак как церковное таинство находился в ведении Церкви; таким образом, все вопросы, касающиеся заключения, расторжения и ратификации брака, решались посредством церковного суда. Однако, хотя брак и был церковным таинством, но главными лицами при этом считались брачующиеся, а не священнослужители. Как я уже писал ранее, теологи XII-XIII вв. полагали, что для заключения брака необходимо исключительно согласие обеих сторон и обмен клятвами, хотя бы и в отсутствие священника. Тем не менее, расторгнуть брак было гораздо сложнее, чем его заключить. Развод (расторжение брака) с дозволением вступить в новый брак, фактически, являлся привилегией самой высшей знати, поскольку в таких случаях, как правило, всерьез затрагивались вопросы наследования и передачи власти, и требовал многочисленных ходатайств и сложных процедур. До XV в. относительно малое количество подобных исков даже у высшего дворянства заканчивается разводами.
скрытый текстСуществовали некоторые условия, при несоблюдении которых мужчина и женщина не могли вступить в брак, а если вступали, то их союз являлся недействительным. К препятствиям такого рода относились: родство по крови и по браку (in-law), скрываемое бесплодие или импотенция (описание медицинского освидетельствования, с вашего позволения, цитировать не буду J)), монашеский обет, принесенный одной из сторон, ситуация, когда один из супругов не исповедует христианскую веру, вступление в брак по принуждению/без соблюдения необходимых формальностей. Как правило, большая часть разбираемых в судах жалоб относилась к последней категории, и судьям, преимущественно, приходилось решать, было ли дано согласие на брак должным образом. Что характерно, в Англии тяжущиеся в основном желали сохранения брака и признания его действительным; в Париже XIII-XIV вв., напротив, в суды поступало множество исков с просьбой о расторжении брака. В Кентербери в 1372-75 гг. из девяносто восьми « семейных жалоб», поданных в суд, лишь в десяти фигурирует просьба о расторжении брака.
Если таки стороны были решительно настроены расстаться, можно было пойти одним из трех путей. Во-первых, дождаться смерти одной из сторон :) (оставшийся супруг, в таком случае, мог законным образом вступить в новый брак, что зачастую и делал, отбыв траур). Если такой вариант никого не устраивал, суд мог дозволить супругам раздельное проживание – отныне они могли, буквально, «не делить постель и стол». Брак между ними существовал по-прежнему, т.е. ни мужчине, ни женщине не дозволялось вступить в новый союз, но, тем не менее, они имели право не жить в одном доме и не вступать в плотские отношения. Как правило, подобное решение выносилось, если в суд приносили жалобу на жестокое обращение (с «пролитием крови» и «угрозой для жизни»), реже – если одного из супругов уличали в прелюбодеянии.
Джон Смит из прихода св. Ботульфа клянется, что знает Уильяма Ньюпорта двадцать лет и даже больше, а Изабеллу Ньюпорт – десять или двенадцать лет. Все время, пока Уильям и Изабелла жили вместе как муж и жена в приходе св. Ботульфа и были соседями помянутого Джона Смита (т.е. пять или шесть лет), они непрерывно ссорились, бранились и дрались, к великой досаде всех соседей и тех, кто жил поблизости. Поговаривали и поговаривают, что Изабелла сама была виновата и не раз давала мужу повод. Джон Смит об этом знает, потому что зимой, два или три года назад, Изабелла вела себя особенно непокорно, и они с мужем так ссорились, что встревожили и обеспокоили всех соседей словами, каковые говорили друг другу… в том числе, они грозили друг другу смертью. Джон Смит видел их, иногда на крыльце дома, иногда на улице, то вместе, то порознь, и всякий раз слышал, как жена называла мужа вором и грабителем, а он ее шлюхой. И помянутой зимой Джон Смит увидел Изабеллу на пороге дома, и в руках у нее была брошь, застежкой от которой она пырнула мужа, так что могла бы убить его, если бы он не повернулся боком. Более того, она не раз называла мужа «рогачом», клянясь всем святым и всячески уверяя его, что она уже наставила ему рога и что сделала бы это еще не раз, если бы только кто-нибудь того пожелал. Тако же помянутый Джон Смит заверяет, что Уильям Ньюпорт человек трезвый и благонамеренный, с хорошей репутацией, а Изабелла публичная женщина, которая при людях произносила бесчестные слова и приглашала к себе мужчин, и сама бывала с ними в разных местах, и так случалось не раз, и помянутый Джон Смит это видел и слышал. И об этом хорошо известно в приходе св. Ботульфа и по соседству. Джон Мейдер из прихода св. Ботульфа, где он прожил двадцать лет, неграмотный, свободнорожденный, тридцати лет от роду, под присягой показал, что помянутая Изабелла всем известна как женщина дурной репутации, и что он часто слышал, как она называет Уильяма рогачом. Далее, он говорит, что много раз видел, как Уильям и Изабелла дерутся прямо на улице, и по большей части дралась Изабелла, а потому он полагает, что Уильяму опасно с ней жить, раз он не в силах ее обуздывать. Он говорит, что обо всем этом хорошо известно всем соседям.
(Изззвините, не удержусь:
There was a young man of high station
Who was found by a pious relation
Making love in a ditch
To — I won't say a bitch --
But a woman of no reputation)
Джоан Гибсон, жена Роберта Гибсона, пришла к своему родственнику (его жена была двоюродной сестрой Джоан), прося у него помощи и заступничества. Она была беременна, но сильно избита и с синяком под глазом, из которого сочилась кровь. Ее муж сидел в тюрьме за долги, и ей не на что было жить. Она рассказала, что навестила мужа в тюрьме и пожаловалась ему на тяготы, за что он ее и избил. Джоан попросила родственника, ради Бога, дать ей денег, чтобы купить еды и питья. Движимый жалостью, он отправил ее к врачу, но отказался поселить ее в своем доме или выделить содержание, поскольку она принадлежала другому мужчине; он согласился только подать ей милостыню, чтобы она не умерла от голода и нужды. (В дальнейшем Джоан подала на мужа в суд за жестокое обращение, с просьбой разрешить ей жить отдельно.)
Ричард Стайворд под присягой показал, что вскоре после заключения брака он избил свою жену Агнес, но не возьмется судить, могла ли она после нанесенных ей побоев поднять руку или нет. Ричард признает, что распоряжался имуществом, которое принадлежало отцу Агнес, а также приданым, которое она принесла ему в качестве жены, притом не против ее воли. Касательно того, выплачивал ли он каждую неделю Агнес деньги (содержание), пока еще суд не вынес решения, он отвечает, что должен был платить каждую неделю и делал это исправно в течение месяца или полутора, но поскольку суд перестал разбирать дела в преддверии Рождества и вдобавок Агнес тех денег от него не требовал, он перестал их платить. Также он признает, что сказал однажды: «Жалко, что я не сломал ей шею». Также он, по его словам, часто утверждал, что, если Агнес по решению суда к нему вернется, он изобьет ее сильнее, чем прежде, если она не переменит своего поведения.
Некто Джон Лич предстал перед судом за то, что позволил Дэвиду Холланду, портному, лежать обнаженным в постели с его женой. Все трое были на час посажены в колодки, а затем переданы для наказания церковным властям.
Роберт Сьюэлл, зеленщик, предстал перед судом за то, что позволил жене совершить прелюбодеяние со своим слугой Томасом Мартином. (Ходатайство о дозволении разойтись было подано в связи с тем, что муж занимался сводничеством и склонял жену к проституции.)
Третий вариант – так называемое «расторжение уз» - это, по сути, признание брака недействительным. В таких случаях, мужчина и женщина считались как бы и не вступавшими в брак. Такое решение выносилось, если брачный контракт с самого начала был заключен незаконным образом, т.е., как бы не существовал. Например, если выяснялось, что вступивший в брак мужчина уже женат, то новый брак признавался недействительным, поскольку нельзя быть женатым одновременно на двух женщинах.
Джон Элм обратился в Йоркский суд с просьбой признать незаконным брак с его женой Марионой; он признал, что, до того как вступить с ней в брак, он обменялся брачными клятвами с Изабеллой Брайгэм.
Эдвард Дронфилд развелся со своей женой Маргарет на том основании, что восемнадцать лет назад она вступила в брак (обручилась?) с другим мужчиной (на тот момент ее первый муж находился в плену в Шотландии). (Теоретически, могли заключить новый брак те женщины, чьи супруги попали в плен к врагу и чья судьба была неизвестна. Допустимый срок отсутствия был от пяти лет и выше.)
Иски с требованием аннулировать незаконный брак, как правило, подавали законные жены, пытающиеся восстановить справедливость. Впрочем, в некоторых случаях мужчины по необходимости – например, желая поправить свое финансовое положение – вступали во второй брак, а затем сами признавались в существовании первого, дабы расторгнуть нежеланный союз. Аннулировались и браки, заключенные по принуждению.
Энн Мунден под присягой показывает, что в канун Благовещения, четыре года назад, она и Тос (Томас) Лак вступили в брак в доме у Уильяма Берда из Уэйра, между тремя и четырьмя часами пополудни, в присутствии помянутого Уильяма Берда, сэра Джона Брэгинга и Ричарда Смита. Лак сказал: «Я, Томас, беру тебя, Энни, в жены», а она ответила: «Я беру тебя в мужья». И оглашение о браке было трижды сделано в церкви Уэйра. Однако в среду накануне Сретения блаженной Девы Марии, в том же году, ее принудили выйти замуж за Ричарда Булла в церкви Святой Троицы, что близ Гертфорда. За тринадцать дней до того помянутый Ричард Булл и некто Карл Ньюэлл похитили ее и силой удерживали против ее воли сначала в доме Карла, а затем в другом месте, вплоть до дня заключения брака, после чего Энн и Ричард прожили как муж и жена в доме Ричарда в течение двух лет.
Брак могли признать недействительным, если один из супругов на момент свадьбы еще не достиг «возраста ответственности» (почему-то особенно часто такие случаи попадались в Йорке; в Лондоне же, напротив, средний возраст вступления в брак в XIII-XV вв. был довольно высок – 22 года у женщин и 28 у мужчин), или же если супруги приходились друг другу родней, кровной или in-law (золовка, зять, свояченица, шурин, кума, крестник и т.д.). Близким считалось родство начиная с троюродных сестер и братьев – это подтвердил Латеранский собор в 1215 г. (поскольку родство более дальнее зачастую было весьма проблематично доказать). Юристы с прискорбием констатировали, что это условие порой давало возможность избавиться от нежеланного или надоевшего брака (т.е., муж или жена вдруг «вспоминали», что вступили в брак с родственником). Бывали случаи и совсем нелепые.
Некто Питер Дейнс заявил, что приходится двоюродным родственником Ричарду Броуку и что он плотски познал жену Ричарда Джоан до брака. На этом основании он требовал признать брак между Ричардом и Джоан недействительным. На суде, тем не менее, он не смог объяснить, какое именно родство между ним и Ричардом – он сказал лишь, что у них был некий общий предок, чье имя ему неизвестно, зато он точно знает, что они с Ричардом происходят от двух сестер, которые приходились этому человеку внучками. (Нашему забору двоюродный плетень)
Так или иначе, документы свидетельствуют, что, по большей части, люди обращались в суд в надежде сохранить брак, а не расторгнуть узы. Обещание жениться, раз уж была произнесена определенная формула («я беру тебя в свои законные жены…» и т.д.), было нерушимым. Самовольное расторжение подобной договоренности, вместо того чтобы официально «закрепить» ее в церкви посредством венчания, в глазах закона считалось преступлением. Отвергнутая сторона, как правило весьма заинтересованная в том, чтобы прояснить свое положение, могла подать иск, и, если улик было достаточно, суд мог потребовать официального заключения брака.
Кэтрин Бервелл, в присутствии двух свидетелей-мирян и священника из Ламбетского прихода, встретилась возле таверны «Голова сарацина» со своим мужем Уильямом, который бросил ее пять лет назад. Однако примирить их не удалось, поскольку Уильям заявил, что перережет Кэтрин горло, если его принудят с ней жить, - и тогда Кэтрин с полным правом подала в суд жалобу на жестокое обращение.
Иными словами, невозможно было обратиться в суд с просьбой о расторжении брака, если только к тому не было самых веских причин (кровное родство, заключение брака незаконным образом и т.д.). И если суды порой и разрешали супругам проживать раздельно, то их весьма и весьма редко полностью освобождали от брачных обязательств, давая им право заключить новый брак. Хотя средневековые люди, как и современные, обращались в суд, надеясь добиться некоторой выгоды для себя, границами служили реальные возможности тогдашней юриспруденции.
Разумеется, существовал и нелегальный способ расторгнуть опостылевший брак – попросту сбежать. Мужья или жены, которым не посчастливилось в браке, порой перебирались в иное графство, где их никто не знал, меняли имя и заводили новую семью. Судебные записи подтверждают, что такое случалось нередко, хотя и не всегда проходило безнаказанно.
Интересным явлением в средневековой Англии было то, что часть бракоразводных дел проходила не через церковные суды, а решалась чисто юридически. Например, Эдмунд, граф Корнуэльский, и его жена, Маргарет, договорились в 1294-м году, что Маргарет будет жить отдельно от супруга, получит финансовую компенсацию и не станет обращаться в церковный суд с требованием восстановить себя в супружеских правах. Разумеется, такие «саморазводы» церковь осуждала, но на практике о подобных случаях нередко узнавали лишь тогда, когда человек, «саморазведшийся» через обоюдный договор, вступал в новый брак, и о его прошлом каким-то образом становилось известно.
Купец Джон Астлотт собирался уехать из Англии по делам, когда Агнес Лот пришла к нему домой с просьбой сделать ей предложение до отъезда. Джон взял гуся, чтобы подарить отцу Агнес, и пошел свататься. Он получил согласие, молодые обменялись положенными клятвами, и пара была объявлена помолвленной. Так случилось, что в поездке Джон потерял много денег, и Агнес по его возвращении сказала, что не хочет за него замуж, и потребовала расторжения помолвки. Дело попало в епископальный суд, потому что Джон считал, что они после обмена клятвами являются законными мужем и женой.
Изабелла Ролл подала в епископальный суд жалобу на Джона Буллока, который обещал ей, что если он на ком и женится, то только на ней. Они отправились в спальню, а спустя некоторое время Джон Булок женился на другой.
Томас Варелтон из Кентербери поклялся в суде обращаться со своей женой, Матильдой Трипплс, с уважением в постели и за столом и обеспечивать ее всем необходимым в пище и во всем прочем соответственно своему достатку.
Хелен Хайдмен обратилась в суд за разрешением не жить больше с мужем, потому что он проиграл в кости много денег. Мужу пришлось поклясться перед судом, что он навсегда оставит азартные игры.
Элис Палмер, недовольная своим браком с Джеффри Брауном, дала Ральфу Фолеру 5 шиллингов, чтобы он поклялся, что между ними был предварительный обмен брачными клятвами. Ральф Фолер взял деньги и дал в суде ложные показания, и брак Джеффри с Элис признали недействительным (впоследствии помянутый Джеффри женился вторично). Но Элис со временем раскаялась в своем поступке и заявила в епископальный суд о своих законных правах на Джеффри, потому что развели их на основании ложной присяги.
Эдмунд де Насток и Элизабет де Людхэйл тайно поженились. После этого Эдмунд попросил у Ричарда де Брука руку его дочери Агнес, женился на ней и получил за ней приданое. Тогда Элизабет подала в жалобу в суд и объявила, что является законной женой Эдмунда. Брак Эдмунда с Агнес объявили недействительным, но Эдмунд заявил в суде, что имеет право оставить у себя половину полученного за Агнес приданого. Тем не менее, приданое у него отобрали и к тому же обязали по приговору суда заплатить Агнес 16 фунтов за ущерб.
https://tal-gilas.livejournal.com/183020.html
Арабелла, блог «Старый замок»
Брак и правовое положение женщины ч.2

скрытый текстНо, с другой стороны, ощутимое повышение статуса женщин происходит с расцветом культа Девы Марии (XII—XIII вв.) – «новой Евы» - которая искупила грех прародительницы тем, что дала рождение Христу. Негативный взгляд на женщину и на ее природу, безусловно, преобладал, однако в средневековье существовала и традиция более благосклонного отношения к женской природе. Она отражена, в частности, в трактатах, затрагивающих вопрос о достоинстве происхождения мужчины и женщины. Так, Петр Ломбардский (сер. XII в.) комментирует то положение Книги Бытия, согласно которому женщина создана из ребра Адама. Если бы она была создана из головы мужчины, рассуждает писатель, то должна была бы управлять им; если бы из ног, то должна была бы служить ему, — но она не слуга и не хозяин. Поэтому мужчина должен знать, что женщину следует поместить рядом с собой, как своего товарища, и что связь между ними основана на любви. "Ко всем женщинам" — так назвал свою проповедь монах-доминиканец XIII в. Хуберт Романский. Он утверждает, что по природе, благородству и славе женщина превосходит мужчину (Адама Бог создал на презренной земле, женщину же — в раю; мужчина сотворен из праха земного, женщина же — из «белой кости»; страдания Христа пытались предотвратить женщины, в то время как ничего не известно о подобных усилиях мужчин; и, наконец, Богородица расположена в иерархии сил небесных над всеми, в том числе над ангелами).
Во всяком случае, средневековое европейское общество никогда не было настолько женоненавистническим, чтобы, предположим, убивать новорожденных девочек. В деревне женщина была почти равна – если не полностью равна – мужчине по количеству работ, которые могла выполнять. А женщины из высших слоев общества всегда пользовались определенным уважением. И конечно, они сыграли главную роль в куртуазной культуре как вдохновительницы и поэтессы – Элеонора Аквитанская, Мария Шампанская, Мария Французская и другие. Что характерно, в XII-XIII вв. ни один аглийский юрист не делает внятных заявлений по поводу положения женщины, поскольку для современников оно очевидно: частное право, за немногими исключениями, равняет женщин с мужчинами; общественное (публичное) право не дает женщинам привилегий и не требует от них обязанностей, кроме уплаты налогов и выполнения услуг, какие она способна оказать как помощница мужчины.
Согласно древнему правилу, женщина не может быть объявлена вне закона, потому что она изначально не включена в систему права. Нетрудно предположить, что у этого правила очень древние истоки. Но женщина может стать если не аутло, то «ничейной» (waif), что влечет за собой последствия, сходные с объявлением вне закона.
Как уже было сказано, женщины включены в частное право, регулирующее индивидуальные интересы и личные отношения, и приравнены в этом к мужчинам. При наследовании, несомненно, предпочтение отдается мужчинам, но это предпочтение вовсе не обязательное: так, за умершим наследует дочь, а не брат покойного. Женщина может владеть землей, даже если землевладение сопряжено с обязанностью военной службы (если она не в состоянии снарядить за свой счет отряд, то платит в казну дополнительный налог); она может оставлять завещание, заключать договор, подавать в суд и отвечать перед судом – лично, без участия опекуна. Она может обращаться с ходатайством от собственного лица, если ей угодно. Замужняя женщина может выступать в роли адвоката для своего супруга – и это практически норма. Вдова почти всегда является опекуншей своих детей; леди опекает детей своих арендаторов (сервов и свободных).
С другой стороны, женщины исключены из всех общественных отношений и не занимают общественных должностей – за немногими исключениями, которые либо являются почетными назначениями лично от короля, либо возникают в экстренных ситуациях. Когда на английский престол претендовала Матильда (1135-48 гг.), вопрос о том, может ли женщина унаследовать корону, обсуждался весьма горячо: жена английского короля никогда не являлась правительницей Англии, хотя в отсутствие мужа могла исполнять обязанности регентши и присутствовать в суде и на совете. Первой женщиной на престоле, которая официально назовет себя regina Anglorum, т.е. королевой Англии (а не женой или дочерью короля), будет Мария Тюдор.
Нередко возникал вопрос о том, вправе ли женщины обращаться в суд – особенно в суд графства как в более высокую инстанцию. Дворянка могла подать иск «от имени» фьефа, которым владела. Некоторые шерифы настаивали на персональном присутствии истицы в суде; но женщина могла подавать в суд и вести дело через посредника. Женщины не выступали в качестве присяжных, за тем исключением – кстати, нередким – когда шла тяжба о наследстве, и предполагаемый наследник утверждал, что на его имущество претендует «подставной» или незаконный ребенок. В таком случае в числе присяжных могли фигурировать почтенные матроны. Женщины могли давать показания в суде – во всяком случае, имена женщин-свидетельниц значатся в документах. Впрочем, во всех случаях, когда от истца требовали привести людей, способных свидетельствовать в его пользу, в документах практически нет упоминаний о том, чтобы кто-нибудь приводил женщину. Однажды, когда требовалось решить, является ли подсудимый свободным или сервом, суд напрямую отказался принять показания женщины, заявив, что «женщине не пристало судить о крови мужчины».
Слово женщины не считалось безусловным доказательством – «из-за женской слабости». В церковных судах было принято, что поручителем для женщины является женщина, точно так же как поручителем для мужчины – мужчина; но в королевском суде женщина должна была найти поручителя мужеска пола.
Агнесс Уилсон говорит, что в день св. Маргариты, между двумя и тремя часами ночи, викарий сэр Ричард Вудхаус явился к ней в дом, и они вместе сплетничали на кухне, в присутствии двух ее детей, из которых одному шестнадцать лет, а другому тринадцать. Потом сэр Ричард поднялся в комнату во втором этаже, чтобы заглянуть в сундук, в котором, как сказала ему Агнесс, лежала дарственная на все имущество ее супруга. И нигде Агнесс не оставалась с ним наедине, но постоянно с нею был сын, тринадцати лет, и ничего предосудительного между нею и помянутым сэром Ричардом не было. Агнесс говорит, что слышала, как ее соседи, Питер Оливер, Роджер Нотт и Уильям Раттор, схватили викария, когда он выходил из ее дома в четыре часа. На основании того, что ими было сказано, Агнесс было велено пройти очищение в канун Крестовоздвижения, посредством семи честных женщин из числа ее соседок (т.е., семь соседок должны поручиться под присягой, что она порядочная).
Право женщины приносить судебную присягу было умалено ее неспособностью сражаться. А Великая Хартия напрямую воспретит женщине выступать в суде при расследовании тяжких уголовных преступлений, за исключением тех случаев, если преступление было совершено против нее лично или если в результате погиб ее муж.
Муж и жена не являются «единым целым»; их отношения – скорее, опекунство, причем весьма выгодное для мужа, который имеет власть над женой и ее собственностью. Женщина, находящаяся в браке, находится во власти своего супруга, в имущественном и общественном отношении (так, супруг может воспретить ей свидетельствовать в суде). Но в то же время она может с уверенностью рассчитывать на защиту со стороны мужа и его родственников. Супруги нередко выступают в качестве поручителей и «адвокатов» друг для друга. Если что – женщина не окажется одинокой перед лицом клеветы. Но власть мужа над женой (которая «да убоится мужа своего») отнюдь не значит, что супруг вправе безнаказанно издеваться над своей благоверной – если жизни и здоровью женщины угрожает явная опасность (и если есть свидетели, способные подтвердить это под присягой), суд вполне способен ее защитить.
«Помянутый Джордж обращался с нею (Элизабет) не как подобает обращаться с женой, называл ее шлюхой и грозил высечь, не давал ей для питья ни вина, не эля и грозил слугам и соседям, если они ей того или другого принесут. Он лишил ее всякой власти в доме. Однажды, говорят, видели, как он бил ее тяжелым конским кнутом. Помянутая Элизабет также жаловалась служанке Элизабет Соден, что у нее был выкидыш, а другой служанке - что не видит от мужа ничего, кроме жестокости; служанки утверждают, что слышали по ночам крики, а в постели видели кровь, и что женщина подолгу бывала больна». (По итогам суда женщине было дозволено проживать отдельно, под опекой родных.)
Генри Кук из Троттслайва и его жена были призваны на суд, так как разошлись и более не живут вместе. Оба явились лично. Генри заявил, что не знает, почему жена оставила его, но она-де вела себя скверно, говорила оскорбительные слова и совершала дурные поступки. Жена заявила, что ее муж любил нескольких других женщин и был настроен к ней недоброжелательно, поэтому она больше не может жить с Генри из-за его жестокости. Наконец оба поклялись на Евангелии, что впредь будут жить вместе, и повторили друг перед другом брачную клятву, и пообещали, что жена будет покорной мужу и не станет ссориться, ругаться или оскорблять его, а муж будет обращаться с женой полюбовно.
Имущество, принадлежащее женщине до брака, остается ее собственностью и в браке, и после смерти супруга; то же самое – в отношении приданого. Йоменка, желающая разъехаться с мужем, может забрать принадлежащие ей предметы утвари и одежды и перенести их в родительский дом или в иное место, где она намерена проживать. Имущество, нажитое в браке, даже в результате совместного труда, по закону считается принадлежащим супругу (т.е., тому, кто юридически дееспособен). Женщина также имеет право на т.н. «вдовью долю» в имуществе, оставленном скончавшимся супругом (эту долю выделяют ей наследники, и, как правило, она равна стоимости приданого). Свободнорожденная жена крепостного, овдовев, также имеет право взять долю из имущества покойного супруга, прежде чем оно отойдет к лорду.
В XII и начале XIII вв. в случае смешанных браков (между сервами и вольными) за матерью по традиции еще иногда остается «право голоса» в том смысле, считать ли ее ребенка свободным или крепостным. В «Законах и обычаях Англии» (ок. 1235 г.) изложена довольно сложная схема: бастард следует за матерью, следовательно, ребенок несвободной женщины (законный или нет), является сервом; если свободный мужчина берет в жены сервку и они живут на той земле, к которой она «прикреплена», их дети считаются сервами по рождению, но, если жена следует за мужем на «вольные земли», их дети считаются свободнорожденными. Но затем суды суды выработали простое правило: решающим фактором является статус отца; бастард «от постороннего мужчины» – всегда свободнорожденный, вне зависимости от статуса матери.
Смешанные союзы действительно представляли собой значительную проблему в Средние века, потому что права мужа и жены относительно друг друга и относительно сеньора становились довольно-таки запутанными. Общим правилом стало, что брак несвободной женщины со свободным мужчиной (кроме ее лорда) не освобождает ее насовсем, но лишь на время брака. В 1302 г., впрочем, этот закон дважды назван «ложным» и даже «еретическим»; возможно, он порождал фиктивные браки в количестве.
Предполагается, что, если свободнорожденная жена живет с мужем-сервом на его территории и имеет от нее детей, она сама считается несвободной, хотя бы косвенно. В частности, она не имеет права подавать в суд без согласия мужа, а тому может воспретить лорд. Но после смерти мужа женщина вновь становится свободной – или, точнее, ее свобода вновь становится очевидной.
Неравный (межсословный) брак возможен, но это изрядное исключение. Теоретически, владелец манора может жениться хоть на своей вилланке, буде пожелает (раз неравные браки оговорены в законах, значит, были и прецеденты); но дворянин, женившийся на женщине ниже себя, должен быть морально готов к тому, что при появлении в свете его могут подвергнуть осмеянию за мезальянс, ведь таким браком он, фактически, унижает себя. Разумеется, воспротивиться неравному браку могут как родственники, так и сюзерены заинтересованных сторон, особенно если в деле замешано большое наследство или крупная земельная собственность. Нередко в соответствующей литературе можно прочитать, что вступившего в неравный брак имели право не допустить к участию в турнире и даже избить палками прямо на ристалище, если только за беднягу не заступалась «королева турнира», но, скорее всего, это миф. (Во Флоренции, впрочем, в XIII веке неравные браки не только не поощрялись, но и фактически преследовались законодательно: дети, рожденные в таком браке, наследовали звание «низшего» из родителей.) Традиция устраивать под окнами «неравной четы» кошачий концерт (шаривари) – в любом случае, не средневековая, а более поздняя, Возрожденческая.
Законный брак с иноверцем возможен лишь в том случае, если иноверец принимает крещение (в противном случае, этот союз будет не признан, а вступивший в него христианин судим за отступничество и ересь). Тем не менее, были случаи, когда христиане отказывались от своей веры ради вступления в брак. Известен прецедент с оксфордским священником (!), который не только сложил с себя сан, но и принял иудейство, чтобы жениться на еврейке.
https://tal-gilas.livejournal.com/181981.html
Арабелла, блог «Старый замок»
Брак и правовое положение женщины ч.1

скрытый текстВот характерный пример:
«Джон берет Марджори за правую руку, надевает на третий палец кольцо и говорит ей: Марджори, я беру тебя в жены, чтобы жить с тобой, в богатстве и в бедности, до конца моих дней, и в этом я тебе клянусь».
Марджори отвечает тем же. После чего они целуются через венок». Существуют записи о подобных «уговорах», состоявшихся в спальне (!), в саду, в лавке, в поле, в кузнице, «возле изгороди», «под дубом», в кухне, в таверне и даже прямо на дороге.
В понедельник вечером, накануне Вознесения, свидетельница зашла в комнату во втором этаже дома и обнаружила там, по ее словам, Роберта и Агнесс, которые лежали вдвоем в одной постели. Свидетельница спросила: «Роберт, что ты здесь делаешь?». На что Роберт ответил: «Я уже здесь, и отсюда никуда не пойду». Свидетельница сказала: «Тогда возьми Агнесс за руку и обручись с ней». Роберт ответил: «Прошу тебя, давай подождем до утра». Но свидетельница сказала: «Клянусь Богом, нет. Ты сделаешь это немедленно». Тогда Роберт взял Агнесс за руку и сказал: «Я возьму тебя в жены». Свидетельница сказала: «Нет, скажи так: я беру тебя, Агнесс, в жены и в сем тебе клянусь». Роберт, подчинившись, взял Агнесс за правую руку и обручился с ней, произнеся помянутые слова. Агнесс ответила, что вполне удовлетворена. Что было дальше, свидетельница не знает, потому что вышла и оставила их наедине.
Иными словами, далеко не каждая помолвка проходила в церкви – но церковное венчание следовало за большинством помолвок. Впрочем, даже в этом случае священная церемония вовсе не обязательно проходила на церковном крыльце или в нефе – есть достаточное количество свидетельств о «браках на дому» (а если предполагались осмотр приданого и составление брачного контракта, то, помимо священника, непременно присутствовал и нотариус). Празднований помолвки, как правило, не предполагалось; для того, чтобы она считалась состоявшейся, достаточно было кольца и поцелуя.
Церковь, разумеется, осуждала внебрачное сожительство и тем более промискуитет, за это могли наказать – оштрафовать или приговорить к церковному покаянию. Хозяин манора мог приказать провинившейся паре расстаться или, напротив, поскорей сочетаться законным браком. Некоего серва, виновного в сожительстве с односельчанкой, держали в колодках до тех пор, пока он не согласился оставить свою сожительницу и не дал клятву впредь не грешить. При рождении незаконного ребенка сервки уплачивали специальный штраф в пользу сеньора (т.н. leytage) – ведь ребенок, рожденный от «неизвестного отца», считался свободным, а значит, сеньор лишался рабочих рук, которые, родись ребенок «в законе», принадлежали бы ему по праву.
«Нижеследующие женщины утратили честь и должны заплатить за блуд: Ботильд дочь Альфреда (штраф 6 пенсов), Маргарет дочь Стивена (штраф 12 пенсов, поручитель Гилберт сын Ричарда), Агнесс дочь Симона (штраф 12 пенсов, поручитель помянутый Симон), Агнесс дочь Джора (штраф 6 пенсов)».
За тем, чтобы девушки и женщины вели себя благопристойно и блюли целомудрие, наблюдали не только семья, церковные и светские власти, но и, как водится, добропорядочные соседи. "Джон Р. в суде заявляет, что его соседка Энн Ламберт - публичная женщина, на том основании, что, когда-де он на реке увидел, как у нее задралась юбка, она ее не одернула тотчас и ему отвернуться не приказала; посему Джон Р. требует, чтобы помянутую Энн поставили к позорному столбу как бесчестную…". Нестарая вдова, которая не спешила вторично вступить в брак, рисковала подать повод для пересудов – особенно в городском и деревенском простонародье. «Вдова Джейн Болдри пришла в суд с жалобой, что ее-де, которая вдовеет честно уже 14 лет и все это время ходит в одну и ту же церковь, соседи прозвали шлюхой за то, что она не желает вторично выходить замуж, заподозрив в том, что, значит, она, Джейн Болдри, принимает мужчин. Однажды, когда она, как обычно, пошла в церковь, прихожане вытащили ее со скамьи, где она всегда сидела, вывели из церкви и отвели в городскую тюрьму». Овдовевшим дворянкам, понуждаемым к вторичному браку в связи с наследственными или политическими соображениями и при этом не желающим идти в монастырь, приходилось давать отступного…
«1205 г. Мэйбел, вдова графа Хью Бардольфа, заплатила в казну 2000 марок и пять лошадей за то, чтобы ее не принуждали выходить замуж и чтобы она могла остаться вдовой, сколько ей вздумается. В том же году графиня Уорик отдала тысячу марок и 10 лошадей за то, чтобы ей позволили остаться вдовой и не принуждали к замужеству».
Тем не менее, традиция дозволяла добрачное сожительство обручившимся. Помолвленные («условившиеся») считались мужем и женой и могли жить вместе, как муж и жена, вплоть до церковного венчания, которое как бы подтверждало их союз перед Богом. Впрочем, в глазах Церкви и закона дети, зачатые или рожденные в «условном» браке, не считались полноправными. Традиция не столько давала «условившимся» мужчине и женщине права и привилегии полноценной семьи, сколько спасала от общественного осуждения. При желании, «условный» брак можно было расторгнуть, поскольку с точки зрения церкви и закона он не являлся подлинным браком, а лишь помолвкой. Браком в глазах окружающих его делали исключительно традиция и неопределенность существующих норм, о чем чуть ниже.
И все-таки, для того чтобы пользоваться всеми радостями брака, даже в «условном» варианте, требовалось, в том числе, достижение необходимого возраста.
В возрасте одиннадцати лет, незадолго до Рождества, Элис официально обменялась брачными клятвами с неким Джоном Мэрреем и немедленно после церемонии уехала жить к замужней сестре Джона, в Кенниторп, близ Молтона. Летом Джон Мэррей навестил свою маленькую супругу и, по его признанию, познал ее плотски. Вскоре после того Элис похитили вооруженные люди и передали в руки ее дяди Брайана де Руклифа. Джон Мэррей, при поддержке матери Элис, которая, видимо, и устроила брак дочери, обратился в йоркский суд, прося восстановления своих прав. Брайан де Руклиф заявил, что Элис еще не достигла двенадцати лет, а потому ее нельзя считать законной женой Джона. Скорее всего, девочка сделалась жертвой соперничества между матерью и дядей, которые в равной мере желали по своему усмотрению выдать ее замуж и распорядиться имуществом, которое Элис наследовала.
Откуда же взялось это, по сути официальное, дозволение добрачного сожительства – в эпоху, которая традиционно считается предельно аскетичной и нетерпимой к «радостям плоти»? Дело в том, что ни в XII веке, ни в XIII не существовало однозначного ответа на вопрос, что представляет собой официальное заключение брака. Иоанн Грациан, автор середины XII в., утверждал, что для официального признания брака необходимы две вещи – «акт физического единения» и «супружеская любовь» (т.е. согласие обоих участников). Лишь несколько десятилетий спустя Петр Ломбардский, парижский епископ, прибавит третий необходимый элемент – «слова», т.е. брачную клятву. В трактате XII в. «Касательно христианских таинств» сказано: «Когда мужчина говорит: “Я беру тебя в жены, чтобы стать твоим мужем”, и женщина, в свою очередь, также дает обещание… когда оба говорят это в соответствии с существующей традицией и оба согласны стать супругами, значит, они отныне женаты… если же случилось так, что это произошло наедине, втайне, без свидетелей или даже порознь, тем не менее, они вступили в законный брак». И так далее… Лишь в 1563 году наконец было постановлено, что законным, т.е. признанным Церковью, считается брак, при заключении которого священник произносит определенную формулу (например, «объявляю вас мужем и женой»).
Разумеется, «условный» брак не всегда можно было доказать. Средневековые судебные записи пестрят жалобами женщин, пытавшихся доказать, что они официально замужем, и заверениями мужчин, утверждающих, что они не женаты. Порой официальная брачная церемония проходила прямо в зале суда, и дело считалось закрытым; а иногда процесс заканчивался тем, что обоим приходилось заплатить штраф.
Совет в Вестминстере постановил в 1076 г., что никакой мужчина не может отдать в жены свою дочь или родственницу без согласия священника. Четвертый Латеранский собор в 1215 г. постановил, что брак не может быть заключен без присутствия и благословения священника. Иными словами, до тех пор отсутствие священника при заключении брака не было исключением. Так, однажды в 1194 г. священник был призван лишь для того, чтобы благословить молодых на брачном ложе и окропить их святой водой.
И лишь в 16 в. было окончательно утверждено, что проводить церемонию обручения, наряду с бракосочетанием, также должен священник.
Ношение кольца на безымянном пальце – римский обычай. В английской средневековой традиции мужчина нередко носил кольцо на правой руке, а женщина на левой (правая сторона считалась «принадлежащей» Адаму, левая – Еве), иногда на большом или на указательном пальце. Ношение кольца на среднем пальце – норманнская традиция. Простолюдины вообще могли не носить колец. Строго определенного цвета для подвенечного платья не существовало, так что невесты, как правило, венчались просто «в лучшем» (зачастую утверждается, что средневековые невесты предпочитали синий цвет как как цвет невинности и чистоты, в том числе ассоциируемый с Девой Марией, но на иллюстрациях мы встречаем платья буквально всех цветов радуги).
Белое платье стало входить в моду лишь с начала XVI в., поначалу, разумеется, в знатных кругах, – история гласит, что пример подала Анна Бретонская, впервые надевшая на свадьбу платье белого цвета.
В английском миссале XII века объясняется, каким образом должен происходить обмен кольцами. Жених передает невесте кольцо «во имя Святой Троицы», и та надевает его на большой палец правой руки со словами «Во имя Отца», затем на указательный, со словами «и Сына», и, наконец, на средний, со словами «и Святого Духа, аминь». Затем невеста произносит следующую формулу: «Это кольцо – чтобы обручиться с тобой, мое тело – чтобы чтить тебя, мое приданое – чтобы одарить тебя». В некоторых текстах подчеркивается, что вдова должна вступать в брак в перчатках, а девица – без таковых.
Кое-где также упоминается, что девушка должна венчаться с распущенными волосами, но на иллюстрациях у невест волосы могут быть как распущены, так и собраны в прически или даже полностью скрыты под головными уборами.
Простолюдинки обычно выходили замуж довольно рано (по нашим представлениям), знатные женщины – несколько позже. Героиня популярного нравоучительного стихотворения (A Goodwife Teaching Her Daughter) наставляла свою дочь так: «А если у тебя родится дочь, постарайся выдать ее замуж пораньше, потому что не годится девушке быть одной» (т.е. без мужа). Бывали случаи, что дворянки вступали в брак позже двадцати и даже двадцати пяти лет, но таких примеров немного. Вообще, средний возраст вступления в брак – это 18-19 лет у женщин (т.е., на самом деле, тоже не запредельно рано!), а помолвлены они могли быть еще в колыбели. Изабелла Ангулемская, в возрасте тринадцати лет вышедшая в 1200 г. за тридцатитрехлетнего принца Джона (то есть, уже короля Иоанна), воспринималась, скорее, как редкое исключение. Из семнадцати европейских принцесс 70-90-х гг. XIII века одиннадцать вышли замуж в промежутке между 15 и 20 годами, а одной успело перевалить за тридцать :). Самой молодой матерью из них стала пятнадцатилетняя Бланш, родившая мертвого младенца – и скончавшаяся при вторых родах в возрасте шестнадцати лет. Подобные – и неоднократные – трагические случаи тоже наверняка служили серьезным аргументом против чересчур ранних браков.
Манориальные списки, судебные записи и прочие документы подтверждают, что люди вступали в брак в относительно зрелом возрасте. Разумеется, «зрелость» в каждую эпоху наступает в разное время; но в XII-XIV вв. подростки явно считались еще слишком «незрелыми» для вступления в половые отношения (а насильники, чьими жертвами были девочки-подростки, подвергались более суровому наказанию по сравнению с преступниками, жертвами которых были взрослые женщины). Наиболее строгие моралисты называли чересчур ранние браки грехом, а авторы баллад высмеивали тех, кто брал слишком юных жен.
Как уже говорилось, ранние помолвки – прерогатива знатных, над которыми довлеют имущественные и политические соображения. Юную невесту зачастую отсылали в дом будущего супруга, где дети общались, вместе воспитывались и учились и готовились к дальнейшей совместной жизни; к подлинным же супружеским обязанностям они приступали, войдя в сознательный возраст – в 16, 17 лет или даже позже. Чрезмерно ранние браки, во всяком случае, не поощрялись в любом сословии – в том числе потому что хитроумные опекуны, пользуясь несознательностью своих подопечных, порой пытались использовать детей как средство поправить собственные финансовые дела.
Маленькую Грейс Сэйлби умудрились выдать замуж несколько раз подряд, поскольку ее малолетние супруги скоропостижно умирали один за другим; наконец епископ Хью Линкольнский лично вмешался в происходящее – во-первых, потому что впервые девочку выдали замуж четырех лет от роду, а во-вторых, мать Грейс и ее сообщниц обвинили в мошенничестве.
Агнесс, вдова Джона Лоренса, и ее второй муж, Саймон де Бер, были назначены опекунами маленькой Агнесс, восьми месяцев от роду. Пара решила выдать Агнесс, по завещанию имевшую имущества на сорок марок, за одиннадцатилетнего Томаса, сына Саймона. Оглашение уже было прочитано, и пошиты свадебные одеяния (так, свадебным платьем для маленькой Агнесс должна была послужить разукрашенная крестильная сорочка), но тут вмешался закон, и Агнесс-старшую лишили опекунских прав.
Наличие свидетелей на свадьбе считалось весьма желательным, но существовали различные способы обойти это условие, если молодые по каким-то причинам не желали публичного оглашения. Так, например, при заключении тайного брака бытовал обычай оставлять дверь церкви/часовни открытой, как бы в знак того, что новобрачные не стыдятся своего поступка и всякий желающий может войти и стать свидетелем.
Пресловутое «право первой ночи» как нечто регулярное и приравненное к закону – скорее, позднейший литературный миф, чем реальность. Вообще, мифы, порожденные литераторами даже без опоры на какие бы то ни было исторические источники, как правило, на диво живучи J. В качестве доказательства существования jux primae noctis указывают, например, на т.н. «брачный выкуп» - налог в пользу сеньора, сохранившийся кое-где в Европе до XVII-XVIII вв., а также на то, что крепостные, желающие вступить в брак, непременно должны были испросить согласия своего господина.
Случаи насилия со стороны сеньора были фактом, а не правом. Разумеется, некоторые сеньоры плодили многочисленных бастардов от своих вилланок и могли сделать наложницей – постоянной или на одну ночь – любую из них, не опасаясь мести или вмешательства. Так, согласно хроникам манора Рэйли, в одноименной деревне проживало единовременно до десяти незаконных детей хозяина. Не исключено, что деревенским девушкам и женщинам льстила любовь господина, особенно если лорд не отличался жестокостью и предпочитал действовать лаской, а не силой и притом не скупился на подарки. «Но если вдруг тебя увлечет любовь крестьянки, - наставляет Анре Капеллан, автор популярнейшего трактата «О любви», - не забудь щедро наградить ее». Во всяком случае, в документах отражен даже прецедент продажи матерью собственной дочери в наложницы сеньору в обмен на земельный надел (правда, здесь закон все-таки вмешался и воспрепятствовал: продажа людей в средневековой Англии была под запретом).
https://tal-gilas.livejournal.com/180573.html
Еще немного
Помолвка и брак
скрытый текстС разрешения родителей мальчики могут жениться с 14 лет, а девочки выходить замуж – с 12, хотя так рано этого делать не рекомендуется. Совершеннолетие наступает в 21 год.
Сэр Томас Мор рекомендовал девушкам не вступать в брак до 18 лет, а юношам – до 22.
В неблагородных семьях самый распространенный брачный возраст – 25-26 лет у мужчин и около 23 лет у женщин, потому что лучше всего – дождаться, пока сможешь позволить себе собственный дом и детей. К тому же обучение большинству профессий длится лет до 25.
В благородных семьях браки могут заключаться намного раньше. Сестра Роберта Дадли, ставшая графиней Хантингдон, пошла под венец в 7 лет, но это исключительный случай.
Свадьбы в детском и подростковом возрасте обычно заключаются для укрепления династических союзов. Молодожены обычно не живут друг с другом как муж и жена (во всех смыслах). Часто невеста уходит в семью жениха, чтобы свекровь научила ее домоводству.
Договор
Брак – это договор, который начинается с помолвки.
При помолвке жених и невеста берутся за руки. Он дает ей кольцо, которое она носит на правой руке. На свадьбе кольцо переодевается на левую руку.
Договор закрепляется поцелуем и подписью.
В договоре обговариваются и приданое невесты, и так называемое вдовье наследство (деньги и имущество) от семьи мужа, чтобы обеспечить жену в случае, если муж умрет первым.
Если жених разрывает договор, и у него есть на то причины, он обязан вернуть все полученные подарки и знаки внимания.
Помолвку можно разорвать по обоюдному согласию. В некоторых случаях возможен разрыв и в одностороннем порядке, если другой партнер:
• виновен в ереси или отступничестве (переходе или повторном переходе в римскую веру);
• виновен в неверности;
• сильно изуродован;
• ранее заключил брачный договор с кем-то еще и не разорвал его;
• виновен во враждебности, греховности или пьянстве;
• слишком надолго расстался со своей партией.
«Правильная» свадьба основана на трех вещах: согласии, обмене знаками внимания (в частности, кольцами) и вступлении в супружеские отношения. Брак можно аннулировать лишь в том случае, если супруги не вступили в отношения.
Считается, что самые удачные браки заключаются до полудня.

Найотри, блог «Заброшенный замок»
Вечно забываю, как оно там, так что пусть будет
About DVD Region Specifications
Global region codes identify DVDs and Blu-ray discs that are compatible with the players typically sold in that region.
The following are the different regions and their corresponding numerical equivalent:
Standard DVDs
 Region 1: U.S., U.S. Territories, Canada, and Bermuda
Region 1: U.S., U.S. Territories, Canada, and Bermuda
 Region 2: Japan, Europe (excluding Russia, Belarus and Ukraine), Greenland, South Africa, Swaziland, Lesotho, Egypt and the Middle East
Region 2: Japan, Europe (excluding Russia, Belarus and Ukraine), Greenland, South Africa, Swaziland, Lesotho, Egypt and the Middle East
 Region 3: Southeast Asia, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Macau
Region 3: Southeast Asia, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Macau
 Region 4: Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, South America, Mexico and the Caribbean
Region 4: Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, South America, Mexico and the Caribbean
 Region 5: Afghanistan, Ukraine, Belarus, Russia, Africa (except Egypt, South Africa, Swaziland and Lesotho), Central and South Asia, Mongolia and North Korea
Region 5: Afghanistan, Ukraine, Belarus, Russia, Africa (except Egypt, South Africa, Swaziland and Lesotho), Central and South Asia, Mongolia and North Korea
 Region 6: China
Region 6: China
Blu-ray Discs
 Region A/1: North America, Central America, South America, Japan, North Korea, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Southeast Asia
Region A/1: North America, Central America, South America, Japan, North Korea, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Southeast Asia
 Region B/2: Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand
Region B/2: Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand
 Region C/3: India, Nepal, Mainland China, Russia, Central and South Asia
Region C/3: India, Nepal, Mainland China, Russia, Central and South Asia
Note: The majority of DVDs sold by Amazon.co.uk are encoded for Region 2 оnly. Blu-ray discs sold by Amazon.co.uk can be encoded as Region-free or for Region B.

Илли, блог «Всяческая суета»
О сегодняшнем утре
Да блядь! Сссучий козёл! Реальный вызов ВСЕГДА имеет приоритет перед неопознанным сигналом! Всегда!!! Иначе просто быть не может! Но нет, я всё сделала неправильно просто потому, что сегодня его начальская пятка так зачесалась.
Сменщицы слушали всё это в ужасе, тихо охуевали, потом совали мне успокоительное и конфетки, и быстренько записывали для передачи по смене нынешние "всегдатакбыло" распоряжения.
А я ревела, потому что после ночной смены всегда слабая, потому что обидно, обидно, обидно!
Почему всегда я попадаю под такие раздачи? Почему всё время именно меня надо побольнее натыкать мордой в грязь, именно на мне продемонстрировать все замашки неудовлетворённого слишком мелкой должностью начальника-самодура?! Ну бля, ну он же нормальный умный парень, ну что за дерьмо в нём временами играет?
Фух. Всё. Выкричалась. Ушла зарабатывать себе воспаление лёгких, куря на балконе. А у нас, между прочим, минус двенадцать сегодня. Абалдеть...


![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/community.gif)