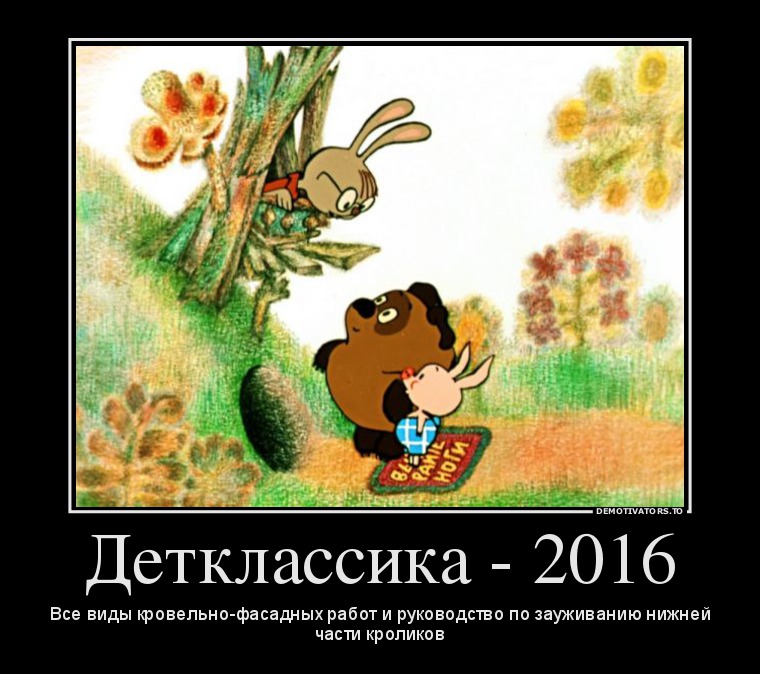Что почитать: свежие записи из разных блогов
Записи с тэгом #неДетская классика из разных блогов

Nicoletta Flamel, блог «Прозаек»
Две Хаврошечки в прозе и стихах
1) Хаврошечка раз. Стихотворение начиналось для какого-то стихоконкурса в ЖЖ. Но закончилось только этой весной 2017.
Название: Хаврошечка
Канон: русская народная сказка
Автор: Nicoletta Flamel
Размер: драббл, 239 слов
Пейринг: Хаврошечка и её семья
Категория: джен
Жанр: даркфик, стихи
Рейтинг: PG-13
Примечание: дарк!Хаврошечка со всеми вытекающими, "вёска" - с белорусского "деревня" (употребляется как сленговое слово в том числе и в приграничных территориях России)
скрытый текст***
Посторонним и милой кажусь, и кроткою,
Дома сёстры клянут повадки мои драконьи.
Меня в вёске зовут Хаврошечкой и сироткою,
Мать в глаза величает выродком и Хавроньей.
Я не молвлю в ответ на обиду ни слова бранного:
Говорите, мол, что хотите, а всё не страшно мне.
Жаль, что матушку на покосе граблями ранило
И крутым кипятком обварило сестрицу старшую.
Не свезло и младшей — так оступилась, бедная,
Что три дня не вставала с лежанки, спиною мучилась.
А умнее всех оказалась сестрица средняя:
Стороною теперь обходит меня при случае.
День-деньской на лугу пропадаю вдвоём с коровою,
Полотна натку-набелю, рубахи сошью нарядные.
И сестёр, и матушку — всех одарю обновами.
Только батюшку я по-другому стараюсь радовать.
Нелегко ему нынче: утопла сестрица старшая,
От сердечной тоски, судачат, вот только правы ли?
Да и матушка всё сильнее ночами кашляет,
Уж какими я только её не поила травами.
Ездил батюшка мой к ведунье в село соседнее,
А вернулся, смурнее тучи, пьянее пьяного,
Обозвал меня сорным семенем, злобной ведьмою
И грозился с утра выгнать из дому, окаянную.
Я любила его — больше матушки, горше долюшки.
Я его берегла, как умела, от злой судьбинушки.
Заколол он мою коровушку в чистом полюшке,
Закопал её белые косточки под осинушкой.
Зорька третья взошла на небо вослед за месяцем,
Но куда от тоски мне было деваться, девице?
Бедный батюшка спьяну в хлеву на вожжах повесился…
На могилке коровьей взошло молодое деревце…
Зацвело, потянулось в рост, напиталось росами.
Знать, большой урожай соберу я грядущей осенью…
2) Хаврошечка два. На волне образов поняла, что очень хочу прозы. Поэтому Хаврошечка возвращается. За идею Хульдры спасибо одной моей одноименной ПЧ.
Название: Сестрица моя, Хаврошечка
Канон: русская народная сказка
Автор: Nicoletta Flamel
Бета: Gabrielle Delacour
Размер: мини, около 2280 слов
Персонажи: Хаврошечка, сёстры, матушка, батюшка
Категория: джен
Жанр: драма
Рейтинг: PG-13
Предупреждения: POV средней сестры (той самой Двуглазки), неграфичные смерти персонажей.
Краткое содержание: средняя сестра не любит Хаврошечку, а есть ли за что её любить?
скрытый текст***
— Спи, глазок, — поёт-мурлычет, — спи, другой.
Колдовства на полмизинца — весковая знахарка её легко заткнёт за тканый пояс. И спать совсем не хочется. Но я знаю, чувствую каждым вздыбившимся волоском на теле: не в Хавронье дело, не в песенке этой нескладной. А в корове, что на меня глазами-омутами уставилась.
Смотрит, молчит. Отмахивается от мух. «Спи, глазок» — хлесь хвостом по правом боку, «Спи, другой» — хлесь по левому. Солнце августовское так и жарит, а у меня по спине холодная струйка пота течёт.
Закрыла я оба глаза, дышу ровно. Сплю, значит.
Слышу: зашуршало что-то, замычала корова низким утробным стоном, ясный свет сквозь веки померк ненадолго, а потом снова стал прежним. Вздохнула я, будто бы сквозь сон, и ресницы чуточку разлепила.
Вижу: стоит Хавронья на полянке, скатывает в рулоны белёное полотно. А конец того полотна из уха коровьего тянется. И кровь из того же уха на траву падает — густая, чёрная, — словно не кровь, а комья вязкой могильной глины. Но полотно в руках Хавроньи сияет свежевыпавшим снегом.
Испугалась я. Всё вспомнила: и матушкину немочь неведомую, что год от года лишь крепнет; и ветку случайную, многажды клятую, что глаз старшей сестре выбила, — аккурат когда та замуж собралась за парня из соседней вёски (да только кто ж её с бельмом теперь возьмёт?). И сестрёнку младшенькую, любимую, вспомнила, которую матушка от Хавроньиного отца зачала, носила тяжело и несколько раз чуть не скинула до срока. Шестой годок девчонке пошёл, а до сих пор как выйдет со двора, так все окрестные ребятишки в неё грязью кидаются, уродиной дразнят. Глаз сестрёнкин вспомнила — тот самый, третий, что наростом между бровок белёсых бугрится. А ещё встала передо мной картинка живая, как Хавронья на матушку смотрела, когда та, живот придерживая, возле печи хлопотала. И сложилось у меня всё разом в одну правду страшную. Только от правды этой мне дышать тяжело, и на сердце камень лёг — ни сдвинуть, ни скинуть: не уберегу я ни матушку, ни сестёр, если болтать буду.
А Хавронья-змея склонилась надо мной, говорит ласково:
— Просыпайся, сестрица любимая, вижу, сморило тебя, да вечер уже, пора корову домой гнать.
Потянулась я, зевнула, посетовала на лень свою, подивилась Хавроньиному рукоделию. А у самой сердце в пятках болтается: вдруг учует она мою ложь?
Не учуяла. Лишь кинулась морду коровью передником обтирать — там, где последнее пятнышко чёрной крови на белой шкуре запеклось.
— Испачкалась ты, — воркует, — Бурёнушка моя.
***
Вечером я к старшей сестре пристала: скажи да скажи, что видела, когда прошлым летом с Хавроньей на пастбище ходила.
— Ничего не видела, приснула на солнышке, — отпирается и бельмо от меня за прядями волос прячет.
Я гляжу на неё и чувствую: врёт. И ещё знаю: боится. Не меня — Хавронью проклятущую, семя вздорное, сорное.
И такая злость меня взяла — словами не описать. «Погоди ужо, сестрица сводная, — думаю, — за всё сполна с тобой расплачусь».
Стала я сторонкой ходить да приглядываться.
А матушка тем временем нашу младшенькую с Хавроньей на выгон отправила.
И я тихонько следом увязалась. Спряталась за кустами, смотрю: опять колдует, проклятая, коровьи бока оглаживая.
Спит один глазок у сестры моей, спит другой. Только третий на лбу помаргивает, в небо таращится.
Хавронья коровью голову обняла, и тянет-тянет из левого уха бесконечный белый холст. Воздух тихонько потрескивает, плывёт жаркая дымка. Будто здесь мы все: и Хавронья с коровой, и сестра моя, и я, — а будто и не здесь вовсе.
Как солнце полуденный порог миновало, закончилось колдовство. Бабочки запорхали, стрекозы всякие, птичка тонко в ветвях ивы затинькала: «Пить! Пить!»
Будит Хавронья сестру мою, говорит ей, что нужно домой возвращаться. Я в кусты поглубже нырнула, будто и нет меня. А как ушли они, выбралась тихонько на полянку, прошлась по следам, собрала разного: там камешек, там веточку, там льняную ниточку, там шерстинку коровью, — туго-натуго в носовой платок увязала и бегом к старушке-ведунье, что на околице живёт.
— Помоги, — взмолилась, — бабушка! Хоть чем помоги!
Ведунья дунула-плюнула и начала колдовать по-своему: сожгла шерстинку в печи — полыхнул огонь языками лазурными, бросила камешек в миску с водой — упал он на дно каплей багряной, посыпала веточку щепоткой толчёных трав — выгнулась веточка в пальцах, изломалась, в труху рассыпалась. А ниточка и вовсе в воздухе льдинкой истаяла, будто и не было её никогда.
Стоит ведунья, руками разводит: «Колдовство есть, но какое — мне, внучка, неведомо».
Вернулась я домой, по пути охапку цветов полевых набрала, чтобы Хавронье глаза отвести. И как чуяла — встретила она меня у ворот.
— Где ходила, сестрица милая?
Я ей букетом в нос тычу: гуляла, мол.
А она:
— И где это такие цветы диковинные растут, уж не на краю ли поля, что за околицей у кромки леса раскинулось?
— Везде, — говорю, — растут. Главное — собирай.
А у самой поджилки трясутся, Хавронья-то чуть ли не пыль с моих босых ног обнюхивает и смотрит недобро, с прищуром. Хорошо, что матушка высунулась в окошко да в дом меня позвала. Наругалась, правда, за отлучку самовольную, велела в наказание навоз из свинарника выгребать. Так я бегом побежала, только бы от Хавроньи подальше.
***
Минуло лето, пришла осень, зарядили дожди — мелкие, тоскливые, холодные.
К старшей сестре вдовец из соседнего села посватался. Хотел ко мне, да матушка не позволила порядок ломать. «Не пущу, — сказала, — младших поперёк старшей». Ну, вдовцу с лица воду не пить, ему молодая сильная работница в дом нужна: от первой жены пятеро ртов осталось, — и приданое какое ни на есть. Короче, свезло сестрице моей, не останется вековухой срок доживать.
Только она счастья своего не понимала: сбледнела вся, осунулась, под глазницами тёмные круги залегли:
— Не пойду замуж, не люб он мне.
Сказала как отрезала.
Ну, матушка тоже молчать не стала, за косу её оттаскала по горнице и велела сватам в ножки кланяться: мол, не переломишься, гордячка. И вправду: поклонилась, сестра моя старшая, не переломилась. Отец на радостях кабанчика заколол.
Вот только накануне свадьбы нашли её в мельничном пруду, уже холодную — в нарядной нижней рубахе из Хавроньиного полотна. Любила, знать, жениха своего первого, хоть тот и отказался от неё, а забыть не смогла.
Поплакали да схоронили. Вдовец уже ко мне сватов заслал, пришлось трауром отговариваться: старый он, плешивый и изо рта воняет, как из ямы отхожей.
А Хавронья ходит павой, смотрит ласково:
— Зря ты, сестрица от счастья своего отказалась. Гляди, какую я фату подвенечную для тебя вышила.
Гляжу: красивая, тонкого льна локтей десять ушло, не меньше, по краю затейливый узор вьётся.
— Спасибо, — отвечаю, — за ласку. Только не по чину она мне, оставь себе на приданое. — А сама в кармане передника фигу кручу.
***
После Сретения матушка совсем расхворалась, начала чахнуть на глазах. Водили её по лекаркам-знахаркам, да всё без толку.
Тут Хавронья и предложила: «Давайте я её в баньку свожу, выпарю-вымою, водицей родниковой окачу, авось в себя придёт».
Я против была, только смолчала. Да и кто бы меня слушать стал?
Натопили баньку, отчим матушку на руках туда отнёс, на полок уложил. Начала и Хавронья готовиться: вскипятила в печи горшок с водой, стала туда какие-то диковинные травы бросать. По избе дух травяной пошёл, все чихают, глаза слезятся, только младшенькая сестрица у Хавроньи за левым плечом стоит, в три глаза смотрит — любопытно ей, даже на цыпочки встала, чтобы ничего не пропустить. Обмотала Хавронья горшок подолом понёвы, понесла в баню.
Увязалась я за ней следом, смотрю в окошко. Оно маленькое, чадное — и Хавронья, и матушка мне размытыми тенями мерещатся. Вот плеснул травяной настой на камни, поднялся пар, скрыло их обеих. Я губы кусаю, ногтями в бревенчатую стену впилась. Изведёт матушку, змея подколодная… как пить дать изведёт.
Хрустнула за моей спиной веточка, я аж вскинулась. А там младшенькая сестрица стоит, хихикает:
— Ты тоже хочешь на Хав’ошечкин хвостик посмот’еть, кото’ый под юбкой сп’ятан? К’асивенький, с кисточкой, как у Бу’ёнки. Только ты не так делаешь, дай покажу, как надо. — И плотно-плотно два глаза зажмуривает (даже ладошкой прикрыла, чтоб, значит, наверняка).
А третий глаз у неё ресницами трепещет, сияет нездешней синевой.
— Видала?
Показала мне язык и побежала в избу.
И вспомнилось мне, как матушка в этот дом замуж шла, а мы со старшей сестрицей, упокоится она с миром, за подол свадебного платья держались и ревели на два голоса. Родного батюшку-то никто из нас обеих не помнил, а отчим уж больно угрюм был с виду да грозен. Только потом оказалось, что сердце у него доброе. Приедет, бывало, с ярмарки, и давай подарки дарить: петушки сахарные, пряники печатные и по шёлковой ленте в косу. Каждую по голове погладит, ни свою не обидит, ни чужую. Только вздохнёт бывало над Хавроньей: «Найдёныш мой, сироточка!» Я по малолетству внимания не обращала, а сейчас от страшной догадки аж вскинулась. «Какую ж ты, отчимушка, нечисть на груди пригрел?» — думаю.
Тут скрипнула дверь бани, вышла Хавронья, отчима кличет. Взяли матушку — в две дохи завёрнутую, разморенную, распаренную, — и в дом понесли.
Стала я к Хавронье совсем по-другому присматриваться: нож железный под руку подложила, щепоть земли могильной на её след насыпала, красной шерстяной ниткой ухват обмотала. Взяла Хавронья нож за костяную рукоять, каравай нарезала и стала ухватом горшки из печи доставать, на стол накрывать. Ни разу не промедлила, от землицы не споткнулась, не застонала жалобно, по подземному миру тоскуючи. Не нежить, выходит, не мёртвый дух.
Да и не смогла бы навка долго с людьми под солнцем жить.
Пошла я опять к старушке-ведунье, в ноги кинулась: «Помоги, бабушка!» Посмотрела она на меня, покивала мыслям своим: «Есть одно средство, внученька, коли осмелишься». Пошепталась со мной, дала для матушки жира барсучьего, велела грудь и спину натирать. С тем и отправила.
А Хавронья меня на пороге встречает, говорит ласково:
— Уж не зла ли ты мне желаешь, сестрица милая?
— С чего ты взяла, Хавроньюшка? — отвечаю. — За лекарством я для матушки бегала. Вот, принесла.
Обнюхала она склянку с мазью:
— Вреда точно не будет.
И в покое меня оставила. А я стою, пояс наглаживаю, в котором ведуньин подарок запрятан. «Погоди, — думаю, — рассчитаюсь я с тобой за всё».
***
Помог барсучий жир матушке, поправилась она к лету. Стала опять по дому ходить, дела справлять. Присела как-то на завалинку горох лущить, тут-то я к ней и пристала: расскажи, мол, да расскажи, как ты с отчимом нашим познакомилась.
— Нечего тут рассказывать, — отмахивается матушка. — В лесу грибы-ягоды собирала, заплутала, испугалась, что не выпустит меня лесной батька к людям, не вернусь я к своим доченькам. Смотрю: девчоночка стоит, годков восемь от роду, Хаврошечка наша. Волосёнки светлые, как одуванчик. «Пойдём, — говорит, — тётя, я тебя домой отведу, здесь близко совсем». И корова с нею пёстрая — Бурёнка. Отвели меня в этот дом, с хозяином его познакомили. Приглянулись мы друг другу, а там и свадьбу сыграли. Дальше ты знаешь.
— А что с первой женой сталось?
— С какой женой? — удивляется матушка. — Бобылём ваш батюшка наречённый жил, пока со мной не встретился.
— Тогда откуда у него дочь? — спрашиваю.
Сыплются глухо горошины в глиняную миску. Шуршит шелуха в матушкином переднике.
— Из лесу, — отвечают мне Хавроньиным голосом. — Из лесу я взялась, сестрица милая. Нашёл меня наш батюшка дитём неразумным, приютил, воспитал, коровьим молоком вскормил.
Подхватилась я, как ужаленная: стоит Хавронья за моей спиной, косища белая из-под платка по груди толстенной змеёй вьётся — того и гляди в самом деле ужалит, — глаза недобрым огнём горят.
А матушка лицо прячет, будто кланяется:
— Спасибо тебе, Хаврошечка, за всё: и за то, что из чащи меня вывела; и за дочь мою третью, живой рождённую; и за спасение от хвори неведомой.
Я аж задохнулась от волнения:
— Матушка, ты кого благодаришь-то? Заманили нас всех сюда на погибель, слезами нашими и горем насытиться не могут. Сестрица младшая ходит по земле уродцем диковинным, старшую сгубили почём зря, тебя едва на тот свет не отправили!
— Молчи! — вскрикнула матушка. — Молчи, глупая!
Откинула Хавронья косу за спину, ко мне шагнула:
— Правду говоришь, сестрица, али так, языком попусту мелешь?
Достала я из пояса прутик тоненький, маленький, что мне ведунья дала, хлестнула крест-накрест воздух перед лицом Хавроньиным.
— Уходи, — приказала, — прочь, тварь лесная!
А у самой поджилки трясутся: вдруг не поможет волчьеягодник?
Зашипела Хавронья, оскалилась:
— Так вот какова благодарность людская? — И хвост коровий из-под понёвы так и хлещет по воздуху.
Упала миска, раскололась, горошины по земле катятся — матушка перенимать меня кинулась.
Но слаба она ещё была, успела я махнуть прутиком второй раз, успела — третий:
— Уходи!
Пятится Хавронья к калитке, я наступаю, а в хлеву Бурёнка мычит-надрывается. Загон рогами выломала, скачет галопом, я едва отскочить успела. Встала корова между мной и Хавроньей — не понять: кого от кого защитить пытается. А сзади матушка руку мою поднятую перехватила, повисла на ней:
— Что ж ты делаешь, доченька?
Повела Хавронья плечами, платок с головы стянула, поклонилась матушке низко, в пояс:
— Прощайте, — говорит. — Не поминайте лихом.
Шагнула за ворота вместе с коровой — и сгинула.
Только калитка на ветру скрипнула, да кончик хвоста в воздухе плеснул.
***
— Полюбила она меня, — плакала матушка. — И я к ней привыкла. Тварь лесная тоже ласку чувствует, по теплу скучает. Ревновала меня вначале, не без этого. Батюшку вашего наречённого она ведь за родного почитала, когда в лесу его деревом придавило — выходила. И он её родной дочерью называл. Душа в душу жили.
— А старшенькая моя, вроде тебя, дурочка была, но смелая, — не унималась матушка, — услышала где-то, что волос чуда лесного клады открывает — с гребня Хаврошечкиного целый пук сняла. «Хочу, — сказала мне, — хоть одним глазком посмотреть». Вот и посмотрела, бедняжка!
Взяла я с матушки слово, что ничего она отчиму не расскажет. Ушла и ушла Хавронья из дома, видно, время настало.
Стали мы как раньше жить. Да только хуже, чем раньше.
Молоко Бурёнкино жирное было, густое — и сыр, и масло с него делали, всю зиму кормились. И телята от неё велись — заглядение: любой на базаре покупал, не торгуясь. И полотно Хавроньино прибыток в дом несло, куда там моему, на кроснах тканому.
Отчим по Хавронье горевал, конечно, но держался. А когда младшенькая сестрица пропала — на человека перестал походить, запил, выносил из дома последнее. Оно и понятно: единокровная всё-таки дочь, не приблудная.
Искали мы её долго, всех окрестных весковичей опросили. «Видели, — говорили нам, — шла к опушке леса, а за соснами корова мычала, будто звала».
Матушка как услышала — опять расплакалась: «Не оставит Хаврошечка её своей добротой». Слаба совсем была, но к лесу из последних сил ходила, деревья гладила, говорила с ними о чём-то: видимо, за дочерей просила — родную и приёмную.
А ещё через год, аккурат на годовщину матушкиной смерти, ко мне опять тот вдовец посватался. «Кому ты без приданого нужна будешь», — сказал.
Я подумала — и пошла.
Тут для меня сказка закончилась.
Название: Хаврошечка
Канон: русская народная сказка
Автор: Nicoletta Flamel
Размер: драббл, 239 слов
Пейринг: Хаврошечка и её семья
Категория: джен
Жанр: даркфик, стихи
Рейтинг: PG-13
Примечание: дарк!Хаврошечка со всеми вытекающими, "вёска" - с белорусского "деревня" (употребляется как сленговое слово в том числе и в приграничных территориях России)
скрытый текст***
Посторонним и милой кажусь, и кроткою,
Дома сёстры клянут повадки мои драконьи.
Меня в вёске зовут Хаврошечкой и сироткою,
Мать в глаза величает выродком и Хавроньей.
Я не молвлю в ответ на обиду ни слова бранного:
Говорите, мол, что хотите, а всё не страшно мне.
Жаль, что матушку на покосе граблями ранило
И крутым кипятком обварило сестрицу старшую.
Не свезло и младшей — так оступилась, бедная,
Что три дня не вставала с лежанки, спиною мучилась.
А умнее всех оказалась сестрица средняя:
Стороною теперь обходит меня при случае.
День-деньской на лугу пропадаю вдвоём с коровою,
Полотна натку-набелю, рубахи сошью нарядные.
И сестёр, и матушку — всех одарю обновами.
Только батюшку я по-другому стараюсь радовать.
Нелегко ему нынче: утопла сестрица старшая,
От сердечной тоски, судачат, вот только правы ли?
Да и матушка всё сильнее ночами кашляет,
Уж какими я только её не поила травами.
Ездил батюшка мой к ведунье в село соседнее,
А вернулся, смурнее тучи, пьянее пьяного,
Обозвал меня сорным семенем, злобной ведьмою
И грозился с утра выгнать из дому, окаянную.
Я любила его — больше матушки, горше долюшки.
Я его берегла, как умела, от злой судьбинушки.
Заколол он мою коровушку в чистом полюшке,
Закопал её белые косточки под осинушкой.
Зорька третья взошла на небо вослед за месяцем,
Но куда от тоски мне было деваться, девице?
Бедный батюшка спьяну в хлеву на вожжах повесился…
На могилке коровьей взошло молодое деревце…
Зацвело, потянулось в рост, напиталось росами.
Знать, большой урожай соберу я грядущей осенью…
2) Хаврошечка два. На волне образов поняла, что очень хочу прозы. Поэтому Хаврошечка возвращается. За идею Хульдры спасибо одной моей одноименной ПЧ.

Название: Сестрица моя, Хаврошечка
Канон: русская народная сказка
Автор: Nicoletta Flamel
Бета: Gabrielle Delacour
Размер: мини, около 2280 слов
Персонажи: Хаврошечка, сёстры, матушка, батюшка
Категория: джен
Жанр: драма
Рейтинг: PG-13
Предупреждения: POV средней сестры (той самой Двуглазки), неграфичные смерти персонажей.
Краткое содержание: средняя сестра не любит Хаврошечку, а есть ли за что её любить?
скрытый текст***
— Спи, глазок, — поёт-мурлычет, — спи, другой.
Колдовства на полмизинца — весковая знахарка её легко заткнёт за тканый пояс. И спать совсем не хочется. Но я знаю, чувствую каждым вздыбившимся волоском на теле: не в Хавронье дело, не в песенке этой нескладной. А в корове, что на меня глазами-омутами уставилась.
Смотрит, молчит. Отмахивается от мух. «Спи, глазок» — хлесь хвостом по правом боку, «Спи, другой» — хлесь по левому. Солнце августовское так и жарит, а у меня по спине холодная струйка пота течёт.
Закрыла я оба глаза, дышу ровно. Сплю, значит.
Слышу: зашуршало что-то, замычала корова низким утробным стоном, ясный свет сквозь веки померк ненадолго, а потом снова стал прежним. Вздохнула я, будто бы сквозь сон, и ресницы чуточку разлепила.
Вижу: стоит Хавронья на полянке, скатывает в рулоны белёное полотно. А конец того полотна из уха коровьего тянется. И кровь из того же уха на траву падает — густая, чёрная, — словно не кровь, а комья вязкой могильной глины. Но полотно в руках Хавроньи сияет свежевыпавшим снегом.
Испугалась я. Всё вспомнила: и матушкину немочь неведомую, что год от года лишь крепнет; и ветку случайную, многажды клятую, что глаз старшей сестре выбила, — аккурат когда та замуж собралась за парня из соседней вёски (да только кто ж её с бельмом теперь возьмёт?). И сестрёнку младшенькую, любимую, вспомнила, которую матушка от Хавроньиного отца зачала, носила тяжело и несколько раз чуть не скинула до срока. Шестой годок девчонке пошёл, а до сих пор как выйдет со двора, так все окрестные ребятишки в неё грязью кидаются, уродиной дразнят. Глаз сестрёнкин вспомнила — тот самый, третий, что наростом между бровок белёсых бугрится. А ещё встала передо мной картинка живая, как Хавронья на матушку смотрела, когда та, живот придерживая, возле печи хлопотала. И сложилось у меня всё разом в одну правду страшную. Только от правды этой мне дышать тяжело, и на сердце камень лёг — ни сдвинуть, ни скинуть: не уберегу я ни матушку, ни сестёр, если болтать буду.
А Хавронья-змея склонилась надо мной, говорит ласково:
— Просыпайся, сестрица любимая, вижу, сморило тебя, да вечер уже, пора корову домой гнать.
Потянулась я, зевнула, посетовала на лень свою, подивилась Хавроньиному рукоделию. А у самой сердце в пятках болтается: вдруг учует она мою ложь?
Не учуяла. Лишь кинулась морду коровью передником обтирать — там, где последнее пятнышко чёрной крови на белой шкуре запеклось.
— Испачкалась ты, — воркует, — Бурёнушка моя.
***
Вечером я к старшей сестре пристала: скажи да скажи, что видела, когда прошлым летом с Хавроньей на пастбище ходила.
— Ничего не видела, приснула на солнышке, — отпирается и бельмо от меня за прядями волос прячет.
Я гляжу на неё и чувствую: врёт. И ещё знаю: боится. Не меня — Хавронью проклятущую, семя вздорное, сорное.
И такая злость меня взяла — словами не описать. «Погоди ужо, сестрица сводная, — думаю, — за всё сполна с тобой расплачусь».
Стала я сторонкой ходить да приглядываться.
А матушка тем временем нашу младшенькую с Хавроньей на выгон отправила.
И я тихонько следом увязалась. Спряталась за кустами, смотрю: опять колдует, проклятая, коровьи бока оглаживая.
Спит один глазок у сестры моей, спит другой. Только третий на лбу помаргивает, в небо таращится.
Хавронья коровью голову обняла, и тянет-тянет из левого уха бесконечный белый холст. Воздух тихонько потрескивает, плывёт жаркая дымка. Будто здесь мы все: и Хавронья с коровой, и сестра моя, и я, — а будто и не здесь вовсе.
Как солнце полуденный порог миновало, закончилось колдовство. Бабочки запорхали, стрекозы всякие, птичка тонко в ветвях ивы затинькала: «Пить! Пить!»
Будит Хавронья сестру мою, говорит ей, что нужно домой возвращаться. Я в кусты поглубже нырнула, будто и нет меня. А как ушли они, выбралась тихонько на полянку, прошлась по следам, собрала разного: там камешек, там веточку, там льняную ниточку, там шерстинку коровью, — туго-натуго в носовой платок увязала и бегом к старушке-ведунье, что на околице живёт.
— Помоги, — взмолилась, — бабушка! Хоть чем помоги!
Ведунья дунула-плюнула и начала колдовать по-своему: сожгла шерстинку в печи — полыхнул огонь языками лазурными, бросила камешек в миску с водой — упал он на дно каплей багряной, посыпала веточку щепоткой толчёных трав — выгнулась веточка в пальцах, изломалась, в труху рассыпалась. А ниточка и вовсе в воздухе льдинкой истаяла, будто и не было её никогда.
Стоит ведунья, руками разводит: «Колдовство есть, но какое — мне, внучка, неведомо».
Вернулась я домой, по пути охапку цветов полевых набрала, чтобы Хавронье глаза отвести. И как чуяла — встретила она меня у ворот.
— Где ходила, сестрица милая?
Я ей букетом в нос тычу: гуляла, мол.
А она:
— И где это такие цветы диковинные растут, уж не на краю ли поля, что за околицей у кромки леса раскинулось?
— Везде, — говорю, — растут. Главное — собирай.
А у самой поджилки трясутся, Хавронья-то чуть ли не пыль с моих босых ног обнюхивает и смотрит недобро, с прищуром. Хорошо, что матушка высунулась в окошко да в дом меня позвала. Наругалась, правда, за отлучку самовольную, велела в наказание навоз из свинарника выгребать. Так я бегом побежала, только бы от Хавроньи подальше.
***
Минуло лето, пришла осень, зарядили дожди — мелкие, тоскливые, холодные.
К старшей сестре вдовец из соседнего села посватался. Хотел ко мне, да матушка не позволила порядок ломать. «Не пущу, — сказала, — младших поперёк старшей». Ну, вдовцу с лица воду не пить, ему молодая сильная работница в дом нужна: от первой жены пятеро ртов осталось, — и приданое какое ни на есть. Короче, свезло сестрице моей, не останется вековухой срок доживать.
Только она счастья своего не понимала: сбледнела вся, осунулась, под глазницами тёмные круги залегли:
— Не пойду замуж, не люб он мне.
Сказала как отрезала.
Ну, матушка тоже молчать не стала, за косу её оттаскала по горнице и велела сватам в ножки кланяться: мол, не переломишься, гордячка. И вправду: поклонилась, сестра моя старшая, не переломилась. Отец на радостях кабанчика заколол.
Вот только накануне свадьбы нашли её в мельничном пруду, уже холодную — в нарядной нижней рубахе из Хавроньиного полотна. Любила, знать, жениха своего первого, хоть тот и отказался от неё, а забыть не смогла.
Поплакали да схоронили. Вдовец уже ко мне сватов заслал, пришлось трауром отговариваться: старый он, плешивый и изо рта воняет, как из ямы отхожей.
А Хавронья ходит павой, смотрит ласково:
— Зря ты, сестрица от счастья своего отказалась. Гляди, какую я фату подвенечную для тебя вышила.
Гляжу: красивая, тонкого льна локтей десять ушло, не меньше, по краю затейливый узор вьётся.
— Спасибо, — отвечаю, — за ласку. Только не по чину она мне, оставь себе на приданое. — А сама в кармане передника фигу кручу.
***
После Сретения матушка совсем расхворалась, начала чахнуть на глазах. Водили её по лекаркам-знахаркам, да всё без толку.
Тут Хавронья и предложила: «Давайте я её в баньку свожу, выпарю-вымою, водицей родниковой окачу, авось в себя придёт».
Я против была, только смолчала. Да и кто бы меня слушать стал?
Натопили баньку, отчим матушку на руках туда отнёс, на полок уложил. Начала и Хавронья готовиться: вскипятила в печи горшок с водой, стала туда какие-то диковинные травы бросать. По избе дух травяной пошёл, все чихают, глаза слезятся, только младшенькая сестрица у Хавроньи за левым плечом стоит, в три глаза смотрит — любопытно ей, даже на цыпочки встала, чтобы ничего не пропустить. Обмотала Хавронья горшок подолом понёвы, понесла в баню.
Увязалась я за ней следом, смотрю в окошко. Оно маленькое, чадное — и Хавронья, и матушка мне размытыми тенями мерещатся. Вот плеснул травяной настой на камни, поднялся пар, скрыло их обеих. Я губы кусаю, ногтями в бревенчатую стену впилась. Изведёт матушку, змея подколодная… как пить дать изведёт.
Хрустнула за моей спиной веточка, я аж вскинулась. А там младшенькая сестрица стоит, хихикает:
— Ты тоже хочешь на Хав’ошечкин хвостик посмот’еть, кото’ый под юбкой сп’ятан? К’асивенький, с кисточкой, как у Бу’ёнки. Только ты не так делаешь, дай покажу, как надо. — И плотно-плотно два глаза зажмуривает (даже ладошкой прикрыла, чтоб, значит, наверняка).
А третий глаз у неё ресницами трепещет, сияет нездешней синевой.
— Видала?
Показала мне язык и побежала в избу.
И вспомнилось мне, как матушка в этот дом замуж шла, а мы со старшей сестрицей, упокоится она с миром, за подол свадебного платья держались и ревели на два голоса. Родного батюшку-то никто из нас обеих не помнил, а отчим уж больно угрюм был с виду да грозен. Только потом оказалось, что сердце у него доброе. Приедет, бывало, с ярмарки, и давай подарки дарить: петушки сахарные, пряники печатные и по шёлковой ленте в косу. Каждую по голове погладит, ни свою не обидит, ни чужую. Только вздохнёт бывало над Хавроньей: «Найдёныш мой, сироточка!» Я по малолетству внимания не обращала, а сейчас от страшной догадки аж вскинулась. «Какую ж ты, отчимушка, нечисть на груди пригрел?» — думаю.
Тут скрипнула дверь бани, вышла Хавронья, отчима кличет. Взяли матушку — в две дохи завёрнутую, разморенную, распаренную, — и в дом понесли.
Стала я к Хавронье совсем по-другому присматриваться: нож железный под руку подложила, щепоть земли могильной на её след насыпала, красной шерстяной ниткой ухват обмотала. Взяла Хавронья нож за костяную рукоять, каравай нарезала и стала ухватом горшки из печи доставать, на стол накрывать. Ни разу не промедлила, от землицы не споткнулась, не застонала жалобно, по подземному миру тоскуючи. Не нежить, выходит, не мёртвый дух.
Да и не смогла бы навка долго с людьми под солнцем жить.
Пошла я опять к старушке-ведунье, в ноги кинулась: «Помоги, бабушка!» Посмотрела она на меня, покивала мыслям своим: «Есть одно средство, внученька, коли осмелишься». Пошепталась со мной, дала для матушки жира барсучьего, велела грудь и спину натирать. С тем и отправила.
А Хавронья меня на пороге встречает, говорит ласково:
— Уж не зла ли ты мне желаешь, сестрица милая?
— С чего ты взяла, Хавроньюшка? — отвечаю. — За лекарством я для матушки бегала. Вот, принесла.
Обнюхала она склянку с мазью:
— Вреда точно не будет.
И в покое меня оставила. А я стою, пояс наглаживаю, в котором ведуньин подарок запрятан. «Погоди, — думаю, — рассчитаюсь я с тобой за всё».
***
Помог барсучий жир матушке, поправилась она к лету. Стала опять по дому ходить, дела справлять. Присела как-то на завалинку горох лущить, тут-то я к ней и пристала: расскажи, мол, да расскажи, как ты с отчимом нашим познакомилась.
— Нечего тут рассказывать, — отмахивается матушка. — В лесу грибы-ягоды собирала, заплутала, испугалась, что не выпустит меня лесной батька к людям, не вернусь я к своим доченькам. Смотрю: девчоночка стоит, годков восемь от роду, Хаврошечка наша. Волосёнки светлые, как одуванчик. «Пойдём, — говорит, — тётя, я тебя домой отведу, здесь близко совсем». И корова с нею пёстрая — Бурёнка. Отвели меня в этот дом, с хозяином его познакомили. Приглянулись мы друг другу, а там и свадьбу сыграли. Дальше ты знаешь.
— А что с первой женой сталось?
— С какой женой? — удивляется матушка. — Бобылём ваш батюшка наречённый жил, пока со мной не встретился.
— Тогда откуда у него дочь? — спрашиваю.
Сыплются глухо горошины в глиняную миску. Шуршит шелуха в матушкином переднике.
— Из лесу, — отвечают мне Хавроньиным голосом. — Из лесу я взялась, сестрица милая. Нашёл меня наш батюшка дитём неразумным, приютил, воспитал, коровьим молоком вскормил.
Подхватилась я, как ужаленная: стоит Хавронья за моей спиной, косища белая из-под платка по груди толстенной змеёй вьётся — того и гляди в самом деле ужалит, — глаза недобрым огнём горят.
А матушка лицо прячет, будто кланяется:
— Спасибо тебе, Хаврошечка, за всё: и за то, что из чащи меня вывела; и за дочь мою третью, живой рождённую; и за спасение от хвори неведомой.
Я аж задохнулась от волнения:
— Матушка, ты кого благодаришь-то? Заманили нас всех сюда на погибель, слезами нашими и горем насытиться не могут. Сестрица младшая ходит по земле уродцем диковинным, старшую сгубили почём зря, тебя едва на тот свет не отправили!
— Молчи! — вскрикнула матушка. — Молчи, глупая!
Откинула Хавронья косу за спину, ко мне шагнула:
— Правду говоришь, сестрица, али так, языком попусту мелешь?
Достала я из пояса прутик тоненький, маленький, что мне ведунья дала, хлестнула крест-накрест воздух перед лицом Хавроньиным.
— Уходи, — приказала, — прочь, тварь лесная!
А у самой поджилки трясутся: вдруг не поможет волчьеягодник?
Зашипела Хавронья, оскалилась:
— Так вот какова благодарность людская? — И хвост коровий из-под понёвы так и хлещет по воздуху.
Упала миска, раскололась, горошины по земле катятся — матушка перенимать меня кинулась.
Но слаба она ещё была, успела я махнуть прутиком второй раз, успела — третий:
— Уходи!
Пятится Хавронья к калитке, я наступаю, а в хлеву Бурёнка мычит-надрывается. Загон рогами выломала, скачет галопом, я едва отскочить успела. Встала корова между мной и Хавроньей — не понять: кого от кого защитить пытается. А сзади матушка руку мою поднятую перехватила, повисла на ней:
— Что ж ты делаешь, доченька?
Повела Хавронья плечами, платок с головы стянула, поклонилась матушке низко, в пояс:
— Прощайте, — говорит. — Не поминайте лихом.
Шагнула за ворота вместе с коровой — и сгинула.
Только калитка на ветру скрипнула, да кончик хвоста в воздухе плеснул.
***
— Полюбила она меня, — плакала матушка. — И я к ней привыкла. Тварь лесная тоже ласку чувствует, по теплу скучает. Ревновала меня вначале, не без этого. Батюшку вашего наречённого она ведь за родного почитала, когда в лесу его деревом придавило — выходила. И он её родной дочерью называл. Душа в душу жили.
— А старшенькая моя, вроде тебя, дурочка была, но смелая, — не унималась матушка, — услышала где-то, что волос чуда лесного клады открывает — с гребня Хаврошечкиного целый пук сняла. «Хочу, — сказала мне, — хоть одним глазком посмотреть». Вот и посмотрела, бедняжка!
Взяла я с матушки слово, что ничего она отчиму не расскажет. Ушла и ушла Хавронья из дома, видно, время настало.
Стали мы как раньше жить. Да только хуже, чем раньше.
Молоко Бурёнкино жирное было, густое — и сыр, и масло с него делали, всю зиму кормились. И телята от неё велись — заглядение: любой на базаре покупал, не торгуясь. И полотно Хавроньино прибыток в дом несло, куда там моему, на кроснах тканому.
Отчим по Хавронье горевал, конечно, но держался. А когда младшенькая сестрица пропала — на человека перестал походить, запил, выносил из дома последнее. Оно и понятно: единокровная всё-таки дочь, не приблудная.
Искали мы её долго, всех окрестных весковичей опросили. «Видели, — говорили нам, — шла к опушке леса, а за соснами корова мычала, будто звала».
Матушка как услышала — опять расплакалась: «Не оставит Хаврошечка её своей добротой». Слаба совсем была, но к лесу из последних сил ходила, деревья гладила, говорила с ними о чём-то: видимо, за дочерей просила — родную и приёмную.
А ещё через год, аккурат на годовщину матушкиной смерти, ко мне опять тот вдовец посватался. «Кому ты без приданого нужна будешь», — сказал.
Я подумала — и пошла.
Тут для меня сказка закончилась.

Nicoletta Flamel, блог «Прозаек»
О чем молчит попугай...

Nicoletta Flamel, блог «Прозаек»
Будем жить
Название: Будем жить
Канон: Владислав Крапивин, «Самолёт по имени Серёжка»; к/ф «В бой идут одни старики»
Автор: Nicoletta Flamel
Бета: fandom DetKlass 2016
Размер: мини, около 2000 слов
Пейринг/Персонажи: Сергей Скворцов, Серёжка Сидоров, Ромка Смородкин, Старик
Категория: джен
Жанр: драма, агнст
Рейтинг: PG-13
Краткое содержание: не все самолёты разбиваются навсегда
Примечание: канонные смерти персонажей и неканонные жизни. Небольшое AU по отношению к двум канонам.

***
Не всякий немец боится лобовой.
Старший лейтенант Сергей Скворцов понимает это слишком поздно. В тесной кабине самолёта всё: и звуки, и запахи — кажется одной сплошной пеленой. Сквозь рокот мотора и свист воздушных потоков; сквозь едкий чёрный дым, набившийся внутрь; сквозь отчаянный хрип динамиков, врывающийся в уши отчаянным малороссийским акцентом: «Серёга, у тебя пулемёты заклинило, сворачивай, холера тебя подери!» — Сергей Скворцов видит наплывающее на него лицо немецкого лётчика: отчаянное безусое лицо, с прокушенной до крови нижней губой… И удивляется краем сознания: надо же, разглядел! Горящее масло из пробитого мотора тягучими огненными каплями падает с приборной панели, обжигает колени. Лётные перчатки дымятся в тех местах, где на них попали искры, но Сергей не чувствует боли.
Не всякий немец боится лобовой. Советская пропаганда ошибалась. А значит, всё это было — зря.
Небо горит над Курском.
И в этом огне растворяется всё.
***
У Серёжки светлые с песочной рыжиной волосы, дырка в голубом носке и синяк под коленкой. Обычный мальчишка, каких много в каждом дворе. Но почему-то от его присутствия квартира будто озаряется невидимым светом. Я тороплюсь показать ему всё — и книги, которые собирал мой дедушка, мамин папа, и модели самолётов, склеенные мной, и даже самое сокровенное — старую фотокарточку другого дедушки, давным-давно погибшего на войне.
— Он был лётчиком? — Серёжка уважительно присвистывает, бережно держа фотографию за уголок.
— Старшим лейтенантом. Имел целых два ордена и звание Героя Советского Союза, — я сглатываю невидимый комок. — Посмертно. Ты не подумай, будто я хвастаюсь, просто…
— Я понимаю, — кивает Серёжка.
И меня затапливает тёплая волна благодарности к нему.
— Расскажи ещё про деда, — вдруг просит он, глядя, как за окном моей комнаты шелестят тополиные ветки.
— Я мало про него знаю. Бабушка говорила, что совершил два воздушных тарана. После первого — выжил, а вот второй… Они ведь даже не были женаты. На войне без этих церемоний обходились, не до того…
Серёжка опять кивает: действительно, мол, не до того.
— Как его звали-то?
— Сергеем, как тебя, — неловко улыбаюсь я, боясь, что Серёжка примет мои слова за попытку подольститься к нему. — А фамилию бабушка не помнила. Записала папу под своей — Смородкиным. И больше замуж не вышла, как её ни уговаривали.
— Почему? — спрашивает Серёжка, а глаза у него синие-синие, как летнее небо.
— Любила, говорит. Да и некогда после войны было всякими глупостями заниматься. Хотя кто этих девчонок поймёт.
***
— Подавай в трибунал, командир!
Ему повезло: в последний момент успел рвануть рычаг, сбросить фонарь и вывалиться из горящей кабины. Ему повезло: раскрытый парашют спланировал не за линию фронта. Ему повезло: отделался лёгкой контузией и переломами, фельдшер из санчасти так и сказала: в рубашке родился.
И вот сейчас Сергей Скворцов сидит перед гвардии капитаном Титаренко, перед Героем Советского Союза Алексеем Титаренко, перед Лёшкой Маэстро, знакомым до мельчайшего чиха, и, изо всех сил стараясь, чтобы не дрожала рука и не дал петуха голос, предательски протягивает заявление о переводе в наземные войска.
А что ещё можно сделать? Если при каждом взлёте сердце начинает биться в такт рваному ритму мотора, а руки, до боли в костяшках вдавившиеся в рычаги, теряют чувствительность и мерещатся самолётными крыльями, расправленными в полыхающее, перепаханное пулемётными очередями небо. Если даже после приземления под коленями не проходит мелкая противная дрожь, и только глоток неразбавленного спирта из фляжки помогает уснуть — и не видеть сны, в которых старший лейтенант Скворцов раз за разом снова идёт в лобовую.
А что ещё можно сказать? «Я боюсь стать самолётом?!» — вздор, чепуха! За войну они видели всякое. В том числе — и груду горячего металла вместо кабины, из которой при всём желании нельзя было достать человеческое тело, намертво вплавленное в тело самолёта. Лёшка, конечно, не станет смеяться, отчаянным жестом взъерошит примятую фуражкой копну поседевших волос, скажет что-нибудь ободряющее и бессмысленное, вроде «будем жить, Серёга!». А в следующем бою опять всё повторится заново: и морок про руки-крылья, и бессильная ложь про заклинившие пулемёты, и чёрная пелена перед глазами, сквозь которую проступают очертания какого-то мирного Города, не похожего на остальные города.
И, неловко плюхнувшись на аэродром, Сергей Скворцов долго будет сидеть — не в силах откинуть фонарь и открыть залитые холодным потом глаза. Будет слушать, как затихают последние обороты мотора, как сердце колотится в груди, как… И кто знает, может однажды, на землю вернётся полностью исправный самолёт с целёхонькой пулемётной лентой, в кабине которого не будет никакого пилота, потому что…
Сергей старается об этом не думать.
Лучше уж пехота или штрафбат.
Но Лёшка, как всегда, решает иначе. В небольшом костерке корчится скомканный бумажный листок.
***
Серёжка умеет превращаться в самолёт. Вначале я думал, что это мне только снится. Но потом…
Потом он всё рассказал мне — и про то, как случайно нашёл дорогу в Заоблачный Город, и про Старика, и про сны, которые иногда бывают переходами в другие пространства. Да ещё и отмахивался, словно ничего особенного не происходит: дескать, каждый мальчишка может стать самолётом, если захочет.
— Превратись, хоть на минуточку! — попросил я, когда мы в очередной раз вместе пошли гулять.
И вот уже над белыми соцветиями-зонтиками возвышается небольшой бело-голубой самолётик с пятиконечной звездой на борту.
А в следующее мгновение ко мне опять бежит улыбающийся во весь рот Серёжка.
Только раскалённый солнцем воздух качнулся, словно невидимый маятник, — туда-сюда.
— Здорово, — восхищённо выдохнул я и, помолчав немного, добавил: — Вот если бы мой дед умел так, как ты. Его бы сбили, а он — ррраз! — и стал человеком.
Серёжка помрачнел.
— Если ты разбиваешься во сне, то умираешь наяву — навсегда. Про это Старик говорил, — он присел на траву рядом с моим креслом-коляской, обнял худые колени. — Знаешь, иногда мне кажется, что чёрные орлиные тени на границе Безлюдных Пространств — это души сбитых самолётов из той, далёкой войны.
— Вражеских? — выдохнул я.
Серёжка посмотрел на меня серьёзно и горько.
— И вражеских, и наших. Понимаешь, Ромка, самолёт, вся груда металла — это как бы тело. А лётчик, сидящий в кабине — его ум и душа. И когда они разбивались, то разбивались вместе. Что-то, конечно долетало до земли, а всё остальное — злость там, ненависть к врагу, нежелание умирать или, наоборот, желание подороже отдать свою жизнь — проваливалось сквозь грани миров. И оставалось там навсегда.
Я почувствовал, как, несмотря на жаркий летний день, между моими лопатками ползёт струйка холода.
— Не бери в голову! — вдруг хлопнул меня по плечу Серёжка. — Это всё страшилки. Их у нас в Заоблачном Городе каждый мальчишка знает. А Старик грозится уши надрать, если ещё раз от нас такое услышит.
Я хочу спросить Серёжку, откуда на его борту взялась белая звезда с потёками краски - будто нарисованная наспех, через трафарет.
Но Серёжка уже бодро катит моё кресло по траве и болтает о неопасном и весёлом: о девчонке Сойке и пирожках с капустой, о книжках и о том, как нам влетит от моей мамы, если мы опоздаем к ужину.
И я решаю не перебивать его.
***
«Будем жить!» — это звучит как тост, как присказка (вроде знаменитого Лёшкиного «От винта!»), и одновременно — словно заклинание или тщетная человеческая попытка обмануть смерть.
Во сне я опять вижу стены Заоблачного Города.
А в следующем бою у Лёшки отказывают пулемёты. И я — ведомый, бесполезно болтающийся на хвосте, помнящий вкус дыма на обожжённых губах — вступаю в бой.
«Развели педагогику!» — матерится в рацию командир.
Потому как Лёшка, отчаянная голова, с самого начала знал, на что меня можно купить со всеми потрохами. Самолётом или человеком, но я не могу допустить, чтобы из-за моего бездействия погиб друг.
«Мы ещё повоюем!» — хрипит в динамиках радостный гвардии капитан Алексей Титаренко, мой командир Алексей Титаренко, безумный засранец Лёшка Маэстро, которому моя способность убивать врагов важнее собственной жизни.
Я ненавижу его. Я готов отдать за него жизнь. Я… а, ко всем чертям!
Когда механик рисует на фюзеляже моего самолёта пятиконечную звезду, я чувствую, как точно такая же (только чуть поменьше) проступает на моём боку, под мокрой от пота гимнастёркой. Да ещё и чешется, скотина, будто назойливый комариный укус.
На вечерней репетиции Второй Поющей я ору громче всех. Лёшка, шутя, грозит мне пальцем: потише, мол, будущий солист Большого Театра, из-за тебя хора не слышно.
Премиальные сто грамм за сбитый самолёт я проглатываю, не закусывая. Спирт сразу же обжигает желудок, приятное мутное тепло разливается по всему телу, и я забываю о маленьком белёсом шрамике на левом боку.
Потому что в самом деле — чепуха, пятнышко не больше ногтя. Мало ли на мне отметин и шрамов, чего про них переживать.
Снов я больше не вижу.
***
Не верьте, если вам скажут, что Рома Смородкин двенадцати лет погиб в катастрофе. Чушь!
Со мной столько всего произошло, что когда-нибудь я напишу об этом целую книжку.
Мои ноги внезапно выздоровели, я вырос, выучился на художника-дизайнера, женился на Сойке, и у нас есть отличная дочка Наденька.
Только в коробке с книгами, которую я перевёз из старой квартиры, стало на одну фотографию больше. Так они и лежат рядом — мой дед, старший лейтенант Сергей, и его маленький вихрастый тёзка.
По возрасту я давно перерос их обоих. Мне (страшно признаться!) уже давно за сорок.
Иногда летом, спровадив Сойку и взрослую Наденьку в деревню, я допоздна засиживаюсь на кухне, достаю заветный конверт с фотографиями и смотрю на них, пока глаза не начинают слезиться от усталости. И тогда мне кажется, будто у обоих Сергеев один и тот же прищур прозрачных глаз, и одинаковая улыбка.
А ещё они оба разбились — каждый на своей войне.
Но Серёжка мне ещё немного снился прежде, чем уйти навсегда. Говорил, что Старик разрешает, если недолго.
— Возьмёшь меня в Заоблачный город, когда придёт время? — спросил я его на прощание.
И Серёжка-из-моего-сна кивнул:
— Я прилечу за тобой. Сам ты можешь не найти дорогу.
***
Старик похож на майора Ермакова, нашего комполка. Несмотря на прозвище, не старый ещё, худой, высокий, небритый.
Я лежу в его доме на кровати. В жестяной кружке на тумбочке исходит паром горячий крепкий чай. Сквозь открытое окно доносятся мальчишечьи голоса.
Я помню, как умер.
Я помню, как направил горящий самолёт в эшелон фашистских вагонов с топливом. Помню, как отказал двигатель. И отчаянное Лёшкино «Прыгай, Серёга!» — тоже помню.
Но прыгнуть я не мог. Ручку аварийного сброса фонаря намертво заклинило под сиденьем. К тому же я знал: без меня самолёт не долетит до цели. И знал, что просто так он меня не отпустит. Потому что я уже почти целиком стал - им.
Когда я говорю об этом Старику, тот не смеётся, только сокрушённо качает головой. А потом говорит что-то о Безлюдных Пространствах и подвижных участках закрытого поля.
— Мальчишки называют их тенями чёрных орлов. Но лично мне они напоминают очертания самолётов из старой кинохроники. Вы видели когда-нибудь?
Я хочу сказать, что не успел. Что не дожил до того дня, когда киноплёнку с военными кадрами начнут называть старой. Но Старик смущённо покашливает, видимо понимая, что сморозил глупость.
— Вы слишком хотели жить. И у вас была какая-то цель. Вы сумели прорваться через грани, и не стать одной из таких… кхе-кхе… теней.
— А сейчас? — мрачно спрашиваю я, морщась от боли в груди.
— Вы умираете, — просто отвечает Старик. — Ваше человеческое тело сгорело за много лет и пространств отсюда. Вы не должны были жить. И скоро вы просто исчезнете.
— Как остальные? Как Лёшка Маэстро?
— Я не знаю про остальных, я вам уже говорил.
— Ну что ж, — говорю я. — Один раз я уже умирал. Если хотите знать — это не страшно.
Старик кивает. То ли соглашается со мной, то ли и в самом деле — знает.
— Есть один способ. М-м-м-м… экспериментальный, скажем так. Я могу отправить вас обратно — в виде сгустка энергии. Если всё получится, вы родитесь у какой-нибудь женщины и проживёте новую жизнь. Вот только со временем я могу не рассчитать — до вашей войны или после. Вам ведь всё равно?
Я пытаюсь расхохотаться, но захожусь в хриплом надсадном кашле. Перед глазами плывут разноцветные круги.
— Мне говорили, что бога нет, — бормочу, едва отдышавшись. — Но вы так похожи на него.
— Глупости, — Старик улыбается. — Я — всего лишь учёный. Так вы согласны?
— Будем жить! — хриплю я в ответ.
И проваливаюсь в черноту.
***
Чем старше я становлюсь, тем чаще мне снится Заоблачный Город, — такой же, как в детстве. По утрам после таких снов у меня неприятно ноет сердце. Сойка приносит таблетки, ворчит, что нужно показаться врачу.
Наденька уже давно Надежда Романовна, замужняя учительница младших классов. Скоро она уйдёт в декрет, и мы с Сойкой станем бабушкой и дедушкой.
А за окном всё так же шелестят тополя — уже другие, чем в моём детстве, ведь с тех пор мы несколько раз переезжали с места на место. И я беспокоюсь, что однажды, когда придёт время, Серёжка не сможет прилететь за мной.
Видимо, зря.