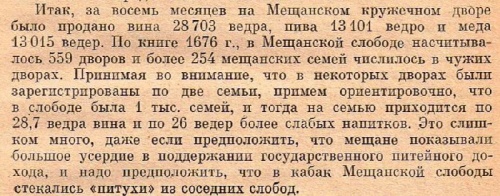Что почитать: свежие записи из разных блогов
Записи с тэгом #early modern Russia из разных блогов

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Изучение родственных связей внутри этой группы с помощью методов анализа социальных сетей позволило выявить структуру элиты: ее внутренний круг (40% элиты; в т. ч. ядро, этим термином обозначены наиболее сплоченные сообщества, составлявшие 10%), внешний круг (16%) и периферию (44%). Плотность родственных связей в сети сильно различалась: если во внутреннем круге все без исключения представители правящего слоя были объединены между собой близким или дальним родством, то периферия являлась мозаикой из сотен лиц в «генеральских» рангах, как правило не связанных между собой и не имевших других родственников в элите. Социальный состав правящего слоя от его ядра к периферии тоже менялся.
скрытый текст
Основная масса традиционной элиты (65-91%), в первую очередь аристократия, закрепилась во внутреннем круге; новичков из числа русских и иноземцев здесь насчитывалось только 25-32%. Периферия являлась почти зеркальным отражением внутреннего круга: новых людей здесь было гораздо больше, чем старой элиты. Оценка влиятельности представителей разных фамилий показала, что решающую роль в коммуникации внутри элиты играла московская знать – Голицыны, Долгоруковы, Салтыковы, Головины, Шереметевы, Прозоровские, Одоевские, Бутурлины, Куракины, Черкасские, Трубецкие, а также ряд родов, попавших в Думу при первых Романовых – Нарышкины, Стрешневы, Татищевы и Волконские. Вместе с тем, концепция Дж. ЛеДонна о борьбе в элите двух «расширенных кланов» Салтыковых и Нарышкиных не нашла наглядного подтверждения.
Анализ также показал, что между местом человека в этой сети родства, его карьерой и благосостоянием существовала очень сильная взаимосвязь.
Подчеркну, что решающую роль здесь играли именно родственные узы, а не происхождение. Входившие в ядро правящего слоя быстрее остальных продвигались по карьерной лестнице, чаще состояли на привилегированных видах службы (придворная, гвардейская, дипломатическая), имели в среднемсамые высокие чины, им дольше других удавалось сохранять свои позиции во власти и, наконец, в их собственности было гораздо больше крепостных.
Вошедшие в ядро элиты, по сравнению с остальными, получали лучшие шансы на сохранение высокого социального статуса семьи: 41-54% из них имели в составе элиты отца или деда, а 58% – одного или нескольких сыновей. По мере удаления от ядра перечисленные показатели снижались, а наиболее низкие отмечались на периферии элиты. Интересно, что место человека в этой сети влияло даже на характер служебных назначений и тип карьеры (военная, гражданская или смешанная). Лица, интегрированные в ядро правящего слоя, медленнее других отказывались от традиционного московского типа смешанной карьеры, тогда как аутсайдеры, оставшиеся на периферии и имевшие слабые связи в элите, более явно, чем остальные, демонстрировали новый подход к карьере, предпочитая специализацию только в одной сфере.
В результате петровских реформ важной частью российского правящего слоя стали иноземцы, но из-за религиозных барьеров они имели меньше возможностей закрепиться в его составе, чем русские. Так, во внутренний круг элиты вошли 48% русских и только 25% иноземцев, на периферии же остались 38% и 58% лиц соответственно. Успешнее других с задачей интеграции справлялись уроженцы Восточной Европы (во внутреннем круге 48% лиц; многие из них являлись православными), остзейцы (38%) и иноземцы «старого выезда» (31%). Браки, как и прежде, заключались в основном в своей конфессиональной среде: родственников среди русских имели 59% выходцев из Восточной Европы, 31% иноземцев «старого выезда» и лишь 13-14% уроженцев Центральной и Западной Европы, Скандинавии и Прибалтики.
Сравнение чинопроизводства в Московском государстве и в России после петровского времени (1725-1762 гг.) показало, что Табель о рангах существенно ограничила вертикальную мобильность: интенсивность пополнения состава элиты новыми людьми в изучаемый период была вдвое ниже, чем в 1613-1689 гг. Как и прежняя система, Табель поддерживала «непотизм» старых фамилий и способствовала его распространению среди новых. Неизменным остался способ закрепиться в правящем слое – породниться со старой элитой, в первую очередь с наиболее влиятельной ее частью, аристократией.
Несомненно, по своему замыслу Табель о рангах была продуктом рационального стиля мышления. Свидетельством этого, в частности, является введение иерархического чиновного деления, систематизация чинов (воинских, статских, придворных), требование прохождения службы с самых нижних рангов независимо от происхождения, обязательность получения дворянством образования. Однако выявленная тесная взаимосвязь между родственными отношениями и службой позволяет поставить под сомнение укоренившуюся точку зрения о том, что созданная Петром I система чинопроизводства кардинально отличалась от старой московской.
С. В. Черников «Союз родства и узы крови»: генеалогия и структура правящей элиты России 1725-1762 гг. // Cahiers d’histoire russe, est-européenne, caucasienne et centrasiatique, 65/1, Janvier-mars 2024

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Цены на бумагу в России в 1580 - 1710 гг.: основные факторы и последствия
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. №96. 2024
скрытый текстСтопа бумаги = 20 дестей = 480 листов. Десть = 24 листа.
Бумага рассматривается писчая.
Судя по собранным автором данным средняя номинальная цена бумаги с конца XVI века и до начала восемнадцатого столетия постепенно росла, увеличившись за это время в два или даже в три раза (см. таблицы). Однако реальная ее цена, с учетом изменения серебряного содержания рубля на протяжении XVII века в целом оставалась стабильной, а в начале XVIII века ощутимо понизилась.
Сведения о движении московских цен подтверждаются имеющимися сведениями о динамике цен в Вологде и Курске.
Максимального уровня цены на бумагу в Москве достигали в 1654 году: 25 - 29 денег за десть. В городах, куда бумага попадала с московского рынка она могла стоить несколько дороже. Так, в 1640-х годах в Курске привозная бумага из Москвы стоила 10 денег за десть (в Москве - 8 денег). В отдаленных регионах при нехватке бумаги цены могли в разы превышать московские. Так, в 1649 году в Москве десть бумаги стоила 7 - 12 денег, а в Енисейске 15 - 30 денег.
В целом, по мнению автора «изменения цен на бумагу на российском рынке не определялись влиянием одного-двух доминирующих факторов, а были обусловлены влиянием совокупности разнонаправленных факторов, в разные периоды имевших разную силу». Так, он не видит существенного влияния европейских цен на российский рынок бумаги и т. д.
Приводятся также сведения (из «Очерков по истории русской промышленности» П. Г. Любомирова) о ввозе бумаги в конце петровского правления - «морем через порты Петербургский, Ревельский, Нарвский, Выборгский и сухопутьем через Смоленск в Россию было ввезено в 1717 г. более 26 500 стоп, в 1718 г. – 37 000, в 1719 г. – свыше 50 500 стоп... в 1720 г. – около 49 000 стоп, в 1721 г. – 45 000?, а в 1722 г. – около 11 500 стоп».
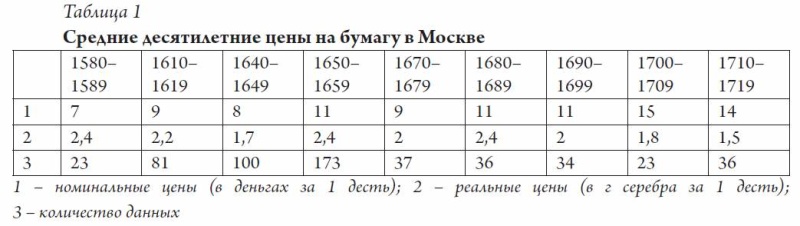
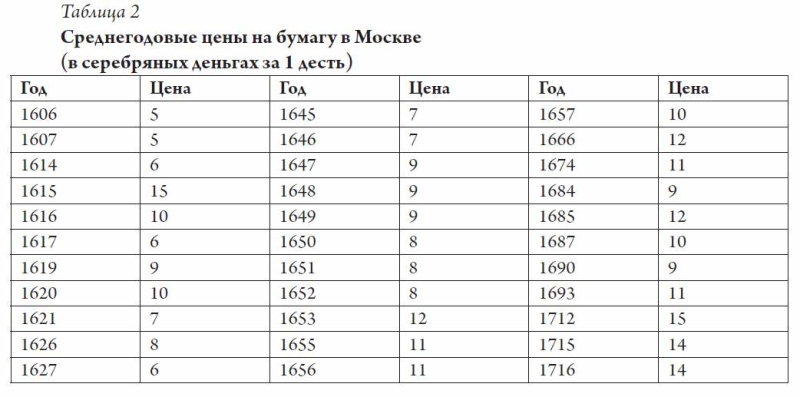

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Смоленская война 1632 - 1634 годов. Организация и состояние Московской армии.
Книга впервые издана в 1919 году в Киеве и давно стала библиографической редкостью. Взгляды автора местами конечно устарели, но ценности его работа не утратила. Издано очень хорошо - ничего не выкинули, прекрасная полиграфия - отличные бумага и печать, цена, по нынешним меркам, весьма скромная, в общем, издательство «Вече» молодец, не то, что некоторые.
скрытый текстЧисленность и состав вооруженных сил на 1632 год
скрытый текстСведения приводятся по изданной автором в 1910 году смете 1632 года*.
Согласно смете 7140 / 1632/33 года общая численность русских вооруженных сил составляла 104 714 человек:
— 2 963 человека по московскому списку
— 24 714 городовых дворян и детей боярских
— 33 775 стрельцов
— 11 471 казак
— 9 549 служилых татар, новокрещенов, литвы и черкас
— 4 244 человека пушкарского чина
— 10 786 ясашных инородцев
— 6 118 чинов полков нового строя и иноземцев (из них собственно иноземцев - 189)
— 1 098 прочих
Московский список включал четырех татарских царевичей, 14 бояр (один из них служил воеводой в Новгороде), 7 окольничих (один воеводил в Казани), одного думного дворянина, 2 думных дьяков, кравчего, постельничего, ясельничего, 2 больших мурз, 286 стольников (из них 19 на воеводствах), 532 патриарших стольников, 100 стряпчих, 947 дворян московских, 777 жильцов, 2 шатерничих, 86 дьяков и 5 патриарших дьяков и 194 переводчика и толмача.
Из 947 дворян московских 16 сидело в приказах, 121 по воеводствам, 16 - у городового дела, 41 - был в писцах по городам, а теперь на Москве у составления писцовых книг, 17 - посланы сыскивать разбойные дела или у донского дела, 29 - в посольствах, 5 - в приставах у послов и проч. (т. е. на каких-то службах было не менее 245 человек).
Из 777 жильцов 30 человек было на Валуйках для посольской размены и 26 на прочих службах (в городах, в посылках из приказов и на службе вместе с отцами, дядьями и прочими родственниками).
Из 24 714 городовых дворян 16 234 чел. были расписаны не по чинам, а по статьям разборов 138 и 139 (1630/31 и 1631/32) годов - 6 076 чел. в первой, 4 737 во второй и 5 421 - в третьей статье. 3 936 человек были расписаны по чинам (45 - выбор, 275 - новики, остальные - дворовые и городовые) и еще 4 345 указаны без чинов и статей [всего соответственно - 24 515 человек].
Далее, как пишет автор, 686 чел.** по разбору 139 года были записаны в статью отставленных за старостью и за увечья или по бедности написанных в городовую службу (из них 200 отставленных по старости и увечьям, 11 на службе (5 губных старост, 5 - у засек, 1 - городовой приказчик), 5 - бродят меж двор, остальные 470 в городовой службе).
Еще 1 857 человек, по тому же разбору, «собою добры», но тоже по бедности написаны в городовую службу.
В число 33 775 стрельцов включены 118 стрелецких (и казачьих) голов, 340 сотников и 33 317 собственно стрельцов (в т. ч. 1 812 конных). Московских стрельцов - 12 голов, 61 сотник, 6 100 стрельцов, из них на Москве - 11 голов, 45 сотников, 4500 стрельцов, остальные (голова, 16 сотников, 1 600 стрельцов) на службе в Вязьме, Путивле, Брянске и Валуйках.
Казаков автор всех записал в конницу.
Из 9 549 служилых татар, новокрещенов, литвы и черкас, собственно татар и новокрещенов было 8 695 человек, еще 854 человек это «татары, новокрещены, литва и черкасы» записанные нераздельно.
Большая часть татар и новокрещенов (ок. 8 000) ведалась Казанским дворцом.
Из числа поместных татар и новокрещенов 423 чел. расписаны по статьям - 117 в первой, 161 - во второй и 85 - в третьей.
Ясашных инородцев, как отмечает тот же А. В. Малов, вообще нельзя относить к служилым людям, это фактически ополченцы, мобилизуемые только в чрезвычайных обстоятельствах («большая повальная служба») - по одному человеку с трех дворов.
Людей пушкарского чина имелось всего 4 244 человека, из них собственно пушкарей и затинщиков - 2 777 человек (+ 32 пушкаря, затинщика, плотника и захребетника нераздельно), воротников - 505, кузнецов - 134, плотников - 133.
К производственной части относилось примерно 189 человек: 4 головы пушкарских и железных мельниц, 52 железных и селитренных мастера с 19 учениками, 3 пушечных литца с 29 учениками, 3 колокольных литца с 12 учениками, 8 паникадильных мастеров с 8 учениками, плавильщик с 6 учениками, 4 часовника, 7 паяльщиков, 4 пильника, 2 чертежника и знаменщика, 3 резца, 4 канатчика и 20 извозчиков.
Еще 480 человек несли другие службы: 30 засечных голов, 143 засечных сторожа, 12 засечных приказчиков, 11 вожей, 221 рассыльщик, 41 городовой приказчик, 2 городничих, 3 рассылочных подьячих, 17 казенных сторожей.
В графу «Армия иноземного строя и иноземцы» автор записал 2 полка нового строя - 3 323 русских солдата (прибраных из детей боярских, новокрещенов, татар, казаков и вольных людей) и 189 иноземцев (4 полковника, 3 подполковника, 4 майора, квартирмейстер, 15 ротмистров, 24 капитана, 29 поручиков, 25 прапорщиков, 87 чел. иных чинов).
Помимо этого [если автор конечно не посчитал упомянутых выше иноземцев в полках нового строя в числе московских] имелось 1 450 московских иноземцев (426 поместных и 1024 кормовых) и 1 749 служивших по городам (включая черкас). Еще 345 иноземцев ведалось в Посольском приказе.
Таким образом, всего иноземцев с черкасами имелось [считая служивших в полках нового строя] - 3 388 человек, без них - 3 199, с Посольским приказом - 3 733 или 3 544 чел.
Из общего числа служилых людей 38 248 чел. числилось за Казанским дворцом: 1 449 детей боярских, 11 861 чел. стрельцов (со 147 головами и сотниками), 1 987 казаков (с 11 головами) + 504 стрельца и казака нераздельно, 16 000 инородцев (видимо включая ясашных), 476 чел. литвы, немцев и черкас + 815 чел. литвы, черкас, казаков, новокрещенов и татар и проч.
Как отмечает автор, в целом, за вычетом большей части людей Казанского дворца и дальних северных гарнизонов, отставленных, бедных, а также занятых на службах русское правительство [теоретически] могло выставить против поляков и крымских татар не более 60 000 человек.
* Как отмечает А. В. Малов: «Из-за плохого физического состояния столбца мы имеем, по сути, реконструкцию документа публикатором... Изучение состава авторской реконструкции не дает основания довериться подсчету автором численности российских войск в 104 714 чел. (включая иностранных наемников), поскольку обнаруживается отсуствие некоторых известных по другим документам небольших категорий ратных людей... В то же время некоторые цифры наводят на мысль о механическом складывании публикатором промежуточных и итоговых подсчетов составлявших смету подьячих». См. - Сметы и сметные росписи Разрядного приказа (1630-1681 годов) в контексте военного строительства в России XVII века // Белгородская черта. Вып. 5. 2020 год
** Видимо из числа вышеуказанных, самой Сметы у меня нет, а из авторского текста трудно понять кто на ком стоял.
Служилые иноземцы до Смоленской войны
скрытый текст
По сведениям автора, московских иноземцев на 1623 год имелось 780 чел. (421 чел. поляков и литвы, 105 немцев, национальная принадлежность 245 иноземцев неизвестна).
На 1627 год московских иноземцев было 763 (322 поляка и литвина, 295 немцев и 146 немцев, литвы и поляков без разделения), по городам служило более 742 иноземцев, всего, таким образом, св. 1 505 человек.
На 1629 год московских иноземцев было 976 (281 поляк и литвин, 201 немец и 494 чел. немцев, литвы, поляков, гречан, волохов, сербов, венгров без разделения), по городам служило 1 458 иноземцев (344 поляка и литвина, 404 черкаса + 63 днепровских казака и 647 немцев, литвы, черкас и турских выходцев без разделения), всего, таким образом, 2 434 человека.
Наконец, на 1632 год московских иноземцев имелось 1 450 (808 поляков и литвинов, 525 немцев и 117 гречан), по городам служило 1 749 иноземцев, всего, таким образом, 3 199 человек.
Численность иноземцев, таким образом, после Смуты постоянно росла, наиболее значительную группу среди них составляли поляки и литва, а в городах - еще и черкасы [т. е. иноземцы довольно условные]. Большая их часть выезжала в Москву индивидуально или мелкими группами, массовых выездов известно два - бельские немцы в 1614 году (130 человек) и ушедшие от Сагайдачного в 1618 году черкасы.
Особенно много выездов случилось в королевичев приход 1618 года - не менее 65 человек: 39 поляков и литвинов (в основном шляхта служившая рядовыми солдатами, несколько пахоликов, ротмистр и еще 2 начальных человека), 24 «немца» (в т. ч. 2 француза, ирландец, шотландец, гамбуржец, по 4 из прусской и англинской земли, 3 из цесарской земли и 2 из свейской).
В 1628 году через Иноземский приказ было устроено 37 иноземцев (35 выходцев этого года и два 1627-го), присланных из Разряда (28 человек) и Посольского приказа (9 человек). Из общего числа иноземцев поляков и литвинов было 29 чел., греков - 4, немцев - 2, татар и новокрещенов - 3, русских полонянников - 4, плюс некий «белорусец, выходец из турской земли». 8 из 37 выходцев были отправлены служить в Нижний, остальные остались в Москве.
В 1629 году через Иноземский приказ был устроен 31 иноземец (в т. ч. один выходец 1622 года). Из общего числа поляков и литвинов было 14 чел., греков - 7, немцев - 6, запорожцев, сербов, волошан и венгров - по одному. Двое выходцев были посланы в Нижний, двое на двор к Христофору Рыльскому, остальные причислены к московским иноземцам. Среди выезжих поляков и литвы преобладали «обышные люди», а среди немцев начальные (среди них был будущий русский полковник Александр Краферт).
С конца 1629 года выезд иноземцев усилился, причем среди них преобладали уже «немцы» и начальные люди. Так, в 1630 году приехал знаменитый Александр Лесли с офицерами (всего с женами и людьми - 62 человека).
По способу содержания иноземцы делились на поместных и кормовых.
Поместные иноземцы разделялись на реально испомещенных и поверстанных окладами, но поместий не получивших. Последние до фактического испомещения также получали корм.
Кормовые иноземцы делились на получающих собственно корм и получающих вместо корма годовое хлебное жалованье (это были в основном иноземцы служившие по городам). В большинстве случаев, впрочем, хлебное жалованье им пересчитывалось на деньги. Некоторые иноземцы, в основном начальные люди, помимо корма получали еще и питье, а также корм для лошадей в зимнее время.
В 1628 году было радикально улучшено содержание семей кормовых иноземцев - корм теперь назначался не только им самим, но и отдельно их женам и детям, сохраняясь за родней иноземца даже в случае его смерти (ранее при смерти кормильца она оставалась ни с чем).
Наиболее подробные сведения о содержании иноземцев содержатся в окладной книге Иноземского приказа 1628 года.
Подведомственные приказу иноземцы делились на московских и устроенных по городам - Нижнему Новгороду, Туле, Серпухову, Михайлову, Дедилову.
Московские, в свою очередь, подразделялись на иноземцев старого (до 1613 года) и нового выезда. Первых имелся 231 человек (157 литвинов, 64 немца, 10 греков), все они были поместными и получали годовой корм по 5 руб. на человека [??].
Иноземцев нового выезда имелся 351 человек (108 верстаных окладами, но получавших корм и 243 кормовых).
Они подразделялись на группы по национальному происхождению и характеру содержания. Так, «немцы» делились на три группы: «бельских немцев» (верстаных окладами, но получавших корм), других «немцев», верстанных окладами, но получавших корм и собственно кормовых немцев.
«Бельские немцы» (51 человек) были верстаны окладами в 250 - 450 четей (их командир, ротмистр Томас Герн - в 600 четей) и 15 - 35 рублей (Герн - 40 руб.). Их месячный корм составлял от 0,9 до 5,7 руб. (у Герна - 7 рублей), чаще всего (39 чел.) - от 2,4 до 3,6 руб.
Прочих верстаных немцев имелось всего шестеро, их оклады 200 - 400 четей и 10 - 25 руб, корм - от 0,9 до 3 рублей.
Кормовые немцы (95 человек) получали корм от 0,6 до 23 рублей в месяц (в т. ч. 67 человек - от 0,6 до 1,5 рублей).
Поляки и литва делились на 2 группы - верстаных окладами и получавших корм и собственно кормовых. Первые (22 человека) имели оклады в 200 - 350 четей и 10 - 18 рублей и корм от 0,9 до 18 руб. Вторые (151 человек) получали корм от 0,75 до 7,5 рублей в месяц (в т. ч. 119 от 0,9 до 1,8 рублей).
Греки (29 человек) были поголовно верстаны окладами (200 - 400 четей и 12 - 20 рублей) и получали корм - от 1,2 до 3,6 рублей, чаще всего (11 чел.) от 3 до 3,6 рублей.
В целом, большинство московских иноземцев нового выезда получали достаточно скромный корм - от 0,6 до 1,5 рублей в месяц (7,2 - 18 рублей в год).
По городам служило 487 иноземцев подведомственных приказу (138 немцев, 106 поляков и литвинов, 9 новокрещенов - крымских татар, 68 днепровских казаков и 166 черкас), в Н. Новгороде - 216, в Туле - 152, в Михайлове - 69, в Дедилове - 39, в Серпухове - 11.
По способу содержания они делились на верстаных окладами и испомещенных (25 человек - 14 поляков и литвинов и 11 немцев); верстаных окладами, но получавших годовое хлебное жалованье (190 человек - 89 немцев, 92 поляка и литвина, 9 новокрещенов-татар); получавших годовое денежное и хлебное жалованье (260 человек - все черкасы и днепровские казаки и 26 тульских немцев); получавших месячный денежный корм (12 немцев - капитан В. Росформ в Нижнем и 11 серпуховских).
В целом, таким образом, среди этой группы преобладало годовое денежное и хлебное жалованье.
Верстаные окладами, но получавшие хлебное жалованье, имели оклады в 150 - 450 четей и 4 - 31 рубль и жалованье от 4 до 24 четей ржи (и столько же овса), чаще всего - не более 15 четей и того и другого.
Получавшим годовое денежное и хлебное жалованье полагалось от 3 до 14 рублей и по 12 четей ржи и овса, наиболее распространенными были оклады в 4 - 6 рублей и 12 четей (203 человека).
Фактически годовое жалованье обычно выдавалось не полностью, а «по указным статьям - как государь укажет». Так, в 1627, 1628 и 1629 годах было указано давать жалованье в полном объеме лишь обладателям небольших окладов. Среди получателей хлебного жалованья верстаных окладами в полном объеме его получали лишь обладавшие окладами не выше 8 четей, имевшие оклад в 9 - 17 четей получали 2/3, в 17 - 25 четей - 1/2. Среди получателей денежного и хлебного жалованья полное денежное жалованье получали обладатели окладов не выше 5 рублей, обладатели наиболее высоких окладов в 10 - 15 рублей получали половину, вместо 12 четей ржи и овса всем давали по 8 четей. В Туле, Михайлове и Дедилове в 1628 году хлебное жалованье пересчитывали на деньги и вместо 8 четей ржи и 8 четей овса давали по местным ценам 1,94 руб. (Тула) - 1,98 руб. (Михайлов) - 2,4 руб. (Дедилов) деньгами.
В целом содержание «городовых» иноземцев существенно уступало содержанию московских. Если последние большей частью получали по 7,2 - 18 рублей в год, то первые фактически, в лучшем случае 6,4 - 8,25 рублей.
Иноземцы большей частью служили в конных ротах, бывшими типичными для России небольшими и довольно замкнутыми корпорациями, с выборными командирами (утверждаемыми затем властями), пополнением преимущественно за счет детей и братьи и проч. Число и состав рот со временем менялись. Как замечает автор, чем старше была рота, тем однороднее она была обычно в смысле материального содержания. Общей тенденцией был постепенный переход от корма к верстанию окладами и испомещению.
Формирование иноземных наемных полков
скрытый текст
В рамках подготовки к войне с Польшей русское правительство предприняло меры по усилению армии - было решено сформировать русские полки иноземного строя и одновременно нанять за границей несколько полков иноземных наемных солдат. Взаимосвязь этих решений неясна, по мнению автора, оба проекта скорее всего появились одновременно, однако реализация второго по каким-то причинам затянулась.
Решение о формировании 2 русских полков нового строя, общей численностью в 2 000 человек, было принято не позднее июня - июля 1630 года, тогда же по городам были разосланы грамоты о наборе людей в эти полки. В качестве командного состава полков предполагалось использовать московских немцев старого и нового выезда.
Реализация второго проекта затянулась, лишь 25 - 29 января 1631 года соответствующие наказы были даны полковнику Александру Лесли, стольнику Племянникову и подьячему Аристову. Лесли было поручено нанять 5 000 пеших солдат (примерно на три полка), с разрешения короля Густава Адольфа - в Швеции, а при нехватке людей - в Дании, Англии и Голландии. Действующие параллельно Племянников и Аристов должны были закупать оружие для нанимаемых солдат. Помимо солдат Лесли должен был набрать и начальных людей для полков, а также мастеровых людей к пушечному делу, в помощь Юрию Куету. Солдат полагалось набирать на год, полтора года или, максимум, на два года и доставлять в Россию морем через Нарву или Архангельск. На все дело отводилось примерно 8 месяцев.
Лесли, Племянников и Аристов были снабжены грамотами к соответствующим правительствам и прочими документами, а также денежными средствами - аккредитивами от московских купцов-иноземцев на 110 000 ефимков, наличными (13 000 золотых и 10 000 ефимков даны Племянникову и Аристову) и соболями (на 1 000 рублей, даны Лесли на раздачу).
В феврале 1631 года наказ о наборе иноземных солдат был дан еще одному иноземцу - полуполковнику Генриху фан Даму. Ему поручалось набрать в «немецких землях» еще один полк - 1 760 человек, включая 160 начальных людей и урядников. О найме солдат фан Дамом, как пишет автор, никаких сведений не имеется, неясно даже ездил ли он вообще за границу.
Лесли, Аристов и Племянников выступили из Москвы 4 февраля 1631 года, до Стокгольма, из-за начавшейся распутицы, испортившей дороги, добрались только 25 марта. Густав Адольф был с армией в Германии, куда посольство было отпущено из Швеции только 6 мая. До германского Штеттина посланники, из-за противных ветров, добирались еще 5 недель. В Германии они были приняты шведским королем и получили от него разрешение на набор солдат (но не в Швеции, а в Померании, Пруссии и Ливонии) и беспошлинную покупку мушкетов и шпаг (указ получен в Штеттине 24 июня 1631-го).
Время для набора солдат оказалось неудачным (разгар Тридцатилетней войны) и он затянулся. В указанных королем областях Лесли почти никого нанять не смог и вынужден был вербовать солдат (также с большим трудом) в других местах - Гамбурге, Голландии и проч.
Для производства найма А. Лесли принял на русскую службу еще нескольких полковников - Ганса Фридриха Фукса, Якова Шарло / Якова Карла фон Хареслебена [автор именует его Шарлем], Дугласа и, позднее, Томаса Сандерсона.
По договорам с Фуксом и Шарлем солдаты нанимались на 12 и 18 месяцев соответственно, рядовому полагалось 4,5 цесарских ефимка в месяц (ефимок считался в 50 копеек), подротмейстеру - 5, ротмейстеру / ефрейтору - 6, капралу - 8, сержанту - 14, прапорщику - 35, поручику - 45, капитану - 150, майору - 100 (?), подполковнику - 200, полковнику - 400 - 500 ефимков. Солдатам, помимо жалованья, полагался казенный мушкет. Лесли, для облегчения набора, обещал им и выдачу казенного платья (и видимо давал, на что дополнительно потратил почти 48 000 ефимков).
Полки полагалось иметь 8-ротные, по 208 (Фукс) или 200 (Шарль) человек в роте (капитан, поручик, прапорщик, фюрер / подпрапорщик, форир / квартирмейстер, каптенармус, 3 набатчика, 2 сержанта, 8 капралов, 24 ротмейстера, 32 подротмейстера, 128 рядовых). Штаб полка включал полковника, подполковника, майора, полкового квартирмейстера, секретаря, писаря, 2 священников, 4 лекарей, профоса, палача и проч.
Томас Сандерсон обязался набрать в Англии полк в 1 600 человек и доставить его морем в Архангельск. За поставку солдат, а также на платье последним ему давалось 12 323,72 рубля. При поставке неполного полка премия Сандерсона составляла 6 000 рублей.
Условия договора с Дугласом неизвестны.
Нанятые солдаты небольшими партиями (видимо поротно) отправлялись морем на Нарву / Ругодив и оттуда шли к Новгороду, сосредотачиваясь в районе Тесова. Первые партии начали прибывать в Россию с конца июля 1631 года. В Тесово немцы стояли до конца года, после чего двинулись к Москве - также группами / поротно, начиная с 23 декабря 1631-го. Прибытие и дальнейшие переходы немцев по стране были организованы скверно и сопровождались разнообразными безобразиями - немцам не хватало продовольствия, они болели и мерли, одновременно творя разнообразные бесчинства в отношении русского населения.
Ко времени смотра в Москве (14 марта 1632 года) в трех немецких полках (Лесли, Фукса и Шарля) оказалось всего 2 025 человек (1 918 солдат и 334 начальных человека и урядника). Нанятые, впрочем, продолжали прибывать и позднее (их отправляли остававшиеся за границей полковники Фукс, Шарль и Дуглас).
Последним (декабрь 1632 - январь 1633 года) в Россию прибыл полк Т. Сандерсона, частью через Архангельск, частью, как и прочие немцы, через Новгород. К этому времени в нем числилось (согласно книгам раздачи жалованья) не более 1 122 человек, в дороге помер и погиб, согласно отчету Сандерсона, 131 человек, т. е. всего он набрал 1 253 человека (вместо 1 600).
Итогом набора иноземных наемников, таким образом, стало формирование 4 полков немецкой пехоты (Лесли, Фукса, Шарля и Сандерсона, полк. Дуглас до России так и не доехал). Вместо предполагавшихся 6 760 - 6 776 наемников (примерно по 1 650 чел. на полк) было нанято всего ок. 4 500 чел (66,5%), в Россию доставлено не менее 3 800 чел. (56,2%), включая примерно 500 чел. больных.
Максимума численность наемников достигала видимо в декабре 1632 года - по наряду 3 461 человек. По смотру, произведенному не ранее февраля 1633 года, их имелось уже 3 294 человека (841 в полку Лесли, 861 - у Шарля, 679 - у Фукса и 913 - у Сандерсона). По смотру в сентябре 1633 года иноземцев осталось 2 975 чел. (во всех полках), к декабрю 1633-го - 2 384 чел. (Лесли - 618, Шарль - 742, Фукс - 468, Сандерсон - 556).
Как отмечает автор, иноземные полки отличались нетипичным соотношением начальных людей / урядников и рядовых - при общей норме 1 к 9, уже на смотре 14 марта 1632 года оно было 1 к 5 или 6 и в дальнейшем все более менялось в пользу первых, в декабре 1633 года составляя уже 1 к 3 - 4.
Лучше проходил и изначальный набор начальных людей / урядников (по результатам того же смотра 14 марта план их набора был выполнен на 63%, а рядовых - на 43%) и на службе они задерживались дольше и лучше.
Это объяснялось видимо очень щедрыми окладами содержания начальных людей / урядников. По росписи поданной А. Лесли в Иноземский приказ в феврале 1632 года в этих полках капрал получал 4 рубля в месяц, сержант - 7 рублей, прапорщик - 17,5 рублей, поручик - 22,5 рубля, капитан - 75 рублей, майор - 50 рублей (?), подполковник - 100 рублей, полковник - 250 рублей. Полковники, подполковники и майоры получали еще и капитанские оклады командиров соответствующих рот. Рядовой солдат при этом получал 2,5 рубля в месяц [так у автора, выше указано, что солдату обещали 4,5 ефимка = 2,25 руб., ниже автор снова пишет о солдатском окладе в 2,25 руб.].
Формирование полков нового строя
скрытый текст
Как уже отмечалось, решение о формировании полков нового строя было принято не позднее июня - июля 1630 года и поначалу оно видимо рассматривалось как дополнительная мера - основную ставку делали на набор иноземных наемников. Русских полков изначально было решено сформировать всего два - еще один полк А. Лесли и полк Франца Пецнера. Формирование полков затянулось - А. Лесли вскоре отбыл за границу для найма иноземцев, а у Пецнера дело не спорилось - в октябре 1630-го для его полка не были набраны даже начальные люди.
С осени 1631 года процесс формирования русских полков ускорился - возникшие проблемы с набором полков иноземных вынудили правительство обратить большее внимание на местные формирования, число которых, к тому же, было существенно увеличено.
После смерти Ф. Пецнера в октябре 1631 года его полк возглавил уже упоминавшийся Генрих / Индрик фан Дам. С марта - апреля 1632 года в источниках упоминаются три новых солдатских полка - Тобиаса Унзена, Валентина Росформа и Якуба Вильсона. Последнего в августе 1632 года сменил Юрий Матейсон. В конце апреля 1632 года началось формирование солдатского полка Вилима Кита.
В июне 1632 года последовал указ о создании русского рейтарского полка, под командованием Самуила Шарля Делиберта (д'Эберта).
Таким образом, в первой половине 1632 года, в дополнение к даум уже формировавшимся солдатским полкам, было приказано сформировать еще 4 солдатских и один рейтарский.
К августу 1632 года было закончено формирование солдатских полков А. Лесли, Г. фан Дама, В. Росформа и Т. Унзена. Они были включены в состав отправленной к Смоленску армии М. Б. Шеина и участвовали в боевых действиях на протяжении всей войны.
Формирование солдатских полков Ю. Матейсона и В. Кита, начатое в апреле - мае 1632 года, было фактически завершено лишь к началу лета 1633-го (отправлены под Смоленск в июне 1633 года). Людей для рейтарского полка Делиберта большей частью набрали уже к декабрю 1632-го, однако формирование его также затянулось и под Смоленск он был отправлен в июле 1633-го.
Всего, таким образом, в армию Шеина было отправлено 7 полков нового строя - 6 солдатских и рейтарский, общей численностью примерно в 13 000 человек.
Позднее было сформировано еще три полка нового строя - драгунский Александра Гордона, солдатские Александра Краферта и Петра Кинемонта (его полком по каким-то причинам позднее командовал тот же А. Краферт), а также рота капитана Якова Фарбеса. Формирование перечисленных структур было начато в конце 1633 года. Первым был сформирован драгунский полк Гордона, в январе 1634 года выступивший из Москвы к Можайску. Остальные структуры закончили формирование к началу весны (полк Краферта ушел из Москвы не ранее 4 марта). Все они вошли в состав деблокирующей армии Д. М. Черкасского - Д. М. Пожарского, но в боевых действиях участия уже не приняли.
Всего, таким образом, для Смоленской войны было сформировано 10 полков (рейтарский, драгунский и 8 солдатских) и одна рота нового строя, общей численностью примерно в 18 000 чел. (ок. 13 000 чел. в первых 7 полках и ок. 5 000 чел. в оставшихся трех полках и роте). Примерно 3 000 чел. из этого числа уже состояли на государевой службе (дети боярские, иноземцы и проч.), а примерно 15 000 чел. были привлечены на службу дополнительно. С учетом иноземных наемников русская армия получила дополнительно примерно 18 000 - 19 000 новых бойцов.
Начальных людей [в число которых автор упорно включает и урядников] для формируемых полков нового строя изначально предполагалось набрать из московских «немцев»-иноземцев, для чего были распущены соответствующие конные роты (польско-литовские и прочие роты сохранились и были позднее посланы под Смоленск). Этого однако не хватило и не позднее октября 1630-го в начальные люди стали брать и иноземцев (тоже «немцев») служивших по городам, вызывая их в Москву. Позднее (конец 1631 - 1632) к ним добавились и начальные люди нанятые Лесли за границей.
«Немцы», в итоге, составляли большую часть начальных людей и урядников в полках нового строя, занимая практически все соответствующие должности вплоть до капралов. Русские служили лишь на низших должностях - капралов, ротных дьячков, набатчиков и свирельщиков. Часть капралов, набатчиков и свирельщиков также была набрана из «немцев» - в полках Лесли, фан Дама, Росформа и Унзена из 237 капралов «немцами» были 65, из 88 набатчиков и свирельщиков - 20 (все 32 ротных дьячка были русскими).
Некоторым исключением был лишь рейтарский полк Делиберта, здесь на сентябрь 1632 года имелось не менее одного русского поручика и двух подпрапорщиков.
Солдат для полков нового строя изначально предполагалось набрать из беспоместных и неверстаных детей боярских. Однако почти сразу же стали брать также и новокрещенов, татар и казаков (присутствуют уже в росписи полка Пецнера к 1 сентября 1630 года). Позднее к ним добавились другие инородцы (мордва, черемисы), а также вольные охочие люди. Набор последних особенно усилился с октября 1632 года, когда по городам были разосланы грамоты к воеводам, с указанием прибирать добровольцев и отсылать их в Москву.
Среди солдат первых 6 солдатских полков преобладали дети боярские и вольные люди - из 8 998 рядовых [дата неясна] полков Лесли (5 рот), фан Дама, Росформа (7 рот), Унзена, Кита и Матейсона 3 085 чел. были детьми боярскими (34%), 4 773 чел. вольными людьми (53%), 584 - казаками, 354 - татарами, 76 - новокрещенами, 37 - черемисами и мордвой, 89 - прочими.
Солдаты полков Лесли и фан Дама были в основном из детей боярских (у фан Дама из 1 590 рядовых детьми боярскими являлись 1 015, вольными - 204), в полках Росформа и Унзена при значительном числе детей боярских уже несколько преобладали вольные (у Унзена из 1 532 рядовых детьми боярскими были 513 человек, вольными - 819). Полки Кита и Матейсона были большей частью укомплектованы вольными (у Кита из 1 773 рядовых вольных было 1 487 чел., детей боярских - 150; у Матейсона из 1 730 рядовых вольных было 1 454 чел., детей боярских - 186).
Рейтарский полк Делиберта должен был формироваться из иноземцев старого и нового выезда и «русских охочих всяких людей». Фактически, помимо немцев, дворян и детей боярских, в полк писались на службу казаки, татары и новокрещены. На июнь 1633 года в полку имелось не менее 1 222 дворян и детей боярских, не менее 72 татар и и не менее 128 поместных атаманов и казаков (белозерцев). В полк охотно писались не только беспоместные, но и поместные дети боярские, привлеченные высоким содержанием и возможностью нести привычную конную службу.
Среди детей боярских ожидаемо преобладали представители южных пограничных уездов. Так, из 1 762 детей боярских (чуть менеее половины общего числа, [из текста неясно, но видимо всех полков]), чье место жительства известно, 678 человек (38,5%) представляли «польские» города, а 491 (27,9%) - «украинные».
Полки А. Гордона, А. Краферта и П. Кинемонта изначально должны были видимо комплектоваться за счет тех же источников, что и первые солдатские (городовые дети боярские, казаки, вольные люди и проч.) однако добровольцев уже не хватало и правительство вынуждено было прибегнуть к набору даточных. Не позднее лета 1633 года пеших даточных для солдатских полков было приказано брать с дворцовых волостей - по человеку с 60 дворов. 31 августа 1633 года выставить пеших даточных (по 2 человека с пищалями с 300 четей) обязали традиционных их поставщиков (чинов занятых на разных невоенных службах, вдов, недорослей и проч.). Не позднее 27 ноября 1633-го начался набор даточных с черных волостей и посадов (по одному с 40 дворов) и т. д. С посадов, черных волостей и с неслужилых землевладельцев собирались и деньги на жалованье даточным.
По мнению автора, полки А. Гордона, А. Краферта и П. Кинемонта комплектовались в основном инородцами и даточными, хотя приводимая им же табличка не вполне подтверждает этот вывод. Так, в полку А. Краферта из 1 347 солдат даточных было 392 чел. (29%), инородцев - 173 чел. (12,8%), «всяких людей» - 438 чел. (26,6%), вольных всего 35 чел., детей боярских - 129 чел. Еще 180 человек (13,4%) были выставлены «семьянистыми людьми Красной слободы» (даточные?). В полку П. Кинемонта из 1 646 рядовых даточных было 445 чел. (27%), инородцев - 603 чел. (36,6% - 336 татар, 151 черемиса, 116 мордвин), вольных - 310 чел. (18,8%), «всяких людей» - 223 чел. (13,5%), детей боярских - всего 65 человек.
Таким образом, в полку Кинемонта даточные и инородцы составляли 63,6%, а в полку А. Краферта - 41,8 (с Красной слободой - 55,2) % рядовых.
Стандартного штата полки нового строя (как и иноземные) не имели, формировались в соответствии проектами представленными их полковниками и, соответственно, несколько различались и числом и составом служилых людей.
По проектам самих полковников солдатские полки полагалось иметь 8-ротные, по 200 солдат в роте (67 - 80 копейщиков / пикинеров и 120 - 137 пищальников / мушкетеров)*. Помимо этого рота должна была включать капитана, поручика, прапорщика, подпрапорщика, 2 или 3 пятидесятников / сержантов, 6 - 8 капралов, ротного окольничего / квартирмейстера, дозорщика над ружьем / каптенармуса и пр. Полковой штаб включал полковника, подполковника, майора, полкового окольничего / квартирмейстера (он же капитан 4-й роты), полковых судью, писаря, лекаря и палача. Всего в полку должно было быть примерно 1750 чел. - 1 600 рядовых и 150 начальных людей и урядников.
В рейтарском полку Делиберта, по его проекту, должно было быть 12 рот (по 167 человек в роте, включая ротмистра, поручика, прапорщика, 2? подпрапорщиков, ротного окольничего / квартирмейстера, 3 капралов / есаулов, трубача и проч.). Штаб полка включал полковника, подполковника, майора, полкового окольничего / квартирмейстера, полкового обозника, полкового судью, полкового лекаря, полковых писаря, профоса, седельного мастера и кузнеца и 4 трубачей. Позднее полку была придана еще и драгунская рота и к июню 1633 года его численность оценивалась уже в 2 400 чел.
Общая численность 6 солдатских (Лесли, фан Дама, Росформа, Унзена, Кита и Матейсона) и рейтарского полков должна была по указам и проектам полковников достигать примерно 12 500 человек, по наряду июня? 1633 года составляла 12 887 чел., а по смотру сентября 1633 года - св. 9 913 человек. Масштабы формирования русских частей иноземного строя, таким образом, намного превысили изначальные планы и значительно превзошли масштаб формирования иноземных частей.
Полки А. Краферта и П. Кинемонта имели примерно ту же организацию и численность, что и прочие солдатские. На конец февраля 1634 года в них было по 1 600 человек, в полку А. Краферта на апрель 1634-го - 1 718 чел. (218 начальных людей и урядников и 1 500 рядовых).
Драгунский полк А. Гордона был 12-ротным и на январь 1634 года включал 1 576 человек.
Денежное содержание чинов полков нового строя включало месячный корм, поденный корм и годовое жалованье. Месячный корм давался начальным людям и урядникам, рядовым «немцам»-солдатам, а также всем рейтарам. Поденный корм и годовое жалованье «на платье» получали только русские рядовые солдаты.
Относительно жалованья начальных людей автор приводит противоречивые сведения. В одном месте сообщается, что жалованье начальных людей полков нового строя было равно жалованью аналогичных чинов иноземных, т. е. полковник - 250 рублей, подполковник - 100, майор - 50, капитан - 75, поручик - 22,5 рубля, прапорщик - 17,5 руб. и т. д. В другом - что жалованье начальных людей солдатских полков было аналогично начальным людям рейтарского. В последнем же, по сообщению автора, полковник получал 300 руб., подполковник - 100, майор - 50, ротмистр - 100, поручик - 40, прапорщик - 30 руб. и т. д.
Жалованье русских и немцев на аналогичных должностях в рейтарском полку было одинаковым, но в солдатских немцам платили больше, так, русский набатчик получал 2,5 рубля, а немец - 3,5.
В солдатских полках солдаты из детей боярских, казаков, татар, новокрещенов, черемисы, мордвы получали кормовые деньги - 1,2 руб. в месяц (8 денег в день) + 5 руб. на платье, т. е. всего 19,8 руб. в год. Солдаты из вольных охочих людей - 0,9 руб. в месяц (6 денег в день) + 4 руб. на платье, т. е. 14,8 руб. в год. Жалованье солдат русских полков было меньше чем у солдат иноземных - на 28% (для детей боярских и проч.) - 46% (для вольных). За счет этого содержание русских полков обходилось казне примерно на 34% дешевле.
Рядовые рейтары полка Делиберта должны были получать по 3 рубля корма в месяц (36 руб. в год). Имеющим поместья изначально полагалось давать 2/3 корма, однако 1 августа 1633 года для рядовых рейтар это ограничение отменили. Имевшим «конных и оружных» послужильцев (а не только кошевых) 25 июня 1633-го было указано давать дополнительно по 2 рубля в месяц. Лошадей рейтарам давали с государевых конюшен.
Вольнонаемным драгунам Гордона обещали по 2 рубля в месяц (+ 4 рубля на платье и седло), холодное и огнестрельное оружие им давала казна, лошадей изначально требовали приводить своих (не дешевле 5 рублей), но после 1 октября 1633-го обещали и давали уже из государевых конюшен. Даточным солдатам полагался корм в 6 денег [в тексте ошибочно - рублей] в день, т. е. 0,9 рубля в месяц и 4 рубля на платье.
Оклады начальных людей были высокими и по общеевропейским меркам, примерно соответствуя окладам в армии Валленштейна на 1627 год (одним из самых высоких в Европе). Оклады рядовых были ниже чем в той же армии Валленштейна - на 0,75 руб. для пехотинца и на рубль для рейтара. Однако по русским меркам жалованье даже рядовых солдат русских полков нового строя, не говоря уж о рейтарах, было очень высоким. Так, детям боярским по разборам 1630 - 1631 годов при выходе на войну были положены разовые дачи в 15 - 20 - 25 рублей (в зависимости от статьи). Аналогичные дачи полагались и рядовым иноземцам московских рот. Московские стрельцы получали по 5-6 рублей в год, городовые - 3-4 рубля, казаки - 3-6 рублей и т. д.
* По варианту Пецнера в роте был 221 человек - капитан, поручик, прапорщик, 3 пятидесятника / сержанта, 6 капралов, ротный окольничий / квартирмейстер, дозорщик над ружьем / каптенармус, лекарь, дьячок, 2 толмача, 3 барабанщика, 120 пищальников / мушкетеров и 80 копейщиков / пикинеров.
Численность и состав действующей армии
скрытый текст
Помимо формирования иноземных полков и полков нового строя правительство предприняло еще ряд мер для увеличения армии, как традиционных, так и не очень.
Так, проводились дополнительные наборы стрельцов, как и городовых, так и московских. 20 января 1633 года было приказано прибрать в Нижнем Новгороде дополнительно 300, а в Архангельске - 500 стрельцов. Устюжской четверти в июне 1633-го приказали прибрать в своих городах 300 чел. в московские стрельцы ( к январю 1634-го прибрано и прислано в Москву 200 чел.) и т. д. Помимо этого, ряды московских стрельцов пополнялись и за счет переводов из городов - той же Устюжской чети в августе 1633-го приказали перевести в Москву 100 устюжских стрельцов (присланы к началу ноября). На численности действующей армии, впрочем, эти наборы почти не отразились, поскольку под Смоленск стрельцов было послано немного и они большей частью оставались в гарнизонах.
С лета 1633 года проводились наборы даточных. Помимо указанных выше наборов пеших даточных, в июне 1633 года был объявлен сбор конных даточных с неслужилых землевладельцев, вдов, недорослей и проч. (по человеку с 300 четей, сроком на год). Конных даточных отправили в армию Шеина в сентябре 1633-го, однако к Смоленску они уже не прошли, оставшись в Вязьме. По смотру 29 сентября 1633 года даточных имелся 1 721 чел. (позднее подходили и новые).
В состав деблокирующей армии Черкасского - Пожарского, помимо прочего, включили даточных, а кроме того часть людей московского списка и патриарших стольников и детей боярских.
Помимо этого, к службе в действующей армии были впервые привлечены донские и яицкие казаки. На Дон и Яик для уговоров казаков были отправлены правительственные эмиссары, которым удалось привлечь на службу некоторое их число (всего ок. 1 300 чел.).
С Дона в августе 1632 года прибыло 362 казака с 3 атаманами, 3 есаулами и войсковым дьяком. В Москве к ним добавили донских казаков ранее разосланных за их вины по городам (42 чел.). К концу 1633 года под Смоленском служило уже 472 казака, с 4 атаманами, 4 есаулами и подьячим (казаков на Дону на 1625 год было около 5 000).
Выехавшим в августе атаманам дали по 10 рублей, есаулам - по 8, казакам - по 6 рублей. Позднее лучшим 237 казакам дали за выезд еще по 3 рубля. Атаманам был назначен корм в 2 алтына в день, есаулам - по 10 денег, казакам - по 8 денег. Всего за 141 год (1632/33) донцы получили, атаманы - по 13 руб., есаулы - по 11, казаки - по 9. В 142 году (1633/34) их приравняли к казакам яицким, а годовой корм вырос до 16 руб. у атаманов, 13 руб. у есаулов и 11 руб. - у казаков.
Из примерно 2 000 яицких казаков на смоленскую службу пришло примерно 600 (вместе с прибившимися по дороге «непрямыми» казаками - 819). За выезд им дали по 15 (6 атаманов) - 10 (казаки) рублей, корм назначили такой же как у донцов, в 142 году подняв до вышеуказанных значений.
Донцы несли смоленскую службу с начала похода, яицкие казаки пришли под Смоленск к началу февраля 1633 года.
Непосредственно в районе боевых действий правительство активно набирало / принимало на службу отряды разнообразных местных охочих людей, т. н . вольных казаков, за что позднее и поплатилось (см. - балашовцы). Общее их число неизвестно, за службу они получали плату (в известных случаях - от 4 рублей в год до 1 рубля в месяц).
Об общей численности действующей армии можно судить по правительственным нарядам и результатам смотров.
Согласно предвоенному наряду 140 (1631/32) года общая численность действующей армии (главная армия Шеина - Измайлова, действующие на ее флангах «корпуса», позднее к ней примкнувшие и посланный на Новгород-Северский отдельный отряд) должна была составить 30 259 человек:
- 14 243 чел. дворян и детей боярских
- 468 поместных казаков и атаманов
- 437 новокрещенов и татар
- 3 042 чел. тарханов, князей, мурз и татар
- 411 донских казаков
- 1 703 стрельца
- 800 городовых казаков
- 2 216 солдат немецких полков
- 6 939 солдат русских полков
Максимальной численности армия должна была достигать по наряду июля 141 (1633) года - 34 216 чел.:
- 11 486 дворян и детей боярских
- 330 поместных казаков и атаманов
- 432 новокрещена и татарина
- 477 иноземцев
- 1 228 тарханов, князей, мурз и татар
- 1 295 донских и яицких казаков
- 1 613 стрельцов
- 726 городовых казаков
- 2 400 рейтар
- 3 633 солдат немецких полков
- 10 566 солдат русских полков
Фактически, по данным смотра произведенного не ранее февраля 141 (1633) года, в армии под Смоленском имелось [без учета солдат и стрельцов, донцские и яицкие казаки посчитаны явно по наряду] налицо не менее 11 955 чел.:
- 8 425 дворян и детей боярских (убито - 2, умерло - 173, нетчиков - 650, записалось в рейтары - 1222, отсутствует по др. причинам - 41)
- 60 поместных казаков и атаманов (нетчиков - 148, в рейтарах - 128)
- 422 новокрещена и татарина (убито и умело - 7, нетчиков - 4, в рейтарах - 5)
- 45 иноземцев
- 1 111 тарханов, князей, мурз и татар (нетчиков - 45, в рейтарах - 72)
- 1 295 донских и яицких казаков
- 597 городовых казаков
По смотру 26 августа 141 (1633) года известно только число отсутствующих почти по тем же категориям, всего - 8 973 ( в т. ч. нетчиков - 7 606):
- дворян и детей боярских, убито и умерло - 319, нетчиков - 5 066, отсутствует по др. причинам - 255
- поместных казаков и атаманов, нетчиков - 165
- новокрещенов и татар, нетчиков - 4
- иноземцев, нетчиков - 126
- тарханов, князей, мурз и татар, нетчиков - 415
- донских и яицких казаков, нетчиков - 496
- городовых казаков, нетчиков - 383
- рейтар, убито и умерло - 726, в плену - 67, нетчиков - 951
В деблокирующей армии Черкасского - Пожарского по наряду октября - ноября 142 (1633) года должно было иметься до 27 968 чел.:
- 2 098 московских чинов
- 9 886 дворян и детей боярских
- 192 поместных казака и атамана
- 436 новокрещен и татар
- 162 иноземца
- 2 358 тарханов, князей, мурз и татар
- 1 200 донских и яицких казаков
- 3 179 стрельцов (в т. ч. 1514 московских)
- 388 городовых казаков
- 1 567 драгун
- 1 539 даточных
- 3 153 чел. черемисы, чувашей и мордвы
Как отмечает автор, в армию Черкасского - Пожарского было наряжено не менее 8 000 служилых людей ранее уже наряженых в действующую армию (нетчики и проч.) и общая численность привлеченных для участия в войне войск не превышала 56 000 чел. (примерно 32 000 чел. конницы и 24 000 чел. пехоты).
Боевой состав армии Шеина под Смоленском, по мнению автора, к августу 1633 года не превышал 30 000 чел., с учетом артиллеристов и послужильцев (число последних он щедро оценивает минимум в 8 000 - 9 000 чел.) - 40 000 чел., общая численность, с нестроевыми - 50 000 чел.
[Д. Н. Меньшиков боевую силу армии М. Б. Шеина на конец августа 1633 года определяет примерно в 20 000 человек - ок. 8 500 чел конницы (в т. ч. 6 000 поместных) и ок. 11 500 пехоты (ок. 1 000 стрельцов, 7 600 русских солдат и 2 800 немецких).]*
* Меньшиков Д. Н. Боевая сила армии М. Б. Шеина в Смоленском походе 1632 - 1634 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета, вып. 4, 2008
Артиллерия, инженеры и снабжение армии оружием и боевыми припасами
скрытый текст
Армию Шеина сопровождал внушительный наряд, включавший 158 орудий, обслуживаемых 184 московскими пушкарями.
Большой осадный наряд включал 26 орудий - 19 пищалей, в т. ч. 12 русских (70-фунтовый «Инрог», 55-фунтовый «Пасынок», 40-фунтовый «Волк», 30-фунтовый «Кречет», 23-фунтовый «Ахиллес», 16-фунтовая «Грановитая», 14-фунтовый «Коваль», 13-фунтовая «Гладкая», 12-фунтовые «Стрела», «Вепрь» и «Гладкая», 10-фунтовая «Гладкая»), 7 безымянных голландских (по одной 26- и 20-фунтовой и 5 13-фунтовых) и 7 крупнокалиберных мортир [2 6-пудовых, 4 4-пудовых и одной 2-пудовой]*.
Имелось также 16 пищалей среднего калибра - 2 8-фунтовых, 2 6-фунтовых, 6 4-фунтовых и 6 3-фунтовых (у автора они все голландские).
Полковой наряд состоял из 116 коротких 3-фунтовых пушек шведского образца.
Большая часть наряда - 116 пищалей (100 полковых шведского образца и 16 среднего калибра) и 3 мортиры, присоединилась к армии Шеина в Можайске 4 сентября 1632-го. Из-за распутицы Шеин временно оставил часть артиллерии (50 полковых пушек) в Вязьме и к Смоленску пришел с примерно 70 орудиями. Большой наряд под Смоленск был отправлен только в январе 1633 года, придя под город 4 марта. Еще 12 полковых пушек было прислано под Смоленск в июле 1633-го, вместе с полками Кита и Матейсона.
Рядовые солдаты за счет казны вооружались мушкетами с подсошком / короткими пиками [и видимо шпагами]. Капралы - мушкетами и шпагами, сержанты / пятидесятники, каптенармусы и квартирьеры - алебардами, начальные люди - шпагами (поручики еще и протазанами). Рейтарам казна давала карабины и пистолеты (у поместных рейтар их стоимость должна была вычитаться из жалованья), а также доспехи - латы и шапки. Драгунам Гордона почему-то выдали 1 500 длинных пик.
По росписи поданой Т. Сандерсоном ему на полк требовалось 800 мушкетов с подсошками, 1 000 малых пик, 1 000 шпаг, 12 протазанов, 30 алебард, 1 000 бандольеров с 12 зарядами, 7 знамен, 14 барабанов, 200 топоров, 40 кирок, 60 заступов и проч. Выдано Сандерсону по указу от 30 декабря 1632 года: 785 мушкетов и столько же бандольеров, 787 малых пик, 797 шпаг, 7 протазанов, 19 алебард, 14 барабанов, 40 кирок, 60 заступов, 200 топоров и по 2 гривенки фитиля, 2 фунта свинца и фунту пороха на человека.
Немецким солдатским полкам при отправке из Москвы давали по 2 гривенки фитиля, 2 фунта свинца (пульками) и фунту пороха на человека, русским солдатским полкам - по 3 фунта фитиля, 3-4 фунта свинца и 3 фунта пороха на человека. Полкам Кинемонта и Краферта дали уже 3 фунта свинца и пороха, драгунам Гордона - по 2 фунта пороха, 4 фунта свинца и 3 фунта фитиля (+ 6 пудов пистолетного пороха на всех).
Помимо этого, боеприпасы и оружие давалось полкам и «в запас». В августе 1632 года «в запас» солдатам, стрельцам и донским казакам армии Шеина было приказано дать по 10 фунтов пороха, 25 фунтов свинца, 5 фунтов фитиля на человека, солдатским полкам - по 200 мушкетов и 300 пик на полк и т. д.
Полку Сандерсона «в запас» дали по 1 фунту пороха и 3 фунта свинца на человека и 100 мушкетов, 100 малых пик и 100 шпаг. Полкам Кинемонта и Краферта «в запас» было указано дать по 10 фунтов свинца и пороха, фактически дано по 5 фунтов.
Позднее в армию систематически высылались новые партии боевых припасов, оружия и инструментов, уже для покрытия расхода. Последний был очень значительным, так, по подсчету автора, одного фитиля армия Шеина июле - августе 1633 года изводила в среднем по 27 пудов в день. Только в августе 1633 года под Смоленск было отправлено 1 000 мушкетов, по 1 000 пудов пороха и фитиля, 1 800 ядер, 100 барабанов.
Внушительного количества припасов требовала и артиллерия. Так, только к 116 полковым «шведским» пищалям по росписи Пушкарского приказа [изначально?] нужно было дать 24 600 ядер [212 на ствол], 1 215 пудов пороха, 2 998 аршин холста («на стрельчие мехи»), 613 пудов льна на пыжи, 30 пудов дроби, 30 пудов железа.
Требуемое вооружение, снаряжение и боевые припасы частью производились в России, частью импортировались, до, и во время, войны.
Большая часть использованных орудий была отлита на московском Пушечном дворе.
Ядра делались на Пушечном дворе, в Устюжне Железнопольской и покупались за границей. Кузнецы Устюжны в 1631 году сделали 56 338 ядер (округляя - на 3 392,62 руб.) и 3 000 пудов дроби (2 700,3 руб, - по 30 алтын за пуд). В 1633 году устюжанам было указано сделать 100 000 3-фунтовых ядер и 2 000 фунтовых (сделано 7 615 пудов 5 фунтов, на 4 568,84 руб.).
Фитиль в Москве делала мастерская иноземца «токарных дел мастера» Ивана Стернера, в июле - августе 1632 года его отпустили на родину, однако Стернер успел обучить фитильному делу некоего толмача. Помимо этого фитиль закупался за границей.
Порох частью изготавливался в России, частью покупался за границей.
Заступы, кирки, лопаты, пики, холсты изготавливались в России.
Так, заготовка шанцевого инструмента (заступы, кирки, лопаты и проч.) была начата в апреле 1632 года. Она была возложена на посадских людей ведавшихся четвертными приказами и носила характер повинности (оплачиваемой, впрочем, казной). В 1632 году в городах Устюжской и Владимирской четей было указано сделать по 1 000 лопат, 600 заступов, 200 кирок и 50 ломов; в городах Новгородской чети - 1 000 лопат, 600 заступов, 200 кирок; в городах Галицкой чети - 500 лопат, 600 заступов и 200 кирок.
В декабре 1633 года в городах Устюжской, Костромской и, совместно, Новгородской, Владимирской и Галицкой четей было указано сделать по 400 лопат, 300 заступов и 200 кирок.
Изготовленный инструмент оплачивался из четвертных же доходов.
В Коломне в 1632 году кузнецы просили за изготовление заступа и лопаты (за железо, уклад и дело, без деревянной части) по 25 коп., кирки - 20 коп.; плотники за деревянную часть лопаты / заступа - по 3 копейки.
Солдатские пики изготавливались тем же образом, что и шанцевый инструмент.
За границей были куплены часть осадных орудий, мушкеты, карабины, пистолеты, солдатские и рейтарские латы, шпаги, протазаны, алебарды, часть пороха, ядер и материалов для военного производства - часть железа, медь, свинец и проч.
Автор приводит ряд сведений о таких закупках. Так, упомянутые Племянников и Аристов в июне 1631 года заключили ряд соглашений с Яганом ван Шефеном, ратманом Штральзунда. Последний обещал поставить 4 000 мушкетов, с перевязами, подсошками и проч. (по 2,5 ефимка за штуку), 500 пар голландских пистолетов (7-8 ефимков), 5 000 шпаг (по 2 ефимка), 3 000 «приступных шапок» (по 1,25 ефимка) и, «сколько привезет», карабинов («банделерных самопалов»). Договор в полной мере выполнен не был - в августе 1631-го ван Шефен поставил 2 200 мушкетов, с 2 040 бандольерами и 1 800 подсошками и 564 формами [пулелейками?] и 535 пар пистолетов. Позднее, понуждаемый Густавом Адольфом ван Шефен привез в Ругодив (ноябрь 1631-го) еще 7 200 мушкетов со всеми принадлежностями, 3 200 шишаков, 5 060 шпаг, 300 карабинов, 30 «гайдуцких» пищалей с колесцовым замком, 12 пар пистолетов, 2 10-фунтовых пушки и проч.
Сами Племянников и Аристов купили в Стокгольме 107 мушкетов и 156 шпаг и в Штеттине - 164 мушкета, 13 шпаг, 24 пары пистолетов (по 5,5 ефимков), 473 карабина с принадлежностями (по 3 ефимка) и медную пушку. Всего их экспедиция, таким образом, принесла 9 671 мушкет, 773 карабина, 571 пару пистолетов, 5 372 шпаги, 3 пушки и проч.
А. Лесли, по неполным данным, купил в Нидерландах 1 500 шпаг, 29 пехотных лат и 77 шапок. По заключенным им контрактам голландские купцы привезли в Ругодив в начале января 1632 года 1 000 мушкетов, 300 карабинов, 300 пар пистолетов в ольстрах, 1 000 копей / пик, 1 000 солдатских лат, 13 570 фунтов фитиля и проч.
В Англии, с разрешения английского короля, английским гостем И. Карторейтом были в 1633? году куплены 1 000 мушкетов, 1 000 замков, 600 пар пистолетов, 400 пар пистолетных стволов, 200 шпаг.
Голландские Штаты в июне 1631 года заказали для дружественного русского правительства у амстердамского фабриканта П. де Виллема 4 500 ружейных стволов и 2 000 пищалей (заказ выполнен в июле того же года).
В том же июне 1631 года голландскому фабриканту Илье Трину дали заказ на 5 000 пищалей с принадлежностями, 200 пистолетов, 400 алебард и 200 протазанов.
Голландские же купцы Карп Демулин и Давыд Миколаев в 1631 году доставили в Архангельск 5 000 пудов (по 65 коп за пуд), а в 1632-м - 25 000 пудов (по 50 коп. за пуд) шведского прутового железа. Тот же Д. Миколаев в 1632 году привез в Архангельск 30 000 пудов свинца (60 коп. за пуд).
Швед Иван Бекман в январе 1632 года привез через Ругодив 1 600 пудов меди.
Летом 1632 года в Архангельске у разных купцов было куплено 5 100 пудов пороха, 3 200 пудов свинца, 5 000 шпаг (по рублю за штуку) и проч.
Голландец Томас Сван в 1633 году привез в Архангельск более 5 000 пудов пороха и т. д.
Для руководства осадными работами за границей был наняты «городовые смышленники» - военные инженеры. В 1631 году Ф. Племянниковым были наняты голландцы Ян Корнилов (или Мартынов) и ван Роденбурх, швед Юст Мансон, цесарец Хриштоп Дальгамер и поручик Якуб Шлиман Фельд. А. Лесли нанял английского капитана Давида Николя.
Матсон и ван Роденбурх в ожидании войны были посланы делать городовое дело в Новгород и Ростов. Последний добился от правительства найма за границей еще 6 подмастерьев, умеющих делать городовое дело.
Д. Николь, прибывший в Москву в октябре 1632-го, в конце ноября того же года был послан под Смоленск для руководства осадными работами, получив чин полковника и оклад в 50 рублей. Компанию ему составили ван Раденбурх и некий пинардный мастер Э. Конгресс (откуда он взялся неизвестно). [В осаде участвовали также 6 подмастерьев ван Раденбурха и два подмастерья Д. Николя, а также возможно и прочие нанятые инженеры, всего до 15 человек]**.
* Лобин А. Пушки первых Романовых: русская артиллерия 1619–1676 годов.
** Курбатов О. А. Организация осадного парка и инженерно-артиллерийского дела русской армии в 1630-1650-х гг. - http://www.milhist.info/2017/03/16/kyrbatov 6
Снабжение армии продовольствием и фуражом
скрытый текст
В плане снабжения продовольствием действующая армия изначально делилась на две части. Дети боярские традиционно должны были обеспечивать себя сами, выходя на службу со своим запасом. Это касалось и кормовых детей боярских, записавшихся в солдатские полки. Поместная конница держала свои запасы в кошу, а кормовым детям боярским-солдатам под их запас должны были даваться казенные подводы. Остальная армия должна была кормиться за счет населения и казны, покупая у них продовольствие.
Кормовые дети боярские обещанных подвод не получили и уже идя к Смоленску вынуждены были кормиться покупным продовольствием. Дворянская конница свои запасы также скоро поистратила и также перешла на покупные. В итоге, вся армия большую часть кампании снабжалась продовольствием за счет населения и казны.
Казна для снабжения армии «людскими припасами» предприняла следующие меры: устройство казенных складов в тылу действующей армии; высылка в полки харчевников; посылка в полки т. н. «немецких кормов» и купленного казной продовольствия; создание приставств.
Казенные склады были, еще перед войной, устроены на пути выдвижения армии Шеина - в Можайске и Вязьме, позднее еще и в Дорогобуже.
Сама армия на пути к Смоленску и, поначалу, под ним снабжалась в основном за счет населения, покупая у него продовольствие по вольным ценам, которые, ожидаемо, стремительно выросли. Позднее, [надо полагать, по опыту недавней Смуты], под Смоленском была создана система приставств - местные волости были расписаны по частям армии и последние должны были снабжаться продовольствием и фуражом из них - уже по «указной» цене. Первое указание о создании приставств (в Дорогобужском уезде) было дано уже 20 октября 1632 года. С этого же времени началось и введение «указных» цен, со временем распространенных на весь район боевых действий. Поначалу они видимо касались только конских кормов, однако позднее распространились и на людские. Так, в наказе от 30 июня 1633 года, данном рейтарскому полковнику Делиберту, указная цена за яловицу определена (в зависимости от качества) в 1,5 - 2 рубля, барана - в 15-20 копеек, курицы - 3 копейки, острамка сена - в 20 копеек, четверти овса - в 25 копеек.
Помимо этого, в войска высылались «харчевники» - маркитанты со своими припасами. Служба эта имела характер принудительной повинности, хотя и добровольное участие не возбранялось. Харчевники должны были готовить всякий харч из привезенных ими же запасов и продавать его служилым людям. Указные цены на них видимо не распространялись.
В армию Шеина - Измайлова изначально было наряжено 968 харчевников (368 из Москвы и 600 из городов), посланных к Смоленску вслед за войсками. Позднее их закрепляли за отдельными частями уже при посылке их в армию.
Для снабжения «немецких» полков и полков нового строя был введен отдельный чрезвычайный налог - сбор «немецких кормов». Сбором руководило специально созданное [в феврале 1632 года]* ведомство - приказ Сбора немецких кормов. Руководили его деятельностью Г. А. Загрязский [18 ноября 1632-го сменен кн. И. М. Барятинским]*, И. Н. Огарев и дьяки Е. Евсеев и Т. Бормосов [до лета1632?, позднее Ф. Степанов (до 3 апреля 1633-го) и П. Внуков (с 3 апреля)]*.
Размер сбора на 1632 год был определен в 200 четей сухарей, 100 четей солоду ячного молотого и 100 пудов ветчины с сохи - в посадах и уездах замосковных, украинных и поморских городов. В дальних понизовых и поморских городах сбор было указано брать деньгами - с сохи по 100 рублей, а с живущей четверти - по полтине. «Дальными городами» в 1633 году было указано считать расположенные более чем в 500 верст от Москвы (возможно эта норма действовала и изначально). Собранное натурой население было обязано везти в Москву за свой счет. В некоторых местах (Белоозеро) сбор производился частью деньгами, частью натурой, причем допускалась замена одних продуктов другими.
Размеры сборов в 1633 году видимо различались для различных категорий плательщиков.
25 декабря 1632 года с поместий и вотчин служилых людей (за исключением находящихся в действующей армии), вдов, недорослей и проч. было указано брать по четверти ржаной муки с живущей чети (с доставкой под Смоленск на своих лошадях). Денежный эквивалент составлял 2 рубля с живущей чети для московских чинов и рубль - для городовых дворян.
12 января 1633-го с монастырских и церковных земель было указано брать уже 2 чети ржаной муки с живущей четверти, тоже с доставкой под Смоленск. Для дальних мест натуральный сбор заменялся денежным - по 1,5 рубля за четверть ржаной муки. Аналогичная замена разрешалась (задним числом) и для плательщиков предыдущей группы.
С посадов в 1633 году брали натурой видимо по осмине ржаной муки и 1,5 осмины сухарей с живущей чети (Ростов) или по рублю деньгами. Поморские посады и черные волости платили по 200 рублей с «живущей сохи» [так у автора].
На 1634 год 29 декабря 1633 года было указано брать с небывших под Смоленском служилых людей, вдов, недорослей и проч. [а также видимо с церковных и монастырских земель, черных волостей и посадов] по осьмине ржаной муки и 3 полуосьмины сухарей с живущей четверти (с доставкой под Смоленск). Денежный эквивалент для дальних мест (уже не 500, а 700 верст от Москвы) остался тем же и составлял 1-2 рубля с живущей чети для светских землевладельцев, рубль - для церковных и 200 рублей с той же «живущей сохи» для черных волостей и посадов.
Собранные корма продавались в полках, на вырученные деньги приказ Сбора немецких кормов должен был производить дополнительные закупки продовольствия. Указные продажные цены на конец августа 1632 года составляли 45 коп. за четверть сухарей; 26 коп. за четверть круп; 75 коп. за четверть толокна;1,5 рубля за пуд масла; 60 коп. за пуд ветчины и 27 коп. за пуд соли.
Всего в 141 (1632 - 1633) году под Смоленск было отправлено 25 546 четвертей ржаной муки, 1 334 четверти пшеничной муки, 15 277 с четвертью четей сухарей, 2 463 четей толокна, 2 039 четей овсяных круп, 151,5 четь гороха, 3 063 пуда 25 гривенок масла, 561 пуд ветчины.
За время кампании «немецкие корма», предназначавшиеся изначально для полков иноземцев и нового строя, превратились фактически в один из основных способов снабжения армии.
Относительно снабжения войск фуражом никаких централизованных мер принято не было и войска добывали его сами, в лучшем случае покупкой, а часто - грабежом (стоявшие под Смоленском - из приставств, см. выше). Лишь при выступлении в поход драгунского полка А. Гордона в 1634 году правительство (побуждаемое требованиями самого полковника) озаботилось устройством в Можайске казенного склада сена. Для этой цели можайскому воеводе кн. Волконскому было отпущено 400 рублей. Купленное воеводой сено предполагалось отпускать драгунам по покупной цене, из расчета 1 воз [примерно 5 пудов?] на 10 лошадей в сутки. Затея не имела особого успеха - сена в Можайске оказалось мало и стоило оно дорого. Вяземскому удалось купить лишь 453 воза (по 44,5 копейки за воз). Согласно жалобам того же Гордона его драгуны на пути от Москвы к Можайску покупали острамок / воз? сена по 20 копеек, а в Можайске с них просили уже 45. В ответ на эти жалобы Москва указала Черкасскому и Пожарскому продавать сено по 30 копеек за воз, однако последние донесли, что, несмотря на отстранение от дела воеводы и замену его выборными целовальниками, дешевле 0,9 - 1 руб. воз сена в Можайске купить уже невозможно.
В целом, как отмечает автор, на первом этапе войны (переход армии Шеина от Москвы к Смоленску) продовольственное снабжение армии было поставлено очень плохо - местных ресурсов не хватало, харчевников было мало, запасов из Москвы высылалось немного и т. д. Более-менее нормально армия снабжалась лишь на стоянках в Можайске и Вязьме - за счет местных складов.
На втором этапе (осада Смоленска до июля - августа 1633-го) положение существенно улучшилось, в основном за счет организации приставств и доставки «государевых запасов» (т. е. «немецких кормов») из Москвы. Некоторый недостаток ощущался только в мясных припасах. Помимо этого не хватало и специалистов по приготовлению пищи - в первую очередь хлебников, для выпечки хлеба из поступавшей в армию муки (последняя вытеснила в снабжении сухари поскольку «немцы» жрать сухари не хотели).
На третьем этапе (подход армии Владислава к Смоленску) снабжение вновь начало ухудшаться. Подходившая к Смоленску польская армия постепенно отнимала у армии Шеина волости-приставства и уже к августу 1633 года хлеб (в январе стоивший в полках дешевле чем в Москве) здесь «вздорожал перед московским вдвое и втрое». В сентябре 1633-го при перегруппировке армии были брошены и потеряны значительные запасы продовольствия, одновременно оказалась резко затруднена связь с Москвой. В начале октября она была прервана окончательно, подвоз из центра полностью прекратился и положение со снабжением стало стремительно ухудшаться.
* Лисейцев Д. В и др. Приказы Московского государства XVI - XVII вв. Словарь-справочник.
Посошные люди
скрытый текст
«Для разнообразных работ и перевозок армии требовались рабочие люди и транспортные средства - подводы. Сам Шеин определял потребность своей армии в рабочей силе («деловцах») в 3 000 человек.
Сбор людей, лошадей и подвод с посадов (кроме Москвы) и черных волостей был объявлен еще в мае 1631 года (войну изначально предполагалось начать в 1631-м). Было указано брать с сохи по 4 человека и 4 подводы с лошадями, а с перехожей (т. е. не тяглой) пашни деньгами примерно по 100 руб. за человека, однако сроки найма указом не определялись, что позднее создало массу проблем.
Миры, не имея от правительства определенных указаний, набирали посошных на самые разные сроки (от нескольких месяцев до года), к тому же и само начало войны оказалось отложено, ко времени старта кампании у многих посошных истекло время найма и они стали разъезжаться по домам (с т. з. правительства - «бежать со службы»).
Исправляя допущенную ошибку правительство [летом 1632?] установило годовой срок найма посохи. Тем у кого срок найма заканчивался было приказано платить в полках из казенных денег (с последующим возмещением за счет миров), на места были разосланы грамоты с приказом либо выслать выслужившим свой срок посошным замену, либо прислать деньги для продления их службы на новый срок. Особого эффекта эти грамоты не имели и 27 октября 1632 года по городам было приказано послать специальных сборщиков. Им предписывалось: а) бить кнутом «беглых» посошных; б) бить кнутом их нанимателей (по 5 человек на город); в) доправить по 100 руб. за каждого «беглого» с его поручиков; в) доправить вместо беглых нужное число посошных и наемных денег для них; г) доправить нужные суммы денег с перехожей пашни; д) доправить с воевод и подьячих двойные прогоны от Москвы до города и обратно - за то что норовили местным; е) проверить поручные записи по остающимся на службе посошным и, в случае если они наняты меньше чем на год, предложить нанимателям выслать им замену или деньги для оплаты продленной службы.
Несмотря на все эти строгости посошные и позднее нередко нанимались на срок меньше года - обычно на 4 - 6 месяцев.
Посошные нанимались с лошадями и телегами, с кирками, топорами, заступами и лопатами. Найм был в целом делом добровольным, однако в ряде случаев на службу записывались мирские должники плата которых шла в зачет их долга. По нанятому посошному брались поручные записи, хранившиеся у воеводы или мира. Посошный человек обязывался «всякое посошное дело делать, что ни велят» и без государева указа и отпуска со службы не съезжать.
Плата посошных сильно колебалась, в Поморье составляя от 2 до 8,25 руб. в месяц, в среднем 3 - 5 рублей. Плата в 3-5 рублей считалась низкой и других городах видимо платили больше - отвечавший за набор посохи приказ Приказных дел в качестве нормы воспринимал плату в 8 рублей в месяц.
В некоторых случаях размер платы мог зависеть от срока службы. Так, муромскому посадскому Григорию Степанову, нанявшемуся в 141 году на полгода, обещали по 4,5 рубля в месяц, а за каждый лишний месяц службы - уже по 7 руб. + компенсацию стоимости харчей и прочих убытков.
Деньги очень часто выдавали вперед, хотя правительство требовало ежемесячных выплат - через присылаемых мирских целовальников.
По истечении срока службы наниматели должны были прислать посошному замену или выслать деньги на «перестойные» месяцы сверх уговоренных. Эти обязательства сплошь и рядом нарушались и не получавшие смены и денег посошные разбегались со службы. К сентябрю 1633 года, по уверению Шеина, посохи у него совсем не осталось. В связи с этим 12 сентября 1633 года под Смоленск было указано набирать посоху уже в Смоленском, Дорогобужском, Бельском, Рославльском и Серпейском уездах - по человеку с 5 дворов.
О службе посошных в ближнем тылу действующей армии можно судить по сохранившейся приказной выписке фиксирующей приезд, службы и бегство посошных между 12 сентября 1633 и 11 апреля 1634 годов. Всего за это время прибыло в Москву 655 посошных (75% из поморских городов, больше всего из Каргополя и Устюга - по 105 чел.), из них 21 сбежал «не быв на службе», 9 умерло, 2 чел. больны, 23 явились без лошадей и служить не могли, остальные были на службах. Из этих 600 чел. 45 сбежало со служб, 6 не явились в Москву за отпуском и 184 человека, явившись в Москву после служб, «сошли не дождавшись государева указа».
Службы этих посошных состояли в основном из тыловых перевозок - возили в Можайск и Белую свинец, порох, пищали, хлебные запасы, а также личный состав (стрельцов, драгун), пленных на размен и проч.
Сбором посошных занимался приказ Приказных дел, в документах, как пишет автор, иногда именовавшийся приказом Сбора подвод*. [Во главе приказа в 1630/31 - мае 1632 года стояли боярин кн. Д. М. Пожарский, кн. Д. П. Пожарский-Лопата (в товарищах с января 1632-го) и дьяк Г. Волков. В мае - начале июля 1632 года судьей приказа был окольничий А. В. Измайлов (с теми же товарищами), позднее, с 1632/33 и до 1637-го - боярин кн. Ю. Я. Сулешев, с теми Д. П. Пожарским и и Г. Волковым, а также кн. Н. М. Мезецким в товарищах. У автора приказ возглавляли кн. Д. М. Пожарский (с перерывом на Измайлова) и Г. Волков]**.
Отдельно производился набор подвод [посошных?] в Москве. Всего с московских дворовладельцев, а также членов корпораций гостей, гостиной и суконной сотен (включая лиц не имевших московских дворов) было приказано собрать 1 000 подвод с людьми. От сбора освобождались патриаршие слободы, церковные причетники и дворы бывших в походе, на службах и в посольствах. Сбором подвод в Москве ведали сначала боярин Ф. И. Шереметев, окольничий Л. И. Карпов и дьяк М. Данилов, позднее окольничий кн. А. М. Львов и М. Данилов. 8 августа 1632 прием подвод передан приказу Приказных дел (см. выше).
Помимо этого, в ноябре - декабре 1632 года был объявлен сбор «запросных подвод» - сколько кому возможно, с церковных иерархов, монастырей, московских чинов и проч. Для дальних мест (500 и более верст от Москвы, допускалась замена подвод денежным взносом - по 5 руб. за подводу). Сбор был теоретически добровольный, однако добровольность эта не всегда выдерживалась, так, подьячих Устюжской чети было приказано обложить «смотря по пожиткам». Общие результаты сбора неизвестны, однако только с московских чинов было собрано более 950 подвод.
Сбором запросных подвод заведовал поначалу тот же приказ Приказных дел, однако уже в начале декабря 1632 года он был передан приказу Сбора немецких кормов.
* Справочник Лисейцева - Рогожина - Эскина считает, что приказ Приказных дел с 1632/33 года именовался приказом Сбора даточных людей.
** Там же
Система обороны границ и ее состояние
скрытый текст
Система обороны западной границы, как отмечает автор, основывалась в основном на укрепленных городах-крепостях. На южной границе они дополнялись армией ежегодно выходившей на «береговую» службу, засечной чертой, сторожевой службой и проч.
Западные города-крепости, устроенные в стратегически важных местах, преграждали вражеским армиям путь вглубь страны. Южные, помимо этого, служили центрами сторожевой службы и укрытиями от татарских набегов для местного русского населения. Собственно страгегическое значение южных городов, было по мнению автора, невелико, поскольку подвижные татарские армии легко могли их обойти.
Промежуточное положение занимали города «Северы» (к которым автор отнес и Брянск) которым угрожали одновременно и татары и литва.
Далее автор приводит обширную сводку сведений о состоянии городов, их укреплений и гарнизонов ко времени Смоленской войны - от Пскова до Северщины и от Северщины до рязанских городов.
Города эти автор разделил на несколько групп. К первой он отнес города защищавшие страну от литвы, а на юге - от литвы и татар одновременно. Эту группу автор, в свою очередь, условно подразделил на города правофланговые - к северу от Вязьмы и левофланговые - к югу.
К правофланговым автором отнесены Псков, Остров, Опочка, Торопец, Великие Луки, Ржева Владимирова, Зубцов, Вязьма (первая, ближайшая к границе, линия), а также Осташков, Торжок, Старица, Волоколамск, Руза Можайск, Верея (Борисово городище), Боровск (вторая, внутренняя линия).
К левофланговым - Масальск, Мещовск, Козельск, Брянск, Карачев, Севск, Рыльск, Путивль (первая линия), а также Калуга, Лихвин, Одоев, Белев, Болхов, Кромы, Курск (вторая линия).
Вторую группу составили города служившие защитой только от татар. Автором рассматриваются только города расположенные к югу от Засечной черты - Валуйка, Белгород, Оскол, Ливны, Орел, Мценск, Новосиль, Чернь, Воронеж, Елец, Данков, Ряжск, Щацк, Лебедянь.
Как отмечает автор, судить о состоянии городов и их укреплений по воеводским отпискам нельзя - воеводы почти всегда описывали это состояние максимально черными красками, очевидно пытаясь загодя снять с себя ответственность за возможные военные неудачи. Сам он пытается выработать определенные критерии на осовании которых можно более-менее объективно оценить состояние соответствующих городов.
Идеальным типом укреплений, по его мнению, были каменные (среди перечисленных городов имелись во Пскове, Можайске, Вязьме, Верее / Борисовом городище, Путивле).
Достаточным для обороны деревянным укреплением была крепость имеющая венчатую ограду, поставленную на земляном валу и рубленую тарасами, с бруствером (обламами) и тремя боями - верхним, средним и подошвенным, катками (закрепленными на стенах бревнами, для скатывания на врагов) и башнями (тоже с тремя боями). Необходим был также ров, за наружным краем которого в несколько рядов вкапывались деревянные надолбы, между которыми (или между стеной и рвом) густо вбивались деревянные колья (частик / честик) или железные спицы (чеснок).
Из перечисленных выше городов Руза и Верея ко времени войны совсем не имели укреплений, укрепления Опочки, Боровска, Мещовска, Мценска, Козельска, Севска, Рыльска, Калуги, Лебедяни, Валуек, Ряжска находились в неудовлетворительном состоянии, укрепления Болхова, Ливен, Данкова «были несколько лучше» (так у автора), об укреплениях или их состоянии на время войны в Орле, Зубцове, В. Луках, Курске, Ельце, Черни, Осташкове, Торжке, Борисове городище [сам автор его выше отнес к каменным], Мосальске, Лихвине, Одоеве, Белеве сведений нет.
В оставшихся городах [т. е. методом исключения - каменный Псков, Остров, Торопец, Ржева Владимирова, каменная Вязьма, Старица, Волоколамск, каменный Можайск, Масальск, Брянск, Карачев, каменный Путивль, Лихвин, Кромы, Белгород, Оскол, Новосиль, Воронеж, Щацк] укрепления были сносными или даже удовлетворительными.
Правительство, начиная с 1626 года, довольно активно занималось ремонтом старых и постройкой новых укреплений в означенных городах. В 1626 году был поставлен новый острог в Карачеве; в 1628 - поставлен новый острог в Волоколамске, произведен ремонт укреплений Пскова и начато обновление укреплений Путивля (в 1628 - 1630 годах поставлен новый острог и отремонтирован старый).
Строительная деятельность особенно усилилась начиная с мая 1630 года, после рассмотрения этого вопроса государем и Боярской думой. В 1630 году были отремонтированы укрепления Вязьмы, Можайска, Севска и начата постройка новых острогов в Воронеже, Опочке, Ржеве Володимеровой, Брянске; в 1630 - 1631 годах перестроены укрепления Рыльска и отремонтированы укрепления Острова; в 1630 - 1632 годах отремонтированы укрепления Белгорода; в 1631 году начаты постройка новых острогов в Кромах, Старице, Ряжске и ремонт укреплений Валуек (завершен в 1634-м)*.
Уже в ходе войны были построены новые остроги в Мещовске и Осташкове, построен второй острог в Калуге и острог и башни в Рузе, отремонтированы укрепления Брянска, Лебедяни, Ливен, Пафнутьева монастыря в Боровске.
В плане артиллерийского вооружения крепостей нормой видимо считалось наличие минимум 2 пушек (не считая затинных пищалей) на башню. В идеале должны были иметься еще и дальнобойные полуторные пищали, пушки на башнях в трех боях и (совсем хорошо) - пушки на стенах.
Исходя из указанной нормы (2 пушки на башню) недостаточное вооружение к началу войны имели Кромы (совсем не было наряда), Великие Луки, Ржева Володимерова, Вязьма, Старица, Волоколамск, Боровск, Осташков, Можайск, Масальск, Карачев, Брянск, Севск, Белев, Белгород, Оскол, Воронеж, Данков, Ряжск.
Нормой обеспечения пушечными припасами (ядрами и порохом) считались видимо 200 - 300 ядер на орудие и порох - по весу ядер.
Исходя из этого ядрами достаточно обеспечены были Псков, Остров, Болхов, Белгород, Елец, Мценск, Щацк, Чернь; не вполне достаточно - Опочка, Торопец, Можайск, Масальск, Мещовск, Козельск, Одоев, Курск, Воронеж, Ливны, Данков; мало - Вязьма, Старица, Волоколамск, Боровск, Карачев, Брянск,Севск, Лихвин, Валуйка, Новосиль, Ряжск; совсем их не было в Кромах.
Порохом с избытком были обеспечены Торопец и Козельск; много его было в Вязьме и Севске; достаточно - в Брянске,Болхове, Воронеже, Ливнах, Ельце, Мценске, Черни; не вполне достаточно - в Опочке, Старице, Боровске, Можайске, Курске, Белгороде, Новосили; мало - в Острове, Масальске, Мещовске, Лихвине, Одоеве, Данкове; совсем не было в Кромах.
Правительство и здесь не осталось безучастным - в феврале и декабре 1630 года бояре дважды слушали этот вопрос, распорядившись послать в города необходимое число припасов. Всего в города было послано 12 пищалей (3 6-фунтовых, 3 4-фунтовых, 5 3-фунтовых и одна 2-фунтовая), 38 тюфяков (и к ним 33 пуда дроби), 5 616 ядер, 1 188 пудов пороха пушечного и 1 403 пуда пороха пушечного и ружейного (без разделения), св. 2 661 пуда свинца и проч.
Помимо этого в города посылались продовольствие и фураж (соль, рожь и овес) - для пополнения местных запасов. Так, боярским приговором от февраля 138 года велено было послать 3 000 четей* соли во Псков, 700 четей** соли в Торопец и 900 четей** соли - в Великие Луки. Государевыми указами и боярскими приговорами 138 - 139 годов по городам было приказано послать св. 19 872 пудов соли, св. 6 043 четей ржи и св. 2 167 четей овса.
Минимально достаточный гарнизон, по мнению автора, должен был иметь по 50 служилых людей на ворота, по 20 - на башню и по 1 чел. на каждую сажень стены.
Исходя из этого достаточную численность имели гарнизоны Можайска, Вязьмы, Масальска, Мещовска, Ельца, Ливен, Рыльска, Путивля, Курска, Оскола; незначительный дефицит (10-20%) личного состава имелся в Ржеве Владимировой, Белеве, Карачеве, Воронеже; примерно 3/4 нормы имели гарнизоны Торопца, Великих Лук, Черни, Мценска, Брянска и Севска; около половины - Калуга, Кромы, Новосиль, Белгород, Валуйки; 1/3 - 1/4 нормы - Опочка, Остров, Старица, Боровск, Лихвин, Одоев, Болхов; совсем незначительными были гарнизоны Торжка и Волоколамска.
Боярские приговоры 1631 года указывали пополнить гарнизоны Пскова, Ржевы, Волоколамска, Вязьмы, Старицы, Масальска, Мещовска, Брянска, Козельска, Великих Лук, Путивля и Севска - всего требовалось прибавить св. 2 550 человек. Однако видимо лишь в случае Брянска (100 чел.), Путивля и Великих Лук (по 200 чел.) они были выполнены. Более того, в ходе войны в ряде городов гарнизоны были существенно ослаблены - за счет участия местных служилых людей в походе под Смоленск или фланговых операциях (Лебедянь, Воронеж, Курск, Елец, Калуга, Рыльск, Путивль, Новосиль).
[Относительно понятия «гарнизон» можно отметить следующее. Помимо собственно гарнизона - постоянно находившихся в городе стрельцов, казаков, людей пушкарского чина, в осаду должно было садиться и прочее городское население (посадские, если они были, дворники, дети и братья тех же стрельцов, казаков и проч.), а также уездные дети боярские и «уездные люди» - часть окрестных крестьян. На практике последние в осаду садиться обычно не хотели и всячески от этого уклонялись, а уездные дети боярские могли находиться на службах в других местах и, в целом, также в осаде сидеть не рвались. Боеспособность «забитых в осаду» крестьян и городских неслужилых людей естественно была много ниже чем у служилых].
В целом, вполне благополучными в плане обороны автор считает лишь Псков, Ржеву Володимерову, Елец, Путивль и Оскол. Наименьшими дефектами страдала оборона Осташкова, Вязьмы, Можайска, Масальска, Белева, Карачева, Курска, Воронежа. Оборона прочих городах страдала теми или иными серьезными дефектами.
Относительно благополучно выглядела первая линия правофланговых городов, здесь слабыми местами были лишь Опочка и Остров. Вторая линия крепостей здесь была весьма слаба.
На левом фланге самыми слабыми местами были Севск, Рыльск и Козельск.
На татарском направлении положение было особенно скверным. Местные города не имели достаточных гарнизонов для оказания сопротивления татарам. Часть из них не имела и места для укрытия уездного русского населения (Севск и Курск), а некоторые и для укрытия всех служилых людей (Путивль, Данков, Оскол, Ливны).
Меры правительства по повышению обороноспособности городов литовского пограничья и юга, как считает автор, не были исчерпывающими и часто запаздывали. Больше всего было сделано для снабжения крепостей провиантом, далее шло усиление артиллерии и пополнение пушечных запасов, затем - усиление укреплений (здесь мероприятия правительства особенно часто запаздывали), менее всего сделано было для усиления гарнизонов. Более того, значительная часть служилых людей южных уездов была привлечена к службе в действующей армии и местные силы существенно сократились.
Ослаблены оказались и другие элементы обороны юга - Засечная черта ко времени Смоленской войны пришла в полный упадок, наиболее боеспособная часть донских казаков отправилась под Смоленск. Резко сокращена была и численность армии традиционно выдвигаемой «на берег», так, в 136 году в ней было 10 896 чел., в 137-м («по большим вестям») - более 11 873, в 141-м (1632/33) - 5 163 человека.
Таким образом, русское правительство вступило в войну имея на юге малообеспеченный тыл.
***
[Значительную часть описанных автором городов боевые действия не затронули. Война коснулась в основном северских и южных городов. В 1633 - 1634 годах черкасы и (или) литва осаждали Белгород, Путивль, Севск, Курск и Карачев, взяли и разорили Валуйки.
В зоне татарских нападений 1632, 1633 и 1634 годов оказались Ливны, Оскол, Курск, Елец, Орел, Карачев, Кромы, Чернь, Данков, Ряжск, Болхов, Белев, Одоев, Калуга, Мценск, Новосиль. При этом «приступали» татары только к Новосили (август 1632-го), однако «приступ» носил скорее характер плотной блокады.
См. - Новосельский А. А. Борьба московского государства с татарами в XVII веке и Ракитин А. С.
Северский поход и осада Чернигова].
Сообщаемые автором сведения о состоянии обороны указанных северских городов и Новосили приведены ниже.
Укрепления Валуйки включали собственно деревянный «город» (247 саженей) и острог окружавший посад (685 саженей). Город к 1630 году был в неплохом состоянии, острог вокруг посада - в скверном. Наряд включал 27 пищалей (3 6-фунтовых полуторных, 4 4-фунтовых полуторных, 10 железных полковых, 10 железных скорострельных), медный тюфяк и 107 затинных пищалей (13 медных и 94 железных)***. Гарнизон на 1631 год включал 675 человек (203 стрельца, 223 казака, 103 чел. пушкарского чина, 26 станичных атаманов и 120 ездоков), в 1632 году уменьшился до 566 чел.
Укрепления Белгорода состояли из малого острога («в города место» - 6 башен, двое ворот, 293 сажени) и большого острога (вокруг посада - 12 (позднее 15) башен, трое ворот, 680 сажен), оба были окружены рвом, укрепленным честиком. Перед войной укрепления ремонтировались и в целом находились в неплохом состоянии. Наряд на 1632 год включал 10 пищалей (10-фунтовую «Собаку», 1 полуторную, 6 полковых железных, 2 скорострельных) + урывок полуторной, 4 тюфяка, 142 затинных пищали.
Гарнизон на 1631 год состоял из 921 чел. (202 стрельца, 80 казаков, 50 людей пушкарского чина; 40 станичных голов, 40 атаманов, 80 вожей и 240 ездоков; 189 детей боярских), на 1632 год (с детьми, братьей и проч. служилых людей) - из 1 291 чел.
Укрепления Путивля включали два деревянных острога [выше автор записал его в каменные крепости], с 13 башнями, 4 воротами и общей протяженностью стен в 378,5 саженей. Городские укрепления ремонтировались перед самой войной и находились в хорошем состоянии. Местный наряд состоял из 17 пищалей (4 полуторных, 4 полковых, одна медная, 5 железных, 2 волконейки, 1 сорока), пищального урывка, 6 тюфяков и 22 затинных пищалей.
Гарнизон Путивля на 141 (1632/33) год должен был включать 1 974 чел. - 704 стрельца (в т. ч. 404 московских), 404 казака, 95 людей пушкарского чина (в т. ч. 65 пушкарей и затинщиков), 414 детей боярских, 147 посадских людей (включая детей и пр.) и 210 чел. детей и братьи стрельцов, казаков и проч. 409 человек (207 детей боярских и 202 казака) фактически были посланы в поход на Северу.
Укрепления Севска также состояли из двух острогов (длина стен 378 сажен, в большом остроге 7 башен и 2 ворот). Состояние укреплений оставляло желать лучшего, однако хорошую дополнительную защиту Севску обеспечивали водные преграды - город был почти со всех сторон окружен водой (реки Сева и Марица, дополненные искусственным прудом). Наряд на 1631 год включал 12 пищалей (6-фунтовая и 4-фунтовая полуторные, 10 3-фунтовых полковых), 3 медных тюфяка, 4 медных затинных пищали.
Гарнизон состоял из 386 служилых людей (200 стрельцов, 125 конных казаков, 61 чел. пушкарского чина), 185 осадных людей (дети и братья служилых, ямщики и пр.) и 225 даточных (с пищалями и рогатинами) двух ближайших станов Комарицкой волости, всего - 796 человек. В 1631 - 1632 годах в Севск было прислано [или приказано дать, из текста неясно] еще 250 служилых людей (50 стрельцов и 200 казаков), однако 225 чел. в 1632 - 1633 годах было послано в другие места. Комарицкие даточные защищать город от литвы ожидаемо не явились.
В Карачеве имелся острог протяженностью в 379 сажен, о состоянии которого имеются противоречивые сведения - сами карачевцы в челобитной 1630 года утверждали что «острог укреплен со всем» и просили только прибавки наряда, однако местный воевода в отписке 1631 года его разругал («подгнил» и проч.). Наряд на 1633 год включал 10 пищалей (2 полуторных, 3 3-фунтовых, 5 железных полковых), 2 полуфунтовых тюфяка и 5 затинных пищалей. Гарнизон на 1631 год включал всего 487 чел. (из которых 20 посадских и 70 «стародубских выходцев устроенных на посаде»).
В Курске на апрель 1633 года имелся острог протяженностью в 721,5 сажень. Наряд его включал 10 пищалей (3 полуторных 6- и 4-фунтовых, 5 полуфунтовых полковых железных, 2 полуфунтовые железные скорострельные), 2 железных тюфяка, 15 затинных пищалей. Гарнизон на 1631 год состоял из 563 приборных (204 стрельца, 300 казаков, 63 чел. пушкарского чина) и 997 детей боярских, всего 1 564 чел. В 1632 году.
В Новосили имелся острог протяженностью в 266 сажен. Наряд включал 12 пищалей (в т. ч. 6 полковых) и 2 тюфяка. Гарнизон перед войной состоял из 730 чел. (из которых 528 детей боярских, т. е. приборных не более 202), на 1632 год - из 400 (150 детей боярских и 250 приборных), на 1633 год - из 260 (8 детей боярских, остальные приборные), на 1634 год - из 200 чел. (50 стрельцов, 130 казаков, 20 пушкарей). Помимо служилых на 1632 год имелось ок. 150 жилецких людей.
* Как отмечает А. А. Новосельский: «Некоторые данные Сташевского о ремонте городов основаны на недоразумении. Он говорит, что в 1630 - 1631 гг. начат был ремонт Валуйки, но закончен лишь в 1634 г. Но в 1634 г. Валуйка была отстроена заново, потому что в 1633 г. этот город был совершенно уничтожен черкасами... Он числит в ряду городов имеющих достаточную оборону Елец и Ливны, между тем в них были только остроги». См. - Борьба московского государства с татарами в XVII веке.
** Так в тексте, пудов?
*** Дата не указана.

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Ногайская знать в России XVI–XVII веков
Весьма ценная содержательно работа, очень нуждающаяся в вычитке и редактуре - мягко говоря. С полиграфией тоже беда - очень мелкий текст и скверного качества печать.
скрытый текстНогайские выходцы
скрытый текст
Вся рассматриваемая автором ногайская знать представляла собой потомков пресловутого Едигея / Эдиге, фактического правителя Золотой Орды на рубеже XIV - XV веков. Среди сыновей Эдиге наиболее заметными были Нур ад-Дин и Мансур, потомки первого стояли во главе Ногайской Орды, потомки второго возглавляли, в качестве карачи-беков, крымских мангытов.
Начиная с XVI века потомки Эдиге появляются в России, оказываясь здесь как добровольно, так и не очень и принимаясь на государеву службу. В статусном отношении они располагались между Чингисидами и служилыми князьями из местных инородцев (татарскими, мордовскими и проч.). При крещении ногайские выходцы получали наследственный княжеский титул. До 1590-х годов они числились служилыми князьями, позднее стольниками и дворянами московскими (обычно на первых местах в соответствующих списках). После Смуты их статус понижается, к концу XVII века ногайские выходцы перемещаются уже в нижнюю часть списков стольников и дворян, некоторые начинают службу стряпчими и даже жильцами. Приказные учреждения ровней им считают уже мещерских служилых татар, ранее стоявших много ниже.
До середины XVII века ногайские выходцы ведались Посольским приказом, позднее - Разрядом.
В русских документах XVI - XVII веков ногайские выходцы фигурировали под родовыми прозвищами (по имени какого-либо значительного предка, чаще всего бия). Как отмечается, генеалогия Эдигеевичей весьма запутана и сложна - как из-за разветвленности рода, так и из-за проблем с источниками. Автором выявлено примерно 200 ногайских выходцев и 25 их родовых прозвищ, по которым он их и группирует, размещая в порядке времени выезда в Россию.
Большинство ногайских родов пресеклось уже в описываемый период, к концу XVII века сохранялось 12 княжеских фамилий ногайского происхождения: Байтерековы, Кекуатовы, Кутумовы, Мамаевы, Мансуровы, Тинбаевы, Ураковы, Урусовы, Шейдяковы (2 рода) и Юсуповы (2 ветви). К середине XVIII века фиксируются представители лишь 5 фамилий - Кекуатовых, Ураковых, Урусовых, Шейдяковых, Юсуповых. До нашего времени дожили потомки князей Урусовых, Ураковых, Кекуатовых и Юсуповых (по женской линии).
Как отмечает автор, случаев выезда / пленения ногайских мурз было значительно больше чем приведено ниже - некоторые ногаи выезжали лишь для участия в войнах, другие жили временно и позднее возвращались в степь, пленных возвращали или обменивали, пленные мурзы XVII века растворялись в среде других пленников и т. д.
Общая динамика выездов выглядела следующим образом. Ногайские мурзы начали выезжать на постоянное жительство в Москву с начала XVI века, поначалу добровольно - вслед за своими свойственниками, татарскими царевичами. С середины XVI века добровольный выезд большей частью сменяется вынужденным - мурзы покидали степи (иногда просто высылались) из-за непрекращающихся кровавых междоусобиц. При этом, как и раньше, все еще сохранялась и возможность отъезда на родину.
На рубеже веков кандидатов на вынужденный отъезд все больше начинает определять Москва, убирая из степи оппонентов своих ставленников, возрастает число ногаев взятых в плен на поле боя. В некоторых случаях разрешение на выезд дается в качестве награды за крещение.
Во второй половине XVII века общее число выездов радикально сокращается. При этом все известные случаи - результат пленения в бою. Захваченных в плен мурз обычно пытались обменять на русских пленных. Если этого сделать не удавалось у мурзы оставалось два варианта - гнить в тюрьме или креститься.
Как отмечает автор, подавляющее большинство ногайских мурз, несмотря на высокий статус и щедрое материальное обеспечение, ощущали себя в России пленниками. Многие из них предпринимали попытки бежать за пределы страны. Положение меняется лишь начиная со второго поколения семей, выросшего или даже родившегося в России.
***
В списке ниже женское потомство ногайских выходцев большей частью игнорируется (мною, а не автором), указываются только сыновья (при наличии).
***
Жены татарских царей и царевичей
скрытый текст
Первые потомки Эдиге в России появились уже в конце XV века - это были жены казанских ханов. Так, в 1487 году в белозерскую ссылку вместе с мужем, свергнутым казанским «царем» Али б. Ибрагимом / Алегамом отправилась «царица» Каракуш, дочь ногайского бия Ямгурчи б. Ваккаса. После смерти первого мужа ее выдали за другого казанского хана, Мухаммеда-Эмина / Магмед-Аминя, вместе с которым она вновь бежала в Россию, живя в 1496 - 1502 годах в Кашире. Другой женой Мухаммеда-Эмина, жившей с ним в Кашире, была еще одна дочь Ямгурчи, Фатима. Она же, возможно, позднее была замужем за еще одним казанским ханом, пресловутым Шах-Али / Шигалеем и, соответственно, бегала в Москву из Казани уже с ним.
Ногайских жен имели и другие выезжие Чингисиды - крымский царевич Мурад-Гирей (выехал в 1585 году), ургенчский царевич Мухаммед-Кул (1595?), плененные в 1598 году сыновья Кучума, царевичи Канай и Али (женатые, соответственно, на дочерях биев Уруса и Дин-Ахмеда).
Как отмечает автор, помимо перечисленных случаев наверняка имелись и другие, нам неизвестные.
Мансуровы, Канбаровы и Тевекелевы
скрытый текстПотомки одного из указанных сыновей Эдиге - Мансура и сына последнего, Дин-Суфи.
Между мартом 1502-го и октябрем 1505 года в Москву выехал внук Дин-Суфи Канбар б. Момола, приходившийся племянником большеордынскому и крымскому беку Хаджике б. Дин-Суфи. В Москве он находился видимо на положении служилого князя, являясь достаточно заметной фигурой. В 1505 - 1507 годах его службы фиксируются разрядами: в октябре 1505 года Канбар-мурза Мамалеев был в Муроме с касимовским царевичем - по казанским вестям; в июле 1507-го ходил на Литву из Северы во главе передового полка (вместе с удельным воеводой кн. Юрия Дмитровского); в сентябре того же года опять ходил на Литву, руководя передовым полком уже единолично (что весьма нетипично). После 1507 года не упоминается.
У Канбара было двое сыновей - Ак-Мухаммед и Тевекель.
Службы Ак-Мухаммеда в 1519 - 1541 годах фиксируются разрядами, он видимо командовал каким-то собственным татарским отрядом, составляя компанию своим свойственникам, сибирским царевичам Ак-Даулету и Шах-Алею (под присмотром русских приставов) - большей частью в походах против литвы.
Сын Ак-Мухаммеда Ураз-Али / Уразлый сделал большую карьеру. В разрядах Ураз-Али Канбаров упоминается с 1551 года, в 1558 году он крестился, став князем Иваном Махметевичем / Ахметевичем Канбаровым. В 1560 - 1563 годах князь назначался первым воеводой сторожевого и передового полка на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1566 годах - уже второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву. В 1570 году Канбарова отправили послом в Польшу (умер в дороге).
О другом сыне Канбара, Тевекеле, сведений не имеется. У него имелся видимо сын Мавкош, также ничем не прославившийся. Сын этого Мавкоша сделал заметную карьеру. Мусульманское его имя неизвестно, после крещения он именовался князем Иваном Мовкошевичем («Мавкошевым сыном») Тевекелевым (вар. Девелетевым, Теукечевым, Теукелевым, Теукчеевым), а в одном случае даже Иваном Тевекелевичем Канбаровым. В Тысячной книге князь записан по Торжку - сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном. В 1558 - 1572 годах служил в основном в головах и рындой, хотя в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года - первый воевода передового полка в «немецком походе». «Выбыл» в 1576/77 году. Некий кн. Иван Девлетевич Тевкелев в 1570 - 1575/76 числился также оружничим, однако достоверность этого известия сомнительна.
В XVII - XVIII веках упоминаются и другие князья Канбаровы. Так, в 1630 году крестился некий Тимофей Абдул-мирзин сын Канбаров (Камбаров, Канбаев), числившийся служилым иноземцем по Царевококшайску. Его родство с вышеописанными Канбаровыми сомнительно. В 60-80-х годах XVIII века упоминаются еще какие-то князья Канбаровы, их происхождение неизвестно.
Вероятно вместе с Канбаром в Москву выехал и его двоюродный брат Бибей б. Ибрагим, с сестрами Борнушей и Ош-салтаной. Борнуша позднее была выдана замуж за сибирского царевича Ак-Даулета б. Ак-Курта, а Ош-салтана, вероятно, за астраханского царевича Шейх-Аулеара б. Бахтияра и возможно была матерью (или мачехой) пресловутого Шах-Али, казанского и касимовского царя.
О самом Бибее известно лишь, что через какое-то время после выезда он крестился, став князем Владимиром. У него имелся сын Дохие, в крещении - Семен. В Тысячной книге он записан князем Семеном Васильевичем Бибеевым, сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном - по Ржеве Володимеровой.
Каким-то образом (захвачен в плен?) в Москве оказался и принял крещение еще один Мансур - некий Иван, сын Мевлеша, внук Тевшина / Тениша. Последний (Тениш б. Джанкуват б. Дин-Суфи) приходился двоюродным братом Канбару и был, как и его отец, крымским карачи-беком.
В XVII веке в России упоминаются новые Мансуры. В 1643 /44 году в Астрахани крестили выехавшего еще в 1639 году из Крыма Адиля-мурзу Мансурова. В боярских книгах и списках он отсутствует.
В 1670/71 или 1671/72 году крестился белгородский мурза Антемир (Байтемир) Мансуров, взятый в плен под Севском в 1667/68? году. Больше о нем ничего не известно. Как отмечает автор родовое прозвище Мансуры начинает употребляться в документах только в XVII веке, ранее оно не использовалось
Автор включил в эту группу и пресловутого Дивея-мурзу (Дивея б. Хасана), крымского карачи-бека и ближайшего сотрудника Девлет-Гирея, захваченного в плен под Молодями и подохшего в 1575 году.
Кутумовы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мухаммеда б. Мусы.
В 1564 году в Москву «из Нагаи» с отрядом выехал внук бия, Айдар б. Кутум б. Шейх-Мухаммед, вероятно вместе с братом Али (Алеем). Об Айдаре больше почти ничего не известно. У него имелось два сына - Еналей и Кузей, вероятно погибших в Смуту.
У Али б. Кутума известны два сына - Ахмед и Барай и дочь - Салтан-бике, жена трех последовательно сменявших друг друга касимовских царей (Мустафы-Али, Ураз-Мухаммеда и Арслана б. Али). Еще одна, безымянная, дочь мурзы возможно была женой известного сибирского царевича Маметкула, военачальника Кучума.
Ахмед вероятно погиб в Смуту, а вот Барай б. Али дожил до 1646? года, оставив многочисленное потомство - известно восемь его сыновей (Хан, Сафаралей / Петр, Ирбетя (Ибердей) / Тихон, Тахтаралей, Ем, Шекурей, Опаш и Касбулат). Большой карьеры никто из князей Бараевых не сделал.
Старший из сыновей, Хан, умер до марта 1657 года. Его сын Надыр / Дмитрий в 1680 году крестился под давлением властей. На 1685/86 год - стольник, с 1703 года в отставке, умер до 1708 года.
Сафаралей / Петр крестился в 1647 году, тогда же пожалован в стольники, умер в 1652/53 году. Его сын Дмитрий, тоже стольник, в 1679/80-м сослан Кирилло-Белозерский монастырь.
Ибердей / Тихон крестился в 1629 году, тогда же пожалован в стольники, в 1650-м выписан из стольников в московские дворяне, умер в 1658/59 году.
Тахтаралей ничем не известен, его сын Джадигер / Федор крестился в 1680 или 1681-м, на 1685/86 и 1691/92 годы числился стольником, умер не позднее декабря 1696-го. Сын его, Иван Федорович, на 1685/86 год стольник, умер не позднее 1703 года.
О Еме, Шакурее и Опаше сведений нет.
Почти ничего не известно и о Касбулате. В 1680 или 1681 году у него, за отказ креститься, отписали 79 дворов в Романовском уезде и отправили жить в Вологду, в качестве кормового иноземца. У Касбулата было 6 сыновей, из которых относительно известен один - Каплан / Петр. Он крестился в 1688 году и именовался князем Петром Касбулатовым. На 1685/86 год - стольник (ведался после крещения почему-то в Иноземном приказе), упоминается до 1705 года. По некоторым сведениям воспреемником князя при крещении был. кн. В. В. Голицын (и отечество его было Васильевич) и в 1689 году он посылался с царским жалованьем к Мазепе.
В начале XVIII века этот род пресекся.
Кошумовы
скрытый текстПотомки Хаджи-Мухаммеда (Кошума), нурадина Ногайской Орды, брата бия Саид-Ахмета и сына бия Мусы б. Ваккаса.
В 1567/68 году в Москву для участия в войне с Литвой прибыли Караул и Яныш, сыновья Асанака* (Хасанака) б. Хаджи-Мухаммеда (Кошума) б. Мусы.
Примерно в то же время выехал и позднее крестился Салтангазы (Султан-Гази) б. Хаджи-Мухаммед, в крещении - князь Никита Кошумов. [Судя по тексту - дяда Караула и Яныша, однако на приводимой авторской схеме показан сыном Хасанака и, соответственно, братом первых двух]. Был видимо романовским помещиком.
В XVII веке известен еще один князь Кошумов. В 1637/38 году в Воронежском уезде попал в плен некий мурза Алей Кошумов. В 1642/43 году он крестился и стал князем Василием Кара (Карай, Корай) мурзиным сыном Кошумовым. в 1649/50 - 1654 годах - дворянин московский. Характер его родства с предыдущими Кошумовыми неизвестен.
* Женой этого Асанака была сестра царевича Бекбулата, отца известного кн. Симеона Бекбулатовича, неоднократно навещавшая своих родственников в России.
Уразлыевы
скрытый текстВнуки бия Шейх-Мухаммеда.
В 1560 - 1561 годах в Москву, в связи с усобицей в Ногайской Орде, выехали сыновья Ураз-Али б. Шейх-Мухаммеда - Пулад, Тимур, Бабаджан (Бибизян) и Тохтар. Тохтар позднее вернулся в степи, судьба Пулада неизвестна. Тимур и Бабаджан Уразлыевы, а также сын Тохтара Эль отмечены в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года как прежние помещики.
Юнусовы, Юсуповы, Юсуповы-Княжево
скрытый текстПотомки бия Юсуфа б. Мусы.
Первой представительницей рода оказавшейся в России была женщина - пресловутая Сююн-бике, жена казанских ханов Джан-Али / Яналея и Сафа-Гирея и бывшего казанского хана и касимовского царя Шах-Али / Шигалея (1551 год).
После убийства в 1554 году бия Юнуса и «воцарения» его младшего брата Ибрагима, в Москву начали выезжать конфликтовавшие с дядей потомки покойного бия.
Весной 1558 года выехал один из сыновей сын Юсуфа - Юнус б. Юсуф. Он был всячески обласкан, но уже в мае 1561 года умер. В России жило трое его сыновей - Бий-Мухаммед, Ак-Мухаммед и Тин-Али / Тиналей. В конце 1560-х они были испомещены в Романовском уезде. Ак-Мухаммед, по некоторым сведениям, позднее уехал в Малую Ногайскую Орду. Тин-Али в 1570 году бежал вместе с другими ногаями в Литву, а оттуда в Крым (см. ниже).
Вместе с Юнусом выехал его малолетний племянник Дан-Али б. Али б. Юсуф. Возможно это упоминаемый русскими документами Наделы Алеев сын Хромого, романовский помещик и еще один участник побега 1570 года.
В 1564 году бий Исмаил выслал в Москву других сыновей Юсуфа - Ибрагима и Эля. Они были также испомещены в Романовском уезде. В 1570 году Ибрагим Юсупов, после ссоры с опричником Романом Пивовым, вместе с одним из своих сыновей, Тиналеем Юнусовым и двумя неидентифицируемыми мурзами (упоминавшимся Наделы Алеевым и неким Ахмалой Бештавзином) бежал в Литву, а оттуда - в Крым (позднее перебрался в Малые Ногаи).
В России у Ибрагима осталось два сына - Сеит-Мухаммед и Сююш.
Сеит-Мухаммед («Сеит-Мамет-мурза Абреимов») в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года упоминается как прежний помещик. У него был сын - «Козяк (Хозяк) мурза Сеит-Магметев сын Юсупов» (упоминается в 1609 году), бывший видимо племянником касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
У Сююша также был сын - Ибрагим / Никита. Князь Никита Исеушевич Юсупов в боярских списках 1606/07, 1610/11 и 1626 годов числится дворянином московским. За московское осадное сиденье 1618 года пожалован переводом части кашинского поместья в вотчину. Последнее упоминание - 1647/48 год.
У Никиты было четверо сыновей - Федор, Василий Большой, Василий Меньшой и Андрей и дочь Анна.
Анна была замужем за Иваном Гавриловичем Хлоповым, родственником несостоявшейся царской супруги, патриаршим стольником и позднее дворянином московским.
Федор - стольник с 1641 года, умер не ранее 1667-го.
Андрей - с 1638 года стряпчий, с 1667-го - дворянин московский, умер не ранее 1667 года. У него был сын Петр, жилец с 1696/97 года, позднее возможно стольник, умер не ранее 1720-го, сын Иван - к 1719 году прапорщик Рязанского пехотного полка.
Василий Меньшой в 1660/61 пожалован в стряпчие из жильцов, служил до 1676 года, умер не ранее 1721-го. У него был сын Иван, жилец с 1695/96 года.
Василий Большой имел семерых? сыновей - Ивана (стряпчий с 1671/72, стольник с 1676/77, умер ок. 1708 года), Василия (дворянин московский с 1675/76, умер до 1720 года), Петра (стряпчий с 1681/82, стольник с 1691/92, умер ок. 1708 года), Бориса (дворянин московский с 1680/81, умер ок. 1708 года), Леонтия, Алексея и Федора. Борис, Иван, Василий и Алексей тоже имели сыновей, но никто из них в петровские времена выше армейского обер-офицера не поднялся.
Эль б. Юсуф (умер между августом 1610 и сентябрем 1611 года) имел трех сыновей - Сююша, Бая и Чина (Чин-Мухаммеда).
Бай погиб в Смуту, между августом 1610 и сентябрем 1611 года.
Чинбыл видимо сыном от брака с сестрой сибирского хана Кучума и какое-то время жил в Сибири. В 1595 году он с семьей сдался русским в Таре и был отправлен в Москву. Погиб или умер во время Смуты (до ноября 1608?). У Чина было вероятно три сына - Будай, Петр (на 1607/08 стольник, на 1610/11 - «в измене») и Корел (в другом месте именуется Корепом, сын сестры крымских выходцев Юрия и Василия Сулешевых).
У Корела / Корепа был сын Бий, унаследовавший вотчины деда, Юрия Сулешева. В 1639/40 году он крестился и стал князем Иваном Кореповичем Юсуповым (Исуповым). В 1649 году сослан с семьей на Белоозеро. Стольник, после 1651/52 - дворянин московский, умер не ранее1676/77 года. Его жена Мария была племянницей боярина кн. Бориса Александровича Репнина. Сын Семен - с 1671/72 года стряпчий, с 1675/76 - стольник, умер не ранее 1685/86 года.
Сююш (умер в 1656 году) унаследовал большую часть семейных земель и имел обширное потомство. У него было пятеро сыновей - Абдулла / Дмитрий, Джан, Иштерек, Ислам и Ак.
Иштерек (умер в 1654/55) и Ислам (умер до 1659 года) потомства видимо не имели.
Джан имел двух сыновей - Бая (умер в 1664/65 году) и Хана / Ивана (крестился в 1681-м, умер в 1682 году).
Ак также имел двух сыновей - Ая / Алексея (крестился под нажимом властей в 1681-м, в том же году умер) и Сендегу / Петра (стольник в 1685/86 - 1691/92, умер в 1692 году).
Наиболее многочисленной и успешной была линия Абдуллы / Дмитрия. В 1680/81 он крестился под нажимом властей. Вместе с ним крестились и сыновья, известные уже под христианскими именами - Матвей, Иван и Григорий.
Иван имел чин стольника, умер в начале 1700 года. Его сын Александр умер в 1741 году, не оставив потомства.
Матвей также имел чин стольника, упоминается до 1721 года, у него был сын Михаил.
Григорий (1676 - 1730), благодаря близкому юношескому знакомству с царем Петром сделал прекрасную карьеру, дослужившись в итоге до генерал-аншефа (1730 год). Был женат на дочери окольничего Н. И. Акинфиева. У него было трое сыновей - Григорий, Сергей и Борис. Григорий [умер в 1737 году] дослужился до драгунского полковника, Сергей (умер ок. 1733 года) - до армейского подполковника. [Борис (1695 - 1759) сделал блестящую карьеру - московский и петербургский губернатор, президент Коммерц-коллегии, тайный советник и пр. Он и его потомство, собственно и составили славу рода Юсуповых].
Потомки Сююша, желая отделить себя от прочих Юсуповых до конца XVIII века называли себя Юсуповы-Княжево
В целом, как видно, из всего этого обширного рода в долгосрочном плане преуспела только одна ветвь потомков Сююша.
Шейдяковы
скрытый текстПод этим родовым прозвищем скрывались представители двух разных родов - потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы и потомки Саид-Ахмеда б. Мухаммеда б. Исмаила б. Мусы - выходцы из Малой Ногайской Орды. Генеалогия Шейдяковых весьма запутана и часто сложно понять к какому из указанных родов относится соответствующий персонаж.
Потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы.
Саид-Ахмед (Сейдяк, Шидак, Шейдяк - отсюда Шейдяковы) считался в Москве старшим из сыновей Мусы б. Ваккаса и его потомки обладали наиболее высоким статусом среди всех ногайских выходцев XVI века. Позднее их «общегосударственный» статус понизился, однако в среде татарских выходцев оставался высоким и в XVII веке.
В 1568 - 1570 годах впервые упоминаются некие Аман-Газы и Дос-Магмет «Шиидяковы дети княжие». Первый вероятно внук Саид-Ахмеда Аман-Газы б. Тутай, второй - то ли сын Саид-Ахмеда Дурс-Мухаммед, то ли сын этого самого Дурс-Мухаммеда (автор склоняется ко второй версии). В начале 1570-х оба они вероятно крестились, став соответственно князьями Петром Тутаевичем и Афанасием Шейдяковыми. Оба сделали неплохую карьеру.
Петр Тутаевич Шейдяков в разрядах упоминается в 1571 - 1580 годах. Он занимал высокие воеводские должности - первый воевода передового, сторожевого, правой руки [и большого] полков, был наместником во Пскове и проч. Умер в 1581 году.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1586 годах бывал первым воеводой большого полка, наместником Юрьева, осадным воеводой в Новгороде. В 1588 году попал видимо в опалу - взят за пристава и позднее высоких должностей не занимал, умер в 1602 году.
В 1571 году в источниках появляется князь Иван Келмамаевич Келмамаев. Высокий статус князя несомненен - его женили на дочери Малюты и проч., однако происхождение неясно. Автор предполагает, что он мог быть правнуком Саид-Ахмеда - сыном Кель-Мухаммеда (Кель-Мамая) б. Кель-Мухаммеда б. Саид-Ахмеда. В 1571 - 1572 годах - рында с большим саадаком у царевича Ивана Ивановича. Умер в 1573 году.
Помимо этого в 1560 - 1570 годах в России видимо находились сыновья Атая б. Саид-Ахмеда (еще одного сына бия) - некий безымянный и Мустафа Татаев (Атаев) сын Шейдяков (насчет происхождения последнего имеются разные версии, автор его считает сыном Атая). Последнего вероятно крестили в 1571 году.
В Смуту (боярский список 1606/07 года) упоминается еще какой-то новокрещен стольник князь Михаил Шейдяков. «Изменил» в в июле 1608-го (отъехал в Тушино?).
Еще одна семья Шейдяковых также видимо происходила из Большой Ногайской Орды и предположительно относилась к потомкам Саид-Ахмеда. Статус семьи был достаточно высок - только с этой ветвью Шейдяковых в XVII век заключали браки служилые Чингисиды.
Где-то на рубеже XVI - XVII веков в России оказались Еналей (Джан-Али), Каплан и Алей Тугановы дети Шейдяковы, вместе с дядей, Теникеем, Оксаровым (Аксаровым) сыном. Последний вероятно был сыном или внуком Саид-Ахмеда.
Еналей (Алей) в Смуту видимо изменил и в декабре 1610-го был убит казаками в Калуге, в отместку за убийство татарами Вора. У него были сыновья Девлет (Девлет-Мамет), Канай / Алексей и Зорбек / Федор.
Девлет в 1625 году упоминается как кормовой иноземец в Ярославле, умер в 1646 году. Он был женат на дочери Кучума Молдур и вдове касимовского царя Арслана б. Али Нал-ханише.
Канай был женат на племяннице касимовского царя Арслана б. Али. Позднее крестился с именем Алексей, на 1651/52 год дворянин московский. В 1653 году, вместе с сыновьями Сафа-Гиреем / Василием и Шин-Гиреем / Никифором арестован по (сомнительному, по мнению автора) обвинению в попытке отъехать в Польшу. Умер в 1653/54 году. Помимо Василия и Никифора у Каная / Алексея было еще два сына - Давыд Алексеев? (на 1675/76 - 1676/77 годы - дворянин московский) и другой, остающийся безымянным
Зорбек был прижит с наложницей, позднее жил у дяди Теникея и его сына Кул-Мухаммеда, пытавшегося его похолопить, бежал и в 1621/22 году крестился, став князем Федором Еналеевичем (Аналеевичем) Шейдяковым. В 1626 - 1649 годах дворянин московский. Был женат на дочери кн. Романа Петровича Пожарского (двоюродного брата национального героя). У князя был сын Михаил (стольник с 1657/58 года, умер в 1687-м воеводой Соликамска). У Михаила имелось три сына - Семен (на 1712 год - жилец и армейский капитан, позднее асессор Сенатской конторы), Афанасий (стольник с 1685/86 года, на 1722 год - вице-президент Ярославского надворного суда) и Яков (стольник царицы Прасковьи в 1685/86 году). У Якова были сыновья Афанасий (на 1706 год числился среди полковников, подполковников и начальных людей) и Григорий (на 1706-й - стольник). Потомки Григория известны до начала XIX века, но особой карьеры не сделали (максимум - гвардейский поручик). Это единственная ветвь Шейдяковых дотянувшая до XIX века.
Каплан Туганов (Таганов) умер в 1627/28 году. У него было четверо сыновей - Эрмамет (Ир-Мамет, Ураз-Мухаммед?), Бий / Абрам, (Канай) / Иван Большой и Салтанай / Иван Меньшой. Трое последних пожалованы в стольники из новокрещенов в 1649 году, умерли в 1654/55, 1658/59 и после 1708 года соответственно.
У Бия / Абрама были сыновья Роман (стольник в 1649 - 1666/67 годах) и Василий, у Салтаная / Ивана Меньшого - сыновья Василий (на 1706 год в списке полковников и других начальных людей, умер не позднее 1711 года) и (вероятно) Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92, упоминается до 1700 года).
У упомянутого выше дяди перечисленных Шейдяковых, Теникея б. Аксара, был сын Кул-Мухаммед (Келмамет, Клеш) / Артемий, крестившийся в 1621/22 году и имевший чин дворянина московского (умер к 1623/24? году). У него имелись сыновья Федор и Михаил (стольники с 1629 года).
У Федора был сын Иван (стряпчий с 1675-го, стольник с 1685 года), трое сыновей последнего (Федор, Алексей и Иван) в начале XVIII века числились армейскими обер-офицерами.
У Михаила были сыновья Лев (комнатный стольник царя Ивана Алексеевича с 1685/86 года, на 1709 год армейский капитан), Афанасий (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, позднее обер-комендант и вице-президент [Владимирского?] надворного суда) и Семен (на 1712 год жилец и армейский капитан).
Известен также некий Сафарлей (Сафар-Али) Арасланов сын Шейдяков, выехавший, по мнению автора, в конце XVI века и испомещенный не позднее 1606/07 года в Юрьеве-Польском. Его женой была то ли сестра, то ли тетка касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
Малоногайская ветвь Шейдяковых
В 1620 году в Москве крестился внук бия Малой Ногайской Орды Касима - Бек (Батук) б. Султан (Султанаш) б. Касим б. Ислам б. Саид-Ахимед, ставший дворянином московским князем Леонтием Султанашевичем Шейдяковым. В Москву его привезли еще в 1617 году из Михайлова - в качестве «языка». Умер в 1641/42 году.
У Бека / Леонтия имелся брат Дмитрий (мусульманское имя неизвестно), выехавший видимо уже на рубеже XVI - XVII веков (на 1606/07 год в боярском списке записан стольник кн. Дмитрий Салтанаш-мурзин сын Шейдяков). После 1614/15 года он бежал [в степь?], но затем то ли попал в плен, то ли вернулся добровольно. В 1621 году его сослали в Устюг «за измену», простив не позднее 1637/38 года. У князя был сын Борис (стольник в 1647 - 1667 годах, в 1679-м послан под начало в Кирилло-Белозерский монастырь - за пьянство). У Бориса были сыновья Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, в 1700-м повешен за убийство) и Федор (на 1691/92 год стряпчий, с 1703-го в отставке, умер в 1705-м).
У Леонтия и Дмитрия был еще один брат Хан, также оказавшийся в России и имевший двух сыновей - Григория (стольник в 1685 - 1692 годах, умер 1704-м) и Бориса.
К этому же роду относились двоюродные братья Леонтия, Дмитрия и Хана - Белек / Федор, Степан, Исай и Урак?
Белек (Белек-Темир) б. Навруз б. Касим попал в русский плен в 1633/34 году, в ходе похода окольничего П. Ф. Волконского на Малых Ногаев и долго сидел на «аманатском дворе» в Астрахани. В 1650 году он крестился и стал князем Федором (стряпчий с апреля 1654 года, упоминается до 1667-го).
Урак*, Степан и Исай были видимо отпрысками другого сына Касима - Казбулата. Судя по челобитной Урака Степан и Исай на 1637/38 год получали поденный корм. По предположению автора оба они попали в плен под Саратовым в 1627/28 году и сидели в вологодской тюрьме до крещения в 1630/31-м. В документах имеются и иные упоминания Степана и Исая Шейдяковых, однако неясно те же это лица или нет.
С 1649 года упоминается также некий дворянин московский князь Исай Чегорда-мирзин сын Шейдяков (убит в 1659 году под Быховым), тоже возможно внук Касима. У него имелись сыновья Петр (на 1680/81 год стряпчий, на 1691/92 - стольник) и Михаил.
***
Помимо этого известно еще некоторое число Шейдяковых генеалогия которых неясна, но большей частью это видимо выходцы из Малых Ногаев.
Около 1560 года в Москву выехал некий Мустафа б. Тата (Татай) б. Саид-Ахмед - уже в 1561-м отпущен в степь по просьбе бия Исмаила.
В 1614/15 году крестили Дивея / Семена мирзу Шейдякова. Позднее он «побежал» с кн. Дмитрием Салтанаш-мирзин сыном Шейдяков (см. выше), позднее был пойман и сослан в Устюг, где и умер в 1621 году.
В 1622/23 году крестили некоего Дин-Али (Тиналея) Шейдякова. Больше о нем ничего не известно.
В сентябре 1637 года в Новосильском уезде пленили Солох-мирзу (Такаева) Токаева сына Шейдякова - в 1639/40 году крестился под именем Иван, умер в 1646 году.
В 1648/49 году крестился некий Кочюк / Дмитрий Такаев - возможно брат предыдущего.
В 1648/49 году выехал Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков, в 1653/54 - 1664/65 годах - московский дворянин.
В 1689/90 - 1691/92 годах в боярских списках числится стольник Григорий Толбундинов Шейдяков (упоминается до 1721 года).
На 1700 год по «сказкам» Генерального двора в России проживало всего 10 мужских представителей рода Шейдяковых. До начала следующего столетия, как уже отмечалось, дотянула лишь одна, ничем особо не примечательная, ветвь.
* Неясно жил ли он вообще в России - в тексте упоминается его челобитье 1637/38 года о повышении оклада брата, но больше никаких сведений не приводится, на авторской генеалогической схеме он показан в России не жившим.
Смайлевы
скрытый текстПотомки Ханбая б. Исмаила, сына бия Исмаила.
Среди захваченной в 1598 году в Сибири родни хана Кучума имелся и его внук Зен-Магмет (Джан-Мухаммед). Позднее в Россию выехал отец этого Зен-Магмета [и видимо внук бия Исмаила], ногайский мурза Бегай (Бегей) б. Ханбай б. Исмаил (на 1609 год числился дорогобужским помещиком). Позднее Бегай-мурза Смайлев с семьей оказался в Смоленске и затем видимо служил Сигизмунду (некий Бегай-мурза Ханбаевич в 1610 - 1612 годах был пожалован королем дорогобужским поместьем). Позднее [у автора указано число и месяц, но не указан год] он с семьей выехал в осаждавшую Смоленск армию кн. Д. М. Черкасского, был отправлен в Москву и испомещен в Суздальском уезде. К ноябрю 1627 года Бегай крестился с именем Семен (пожалован в стольники), умер в 1632/33 году.
У Бегая / Семена имелись сыновья Сары / Лев (крестился в 1625-м, пожалован в стольники, умер в 1642/43 году), Деян / Дьян (возможно это упоминавшийся Зен-Магмет / Джан-Мухаммед, умер в 1621/22 году), Бирим и, возможно, Козей (на 1636 год кормовой иноземец в Ярославле) и Акманай (на 1642/43 кормовой иноземец в Ярославле, в 1653-м упоминается как член двора касимовского царевича Сеит-Бурхана).
У Деяна / Дьяна был сын Прокопий / Александр (крестился в 1625-м?, стольник, упоминается до 1652 года).
Шихмамаевы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мамая б. Мусы.
В боярском списке 1606/07 года отмечены правнук бия стольник кн. Петр Акназар-мурзин сын Шихмамаев (б. Хак-Назар б. Бай б. Шейх-Мамай), стольник кн. Григорий Келмамет-мурзин сын Шихмамаев (тоже видимо правнук Шейх-Мамай, но генеалогия его неизвестна) и некий дворянин московский Иван Шихмамаев. Как они оказались в Москве неизвестно, возможно это было как-то связано с вывозом в Россию толпы Кучумовичей на рубеже веков.
Ахметевы
скрытый текстВ начале XVII века упоминаются несколько Ахметевых, вероятно ногайских мурз и членов одной семьи, однако их происхождение остается неясным.
В 1609 году в Ростовском уезде упоминается некий Касым-мурза Ахметев, вероятно ногайский мурза. В 1616 году неких Пантелея-мурзу Касымова Ахметева и его племянника Досая Ангилдеева (Кангилдеева) сына Муратова (в 1625 году упоминается уже как Досай Касымов) кинули в тюрьму, вероятно за попытку бежать из России. В 1619-м обоих выпустили, но поместий не вернули и перевели в ярославские кормовые иноземцы.
Урусовы
скрытый текстПотомки бия Уруса б. Исмаила. Единственный серьезно преуспевший в описываемый период ногайский род - части Урусовых удалось войти в состав русской правящей элиты.
После убийства бия Большой Ногайской Орды Уруса б. Исмаила в 1590 году его сыновья вели упорную борьбу против своих дядьев, биев Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила и Дин-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила, убив в итоге обоих. В конце-концов в эту распрю напрямую вмешалась Москва, посадив бием младшего брата погибших - Иштерека б. Дин-Ахмеда. Возглавлявший «Урусовых детей» Джан-Арслан б. Урус в 1601 году попал в русский плен, в 1604-м был отпущен обратно в степь, однако в 1614 году был вновь арестован русскими властями и в апреле 1615-го умер в Казани. В России жили также сыновья Джан-Арслана - Урак / Петр, Зорбек / Александр и Тук / Иван и его племянники - Андан / Борис, Бий / Петр и Касай / Андрей.
Урак / Петр оказался в Москве еще при первом пленении отца, позднее был крещен, став князем Петром Еруслановичем Урусовым (впервые упоминается в июле 1604 года). Князя «не по ево воли» женили на вдове кн. А. И. Шуйского (урожденной Годуновой), обеспечив и обширными земельными владениями (по росписи 1604 года выставлял 47 человек = 4700 четей). На 1606/1607 год - первый в списке стольников. В том же году бежал из под Тулы в Крым или к ногаям. Позднее вернулся и, возглавляя отряд юртовских татар, с осени 1608 года служил Вору в Тушине, а потом в Калуге. В декабре 1610 года убил Вора в Калуге и снова бежал в Крым, где принимал активное участие в политической борьбе, в 1639 году казнен в Бахчисарае.
Зорбек / Александр оказался в Москве вместе с братом и в дальнейшем разделял его судьбу - крещен при Борисе, на 1606/1607 год - стольник, бежал с Петром из под Тулы, вернулся в Россию и служил Вору, снова бежал в Крым.
Иван / Тук попал в руки русских властей после освобождения Астрахани от воров (май 1614-го), позднее был крещен и вывезен в Москву, после 1616 года не упоминается.
Андан (Ондан) б. Хан б. Урус и его брат Бий также попали в руки русских властей в Астрахани после мая 1614-го и позднее были крещены, став стольниками князьями Борисом и Петром Кановичами Урусовыми. Оба участвовали в московском осадном сидении 1618 года. Борис умер в феврале 1618-го, Петр в 1628 году был взят за пристава за попытку сбежать в Крым, в 1629-м сослан в Вятку, где сидел в местной тюрьме.
Еще один племянник Джан-Арслана Касай б. Саты, также видимо попал в руки русских властей в Астрахани, вместе с дядей и двоюродными братьями, и также был крещен, став стольником князем Андреем Сатыевичем Урусовым. Участвовал в московском осадном сидении 1618 года, позднее упоминается как дворянин московский, умер в 1642/43 году. По жене, Марии Васильевне Тюменской, был в родстве с Шереметевыми. Имел сына Семена.
Семен Андреевич Урусов был женат на дочери боярина кн. Бориса Михайловича Лыкова Федосье (двоюродной сестре царя Михаила Федоровича) и благодаря этому браку сделал прекрасную карьеру - с 1637 года стольник, в 1641 - 1645 годах - кравчий, с марта 1655 года - боярин. Умер в 1657 году. Четверо его сыновей (Петр, Юрий, Никита и Федор) также стали боярами.
Петр Семенович (1636 - 1686), стольник с 1654 года, кравчий с 1658 года, боярин с 1676 года. Сыновья - Василий [стольник, умер в 1677-м] и Григорий.
Никита Семенович (1640 - 1691), стольник с 1654 года, боярин с 1679 года. Имел сыновей Ивана, Якова, Семена, Алексея и Федора. [От Алексея и Семена Никитичей пошли ветви последующих князей Урусовых].
Юрий Семенович, стольник с 1661 года, боярин с 1676 года, умер не ранее 1713-го.
Федор Семенович, стольник с 1661 года, с 1680 года боярин, умер в 1694-м. Был женат на Фекле Грущецкой, сестре первой супруги царя Федора Алексеевича.
Барангазыевы
скрытый текстСыновья бия Малой Ногайской Орды Баран-Гази б. Саид-Ахмеда б. Мухаммеда.
Каплан б. Баран-Гази выехал при Борисе Годунове и позднее крестился. В боярском списке 1606/07 года он князь Федор Барангазыев-мурзин сын Шидохметев. В Смуту он повсюду таскался с Петром Ураковым - был с ним в Тушине, Калуге и в Крыму. Позднее перебрался в Малые Ногаи, а от них - под Астрахань. В 1630/31 году Каплана / Федора взяли в плен астраханские служилые люди, он прошел обряд исправления веры, снова став князем Федором и даже успел жениться, но в 1633/34 году помер.
Зор б. Баран-Гази, младший брат Каплана, крестился в Астрахани в 1635/36 году, став князем Григорием. Позднее был написан по московскому списку, в 1640 году переведен в Москву и упоминается в боярских списках до 1649 года.
Исуповы
скрытый текстПроисхождение неизвестно (не путать с Юсуповыми и русскими дворянами Исуповыми).
В 1642/43 году в Москве известен некий Дементий Исупов.
В 1644 году в Астрахани пожелал креститься некий мурза Кантемир Сары Исупов.
Иштерековы
скрытый текстВнук бия Иштерека б. Дин-Ахмеда новокрещен князь Иван Магмет-мурзин сын Иштереков в 1634/35 или 1636/37 году перебрался в Москву из Астрахани и был записан стольником. В 1639 - 1640 годах в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, позднее возвращен в Моску, умер в 1643 году.
Тинмаметевы, Кейкуватовы, Егенеевы*, Байтерековы
скрытый текстПотомки сыновей бия Дин-Ахмеда - бия Дин-Мухаммеда (Тинмамета) и его младшего брата нурадина Большой Ногайской Орды Байтерека.
Когда начались выезды представителей этой семьи неизвестно, в русских документах они упоминаются под разными именами.
В 1625 году сына Дин-Мухаммеда Урака Тинмаметева русские власти обвинили в ссылках с Крымом и выслали с семьей из астраханских улусов в Кострому. Умер он около 1628 года. Перед смертью возможно крестился с именем Петр. Сын его Прокопий крестился в 1628 году, в боярских списках упоминается в 1652/53 - 1667/68 годах - как дворянин московский князь Прокопий Урак-мурзин сын Тинмаметев.
В 1644 году крещен еще один астраханский выходец, Кантемир-мурза Сары Исупов - в крещении князь Алексей Исупов Тинмаметев (на генеалогической схеме показан двоюродным племянником Прокопия Тинмаметева, внуком Исупа, брата Урака Тинмаметева).
В 1633/34 году в Астрахани крестился двоюродный брат Кантемира / Алексея Отманай (Атманай) Урус-мурзин сын Кейкуватов, внук кековата Джан-Мухаммеда (еще одного брата Урака Тинмаметева). В 1647 - 1656/57 годах упоминается как князь Петр Урус-мурзин сын Кейкуватов [т. е. здесь фамилию образовали от должности дедушки]. У него были сын Тихон (жилец на 1677/78 год) и внук Федор Тихонович (жилец на 1712 и 1713 годы).
В 1636 году в Астрахани крестился племянник Атманая / Петра, известный уже под христианским именем Иван. В 1640/41 году князь Иван Егенеев [здесь фамилию образовали уже от имени отца князя - Егинея / Едигея] перебрался в Москву, где писался уже дворянином московским князем Иваном Еней-мурзин сыном Кейкуватовым (!). У князя возможно был сын - костромской городовой дворянин кн. Петр Иванович Кейкуватов (Кокуватов).
В Россию выехали также потомки нурадина Байтерека б. Дин-Ахмеда - сыновья Гази, Али и Ак (с сыном Элем). На 1636/37 год все они значатся среди ярославских служилых мурз. Больше о них ничего не известно.
Сын указанного Али, Урак, в 1633 году крестился став князем Дмитрием Алеевым сыном Байтерековым.
В 1649 году крестились другой сын Али, Кантемир и его двоюродный брат, сын Гази, Шантемир, ставшие дворянами московскими князьями Григорием Алей-мурзиным сыном и Михаилом Казый-мурзиным сыном Байтерековыми соответственно. У Григория (умер в 1667 году) имелись сыновья Юрий (стряпчий, позднее стольник) и Яков (стольник на 1706 год). Сын последнего, Иван, при Петре был армейским обер-офицером.
* У автора в заголовке главки и оглавлении - Енеевы, в тексте и на схеме - Егенеевы.
Тинбаевы, Кинбаевы
скрытый текстПотомки нурадина Динбая (Тинбая) б. Исмаила.
В боярском списке 1606/07 года отмечен стольник князь Михаил Конай-мурзин сын Кинбаев. До крещения его вероятно звали Гази б. Канай б. Динбай б. Исмаил, т. е. он был внуком упомянутого нурадина. Этот же князь вероятно был героем упоминаемым «Новым летописцем» - отличившимся в «королевичев приход» и погибшим в 1619 году.
В 1629 году крестился некий Янмамет-мурза, вероятно другой внук Динбая - Ян (Джан) б. Абдулла б. Динбай, ставший князем Тимофеем Тинбаевым. Позднее он не упоминается, однако известен князь Тимофей Кинбаев, по предположению автора, это одно и тоже лицо.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Помимо этого известна еще пара Тинбаевых, степень родства которых с предыдущими неясна.
В 1669/70 году крестили присланного из Астрахани Алексея Шеим-мурзина сына Тинбаева (Тимбаева). На 1675 год - стольник.
В 1679/80 году отмечен некий Матвей Хан-Канбулатов Тинбаев-Мансуров.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Урмаметевы
скрытый текстПотомки бия Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда.
Первым представителем этого рода оказавшимся в России был вероятно сын Ураз-Мухаммеда Мустафа Уразмаметев, упоминающийся в 1618/19 году (больше о нем ничего не известно).
В 1623 году крестился внук Ураз-Мухаммеда Зорбек б. Арслан ставший стольником князем Василием Урмаметевым. Служил князь плохо, пил и морально разлагался, в 1628 году арестован за попытку бежать из России (возможно по ложному доносу уставших от его художеств дворовых людей), сослан в Чердынь (где сидел в тюрьме), в 1641/42 - 1643/44 - под началом в Кирилло-Белозерском монастыре, затем видимо прощен. В 1634 - 1648 годах в боярских списках писался уже дворянином московским. Умер в 1652/53 году. У него был сын Дмитрий (с 1641 года - стольник, упоминается до 1667 года).
Еще один внук Ураз-Мухаммеда, Токтамет (сын нурадина Кара Кель-Мухаммеда), в детстве был захвачен в плен калмыками, бежал от них в Уфу, здесь был похолоплен воеводой Иваном Чичериным и крещен с именем Яков. В 1628/29 году Токтамет / Яков подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства, был отобран у Чичерина и, после проведенного разбирательства, в 1630/31году сделался дворянином московским князем Яковом Кутмамет-мурзиным сыном Урмаметевым. Упоминается до 1640 года.
Третий внук Ураз-Мухаммеда дворнянин московский князь Куданат / Михаил Бий-мирзин сын (Шейдяков сын) Урмаметев упоминается в боярских списках в 1649/50 - 1667 годах. Он возможно был сыном Шейдяка (Саид-Ахмеда) Урмаметева, сидевшего в 1624 - 1637 годах в Астрахани на аманатском дворе (за временную откочевку в Крым).
Мамаевы
скрытый текстПотомки бия Малой Ногайской Орды Якшисаата б. Мамая б. Саид-Ахмеда б. Мусы.
Первым в России появился сын указанного Якшисаата. Его мусульманское имя и время выезда неизвестны (возможно выехал еще до Смуты). В 1618 - 1628 годах упоминается как дворянин московский князь Василий Якшатов (Якшисатов) Мамаев. В королевичев приход участвовал в московском осадном сидении, за что награжден переводом части ярославских поместий в вотчину.
Двоюродный брат Василия малолетний Султанбек / Иван б. Саин. Мамай до 1612 года был захвачен в плен астраханскими стрельцами и продан холмогорскому купцу Василию Исаеву (который его и крестил). В 1613 году Иван бежал из Астрахани в Москву (где ходил по приказам со своей историей, но официально челом не бил и ничего не добился), из столицы перебрался в Вологду (где кормился по монастырям), в 1619 году записался в стрельцы и лишь в 1633 году подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства. После разбирательства сделался дворянином московским князем Иваном Саиновым Мамаевым (в документах значился выезжим с 1633/34 года). Умер к 1659/60 году. Его сын Григорий (стольник в 1652 году) умер в 1660/61 году. В боярском списке 1712 года числится некий жилец Кирилл Иванович Мамаев, возможно еще один сын князя.
Токаевы (Тукеевы)
скрытый текстПроисхождение неизвестно.
В 1648 году юртовский мурза Кучук Токаев (Тукеев) крестился в Москве став князем Дмитрием. Иных сведений о нем нет.
Ураковы
скрытый текстПотомки Урака б. Алчагира б. Мусы, сына бия Ногайской Орды Алчагира и внука бия Ногайской Орды Мусы.
Известная генеалогия Ураковых вызывает большие сомнения. Известны две ветви рода - потомки основателя Малой Ногайской Орды (Казыева улуса) известного Газы (Казыя) б. Урака и его предполагаемого брата Рудака / Рудачека.
Правнук Газы б. Урака Сафарлей б. Али б. Караш (Хорошай) был взят в плен «за порогами» в 1659/60 году. Обменять на русских пленных мурзу не удалось и он сидел в тюрьме вплоть до крещения в 1670/71 году. После крещения стал дворянином московским князем Яковом Ураковым. В 1679 - 1691 годах - стольник, умер не позднее 1700 года. У него были сыновья Иван (жилец с 1702 года) и Петр.
У Газы б. Урака был будто бы брат по прозвищу Рудак /Рудачек (по цвету волос), попавший в русский плен в конце XVI века, живший в Уфе, крестившийся в 1590/91 году с именем Андрей Федорович (его сыновья использовали фамилию Рудаков) и поверстаный в некие «дворяне» (до 1619/20 года служил толмачом).
От этого Рудака / Андрея выводила свой род «уфимская» ветвь Ураковых. По мнению автора генеалогия этой ветви сфальсифицирована - видимо узнав о пожаловании в князья Сафарлея / Якова Уракова и вдохновившись историей Якова Урмаметева (тоже уфимца) Рудаковы решили и сами пролезть в князья и, в условиях неразберихи, связанной с массовой раздачей титулов новокрещеным ногаям, это им удалось.
У Рудака / Андрея Уракова имелось три, служивших по Уфе, сына - Андрей / Потеха (толмач), Антон и Иван.
У Андрея / Потехи были сыновья Василий и Андрей [так в тексте, на прилагаемой схеме Андрей не показан]. У Василия имелся сын Григорий, обзаведшийся обширным потомством (трое сыновей, шестеро внуков и четыре правнука), выше полковника, впрочем, не поднимавшимся. Известен также дворянин московский Дмитрий Васильевич Ураков - возможно еще один сын Василия.
У Андрея имелся сын Михаил, дослужившийся в 1720-е до поручика, сосланный в 1731 году за злоупотребления в Илимск и служивший там слободским приказчиком.
У Антона были сыновья Богдан, Василий, Семен и Михаил. У Богдана (убит во время башкирского восстания, не позднее 1664 года), были сын Федор (стольник, упоминается в 1691 - 1721 годах) и внук Степан Федорович (жилец на 1712 и 1713 годы).
Семен Антонович (вместе со своим сыном Иваном Семеновичем) в 1686 году подал челобитную о признании за этим родом княжеского достоинства «против стольника князя Якова Уракова». В 1689 году ее удовлетворили.
У Ивана Рудакова имелись сын и внук Василии и правнук Егор. У этого последнего имелось три сына - Михаил (дослужился до поручика), Афанасий (генерал-майор, в 1802 году подал прошение о признании за ним княжеского достоинства) и Василий (генерал-лейтенант).
Араслановы
скрытый текстДворянин московский Григорий Кузьмин Арасланов, из ярославских новокрещенов, отмечается в боярских книгах в 1658 - 1677 годах (без княжеского титула). Возможно ногайский выходец, однако известны и Араслановы из арских князей [татарские князья Вятской земли].
Ураевы
скрытый текстВ 1689 и 1691 годах в боярских книгах отмечен стольник Андрей Келмамаевич Ураев. Упоминается до 1721 года, в числе стольников новокрещеных с 1680 года. Предположительно ногайский выходец.
Материальное обеспечение
скрытый текст
Содержание ногайских мурз и князей складывалось из набора отдельных элементов, подбиравшихся индивидуально в каждом конкретном случае. При назначении содержания учитывался целый ряд факторов - политические соображения, статусное положение конкретного рода и лица, наличие семьи и слуг,
имевшиеся прецеденты, личные служебные заслуги и проч.
Поместный и денежный оклады
Поместный и денежный оклады ногайских выходцев документально фиксируются с конца XVI века, хотя возможно они в какой-то форме существовали и ранее. Размер оклада определялся «честностью» конкретного персонажа. Так, бОльшие оклады назначались детям и внукам биев, нурадинов и кековатов, отцы получали больше сыновей, старшие братья больше младших и т. п. Некоторые лица получали высокие оклады по политическим соображениям или усилиями высокопоставленной русской родни. Повышение окладов достигалось службой, до 1630-х годов существенно повысить их мог и переход в православие.
Максимальный размер окладов у ногаев доходил до 1300 четей и 200 рублей (у Чингисидов до 2000 четей и 200-250 рублей), некоторым исключением были лишь Юсуповы и Урусовы. На протяжении семнадцатого столетия, параллельно с падением значения ногайских выходцев, падал и размер их окладов, сокращаясь от поколения к поколению. Некоторым исключением и здесь были князья Юсуповы и Урусовы.
Денежный оклад в первой половине XVII веке обычно платился в половинном размере. Для получения второй половины требовалось прилагать отдельные усилия - подавать челобитные с объяснением зачем она понадобилась получателю (крещение, пожар, дворовое строение, свадьба, похороны и проч.). Некоторые ушлые ногаи, впрочем, исхитрялись получать полный оклад почти постояннно.
Автор приводит сведения об окладах отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году дали оклад в 1000 четей и 100 рублей.
Айдар Кутумов на 1584 год имел оклад в 70 рублей, Барай б. Али на 1619 год - 200 рублей (поместного не имел), позднее - 120 рублей. Ибердей / Тихон Бараев после крещения в 1629 году получил оклад в 1000 четей и 100 рублей. Его брат Сафаралей / Петр после крещения в 1646/47 году получил такой же оклад - «против брата». Каплан / Петр Касбулатов после крещения в 1688 году получил оклад в 400 четей и 25 рублей.
Эль Юсупов на 1584 год имел оклад в 250 рублей, его сын Сююш на 1613 год - 300 рублей (с придачей «за подмосковные службы», поместного оклада не имел), позднее - 250 руб.
Корел / Кореп Чин-мурзин сын в 1615/16 году был поверстан окладом в 500 четей и 40 рублей (к 1631 году поместный оклад вырос до 550 четей). Его сын Бий / Иван после крещения в 1639/40 году получил оклад в 1200 четей и 150 рублей.
Василию Никитичу в 1646 году дали новичный оклад в 500 четей и 30 рублей (уже в 1646/47 году видимо повышенный сразу до 800 четй и 47 руб., за черкасские службы и Конотопский бой 1658 - 1659 гг. князю прибавили 100 четей и 10 руб.). Брату Василия, Федору Никитичу, в 1646 году назначили новичный оклад в 500 четей и 25 рублей.
Никита Сююшевич на 1609/10 год имел оклад в 40 руб., на 1628/29 год его поместный оклад (с прибавкой за московское осадное сидение 1618 года) составлял 800 четей. Сын его, Василий Никитич, на 1658 - 1659 год имел оклад в 600 четей и 30 рублей (с прибавкой в 100 четей и 10 руб. за черкасские службы и Конотопский бой).
Алей и Каплан Тугановы дети Шейдяковы имели видимо оклад по 1050 четей и 120 рублей. Канай Еналеев - 850 четей и 80 рублей. Сафарлей Исламов на 1606/07 - 800 четей и 80 рублей.
Салтанай / Иван Меньшой Капланов на 1631 год год имел оклад в 600 четей и 40 рублей. Девлет Еналеев на 1631 год - 500 четей и 40 рублей.
Зорбек / Федор Шейдяков после крещения в 1621/22 году получил оклад в 700 четей и 70 рублей.
Келмамет / Артемий Теникеев имел оклад в 800 четей и 90 рублей, после крещения в 1621/22 году видимо повышенный до 1100 четей и 150 рублей.
Малоногайский Бек / Леонтий Шейдяков после крещения в 1619/20 году получил оклад в 1100 четей и 130 рублей. Брат его Дмитрий имел оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков после выезда в 1648/49-м был верстан окладом в 550 четей и 35 рублей, за литовскую службу 1654 - 1656 годов ему добавили 150 четей и 12 рублей (по другой версии, за службы 1658 - 1660 гг. прибавили 250 четей и 19 рублей, а за службы 1663 - 1665 гг. - еще 130 четей и 9 рублей, доведя оклад до 930 четей и 63 рублей).
Бегай Смайлев в 1613/14 году имел (с прибавками) оклад в 1200 четей и 100, 130 или 200 рублей. Его сын Дьян в том же году имел оклад в 900 четей и 80 рублей, а другой сын Сары / Лев на 1621/22 год - 600 четей и 40 рублей. После крещения в 1625/26 году его оклад повысили до 1000 четей и 100 рублей.
Андрей Сатыевич Урусов на 1615/16 год имел поместный оклад в 1500 четей, денежный (на 1618/19 год) - 200 рублей. На 1628/29 год - уже в 1000 четей и 200 рублей.
Семен Андреевич Урусов на 1637 год имел оклад в 1300 четей и 170 рублей (к 1655/56 году - уже 500 рублей).
Каплан / Федор Барангазыев на 1632/33 год имел оклад в 1000 четей и 100 рублей, а его младший брат Зор / Григорий на 1640/41 год - в 800 четей и 80 рублей.
Кантемир / Алексей Тинмаметев и его двоюродный брат Атманай / Петр Кейкуватов имели оклады в 600 четей и 60 рублей. Племянник Атманая / Петра Иван Егенеев в 1640/41 году - в 700 четей и 70 рублей.
Дмитрий Байтереков после крещения в 1632/33 году получил оклад в 800 четей и 80 рублей. Его брат Кантемир / Григорий и двоюродный брат Газы / Михаил после крещения в 1649 году получили по 550 четей и 35 рублей (за службы 1659 - 1661 годов обоим добавлено по 120 четей и 10 рублей).
Тимофей Тинбаев после крещения в 1628/29 году получил оклад в 600 четей и 60 рублей.
Василию Урмаметеву после крещения в 1622/23 году дали оклад в 1100 четей и 150 рублей. Яков Урмаметев в 1630 получил клад в 900 четей и 100 рублей. Михаил Шейдяков Урмаметев на 1649 год имел оклад в 550 четей и 35 рублей.
Ивану Саинову Мамаеву в 1633/34 году дали оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрию Токаеву после крещения в 1649 году дали оклад в 550 четей и 35 рублей.
Федор Богданов Ураков (из уфимской ветви) в 1685 году получил оклад в 550 четей и 25 рублей.
Реальное землевладение
Историю землевладения ногайских выходцев можно проследить лишь начиная с 1560-х годов.
С осени-зимы 1569 года они компактно испомещались в Романовском уезде, где Иван Грозный вероятно планировал создать некий ногайский вариант Касимовского царства. Затея эта провалилась и в дальнейшем ногаев селили и в других уездах (прежде всего - в Ярославском). Впрочем и позднее правительство видимо стремилось испомещать мурз / князей более менее компактно. Поместья им давались из дворцовых земель и по весьма щедрым нормам. Поместья бездетных выходцев передавались обычно новым ногайским выходцам. У крещеных ногаев к поместьям добавлялись обычно приданые вотчины их русских жен и за счет этого (а также обычной купли-продажи-мены вотчин) их землевладение постепенно «расползалось» по стране.
После Смуты нормы испомещения ногайских выходцев понижаются, обширные владения прежних выходцев постепенно раздробляются между наследниками и к концу XVII века землевладение ногайских выходцев уже практически ничем не отличается от общерусского.
В 1680 году оставшимся ногайским мурзам-мусульманам было предписано креститься. У отказывавшихся отписывали поместья, переводя в кормовые иноземцы.
В Романовском уезде ногайским мурзам в лучшие (для них) годы принадлежало возможно до 30 000 четей земли. По писцовой книге 1593 - 1594 годов среди местных помещиков значились Эль Юсупов (6186 четей, видимо вместе с землями его испомещенных казаков - 125 человек), Алей и Айдар Кутумовы (2940 и 2622 чети, тоже видимо с землями казаков), Афанасий Шейдяков (1635,5 чети).
Среди бывших помещиков уезда указаны Ибрагим б. Юсуп (2028,5 чети), Ак-Мухаммед б. Юнус (1558,5 чети), Сети-Мухаммед б. Ибрагим б. Юсуп (617 четей - возможно неполные данные), Бабаджан Уразлыев (1432,5 чети), Темир Уразлыев (1348 четей), Никита / Султан-Гази Кошумов (1613,5 чети), Мустафа Шейдяков (1060,5 чети) и др.
На 1627 год за Сююш-мурзой Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Барай-мурзой Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара).
Помимо Ростовского и Ярославского уездов известны земельные владения ногайских мурз в Дорогобужском (Бегай-мурза Смайлев), Переяславском (тот же Барай Кутумов - 1170 четей на 1627 год), Ростовском и Суздальском (тот же Бегай-мурза) уездах.
Владения крещеных ногайских выходцев отмечены в 45 уездах. Так, упомянутый Афанасий Шейдяков, помимо 1635,5 четей в Романовском уезде, имел поместья в Звенигородском (633 чети) и Зубцовском уездах и приданую вотчину жены в Новоторжском уезде.
За Иваном Келмамаевым Шейдяковым числились обширные подмосковные поместья - 1681 четь и 1253 копны сена (75 крестьянских и бобыльских дворов) в Сурожском стане и 406 четей и 240 копен (9 дворов) в Горетове.
За Иваном Канбаровым в Коломенском уезде числились 601 четь и 1775 копен сена.
Петр Урусов, вместе с данной ему в жены вдовой одного из братьев Шуйских, владел вероятно 4800 четями земли.
Михаил / Гази Канаев Тинбаев на 1617 год владел в Шацком уезде поместьем в 1098 четей (в пересчете на добрую землю - 881) и 450 копен (правда сильно запущенным / разоренным - 1057 четей в перелоге или заросло лесом). Позднее оно как выморочное перешло к Василию Урмаметеву, а в 1628 году было отписано у последнего за измену.
За Андреем Сатаевичем Урусовым в том же Шацком уезде на 1617 год числилось огромное поместье в 2226 четей (в пересчете на добрую землю - 1382), 2050 копен сена и 83 двора (тоже сильно запущенное - в перелоге и лесом поросло - 1719 четей).
Леонтий Салтанашевич Шейдяков после крещения в 1620 году получил поместья в Нижегородском уезде (669 четей в одном поле, 110 крестьян и бобылей).
В середине и второй половине XVII века значительные владения числятся только за Урусовыми и Юсуповыми. Так, на 1646 год Василий Никитич Юсупов владел в Новоторжском уезде вотчиной с 1048 дворами и 3755 крестьянами.
Никита Семенович Урусов владел вотчинами в Ростовском (не менее 142 дворов и 467 крестьян), Переяславском (92 двора, 226 крестьян), Пешехонском (50 дворов, 172 крестьянина) уездах, вотчиной и поместьем в Рязанском уезде, небольшой подмосковной вотчиной? (7 дворов, 24 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Веневском уезде. Его брат Петр Семенович - вотчиной в Переяславском уезде (133 двора, 446 крестьян), подмосковным поместьем / вотчиной (22 двора, 93 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Соловском уезде и т. д
Поденный корм и питье
Корм и питье давались неиспомещенным мурзам и князьям. После испомещения их выдача обычно прекращалась - за исключением случаев приобретения совсем небольших земельных владений (в таких случаях корм мог сохраняться, но размер его пересчитывался). Корм давался также лицам лишенным земельных владений, пленным и заключенным.
Размер корма определялся теми же соображениями, что и размер окладов - политическая целесообразность, статус конкретного лица и рода, прецеденты и проч. Как отмечает автор, в большинстве случаев сложно понять на какое число людей давался корм, что затрудняет и ранжирование получателей и определение реального размера дач на человека.
Как и в случае с окладами этот вид жалованья документально фиксируется с конца XVI века, однако вероятно существовал и ранее. До середины XVII века размеры дач возрастали, позднее наметилась тенденция к их уменьшению. Тем не менее, на протяжении всего семнадцатого столетия на поденном крме можно было существовать вполне комфортно и некоторые семьи ногайских выходцев предпочитали кормовое содержание испомещению (за что и поплатились уже в петровские времена).
При вступлении мурзы / князя в брак к его корму обычно добавляли 2-3 алтына - на корм жене. Вдова могла рассчитывать на половину корма супруга. Наибольший размер корма в XVII веке - 3 рубля в день. Столько (по не совсем понятным причинам) давали в 1642/43 году Льву Михайловичу Шейдякову (потомку мурзы Теникея) с женой и людьми.
Мурзам и князьям попавшим в опалу давали видимо лишь половину назначенного им корма. Так, отправленный в Кострому Урак Тинмаметев получал в 1626 году на себя семью и своих людей по 35 копеек в день (5 коп. - самому мурзе, трем его женам и падчерице - по 4, людям (7 человек) - по 2).
Содержащимся в тюрьме / пленным давали еще меньше, так плененному в 1617 году Беку Салтанашевичу Шейдякову полагалось по копейке на день.
Небольшим был и корм дававшийся новокрещенам бывшим в монастыре «под началом», так, в 1621/22 году бывшей жене Артемия Шейдякова Феодоре в Новодевичьем монастыре полагалось 6 копеек в день, ее людям - по 1,5 копейки.
Автор приводит сведения о корме отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году назначили корм в 50 копеек + 4 чарки вина и по ведру меда и пива в день.
У Касбулата Кутумова за отказ креститься в 1679/80 году отписали поместья, переведя кормовым иноземцем в Вологду и назначив корм в 30 копеек. Его сыновьям давали от 15 до 30 копеек в день.
Чину Юсупову в феврале 1596 года назначили месячный корм в 35 рублей, однако непонятно давался ли он лишь самому мурзе с семьей или же и всем его людям (одних мужчин 37 человек).
Его сын Корел / Кореп получал 10 рублей в месяц (33 коп. в день) плюс деньги в счет питья (4 чарки вина и по 2 кружки меда и пива в день). В 1616/17 году ему полагалось 30 коп. в день (15 - самому, 6 - жившей с ним матери и 9 - трем его людям) + питье.
Сын Корепа / Корела Иван Юсупов после крещения в 1639/40 году получал 60 или 84 копейки в день + питье (по 3 чарки вина, по кружке романеи и меда вишневого, 1/3 ведра меда паточного и 2/3 ведра меда цеженного из Дворца и по 4 чарки вина и по 1 1/3 ведра меда и и пива из Новой чети). Его людям давали по 3 коп. и чарке вина в день и (на всех) по 1 1/3 ведра пива. После опалы 1665/66 года, сопровождавшейся отпиской земель на государя, Иван жил на 30 руб. кормовых в месяц.
Федор / Зорбек Шейдяков в 1620/21 году до крещения получал 10 копеек в день (его люди - еще по три), после крещения - уже 25 или 30 копеек, 4 чарки вина, кружку или полведра меда и 2 кружки пива в день.
Девлет Шейдяков, будучи ярославским кормовым татарином, в 1626 году получал по 25 копеек в день. Его жене давали по 24 копейки (видимо по причине высокого статуса - она была дочерью сибирского хана Кучума).
Канай / Алексей Еналеев Шейдяков в 1647 году получал 25 копеек в день, а его сыновья новокрещены Василий и Никифор - по шесть.
Упомянутому Льву Шейдякову с семьей и людьми в 1642/43 году давали аж по 3 рубля в день.
Бегаю Смайлеву давали 21 копейку в день. Его сын Сары / Лев до крещения в 1625/26 году получал по 15 коп., после - 30 коп. [Так у автора, выше этот же персонаж упоминается как испомещенный еще до крещения, соответственно корм ему вроде бы не полагался].
Тук / Иван, Андрей Сатыев и Петр Канович Урусовы с сентября 1615 года получали по 15 копеек в день, а шестеро их людей - по три. С мая 1616 года новокрещеным князьям стали давать по 60 копеек, 4 чарки вина, ведру меда и пива в день, а их людям (4 человека) - по 3 копейки в день (+ 2 ведра пива на всех). Помимо этого каждому князю давался корм для трех лошадей и по возу дров в неделю и в общей сложности они получали 25,62 руб. в месяц. В июле и августе на корм добавили по 5 рублей и месячный размер его достиг 35 руб, а годовой 427,44 рублей.
Григорию Барангазыеву в 1640/41 году назначили корм в 25 копеек, однако давали только половину - остальное засчитывалось как доход от земельных владений его супруги Ульяны.
Федору Барангазыеву [видимо с 1630/31 года] давали 60 копеек, 4 чарки вина и полведра или ведро меда и ведро пива.
Ивану Егенееву Кейкуватову в 1640/41 году дали корм в 20 или 21 копейку, позднее повысив до 24 - 25.
Алексею Исупов Тинмаметеву давали 20 копеек, 4 чарки вина и 3 кружки меда в день [1644?].
Прокопию Уракову Тинмаметеву в 1665/66 - 19 копеек.
Дмитрий Алеев Байтереков после крещения в 1632/33 году получал 50 копеек, 3 чарки вина, 1/2 ведра меда 1/2 или ведро пива.
Тимофею Кинбаеву / Тинбаеву до крещения в 1628/29 году давали 6 копеек, после - 15 копеек, 4 чарки вина и по кружке меда и пива, позднее корм увеличили до 35 копеек.
Василию / Зорбеку Урмаметеву до крещения в 1623 году давали 10 копеек, после - 25 копеек, 4 чарки вина и по 1/2 ведра меда и пива. После женитьбы корм подняли до 50 копеек.
Токтамету / Якову Урмаметеву давали (видимо с 1630/31 года) 36 копеек, 4 чарки вина, кружку меда и 2 кружки пива.
Ивану Саинову Мамаеву давали [с 1633/34?] 30 копеек, 4 чарки вина кружку меда и 2 кружки пива, по другим данным - 25 копеек, вычитая ежегодно по 17,6 рублей [т. е примерно 20%] за земельное владение жены.
***
Помимо собственно корма неиспомещенным выходцам полагались также дачи на конский корм, дрова и свечи. Их часто засчитывали в общий размер поденного корма, однако иногда расписывали отдельно.
В известных случаях корм давался на 1, 2, 3 лошади (Льву Шейдякову в 1642/43 году давали даже на 10), обычный его размер в XVII веке составлял видимо 72 копейки в месяц и возможно давали его только полгода (с ноября по апрель). Дров обычно давали один воз на неделю (~ 20 копеек?), на свечи - по 1-2 копейки на день.
Разовые дачи
Ногайские выходцы получали также разнообразные разовые дачи - на приезд, за крещение, на дворовое строение, свадьбу, похороны и т. д.
Дачи на приезд существовали в XVI веке, в семнадцатом столетии их видимо давать перестали, однако когда именно неизвестно. Дачи давались добровольно выезжавшим на постоянное жительство, прибывавшим для участия в военных кампаниях или по другим делам и (как минимум в первой половине XVII века) романовским мурзам при отправлении на полковую службу или при возвращении с нее. Пленным и прочим насильно вывезенным она не полагалась.
О размерах дач можно судить по известным прецедентам.
Выехавшему в 1596 году Чину Юсупову, сыну Эль-мурзы дали шубу бархатную на соболях (50 рублей), кафтан камчат золотной (15 рублей), опашень зуфной (5 рублей), кубок серебряный весом в 4 гривенки и видимо еще что-то (запись испорчена). Что-то дали также бывшим с ним сыновьям, детям, женщинам и слугам. Взрослых мужчин (37 человек) поделили на три статьи, дав им по два отреза ткани (шелковой и шерстяной) и от 1 до 3 рублей деньгами.
Прибывшим в 1631/32 году для участия в польской войне Адилю Урмаметову (с 23 всадниками) и Яну Иштерекову (с 14 всадниками) дали по шубе камчатой на соболях (43,87 и 48,2 руб.), а первому еще и шапку лисью (6 рублей). Адиль, в свою очередь, ударил государю челом двумя конями - серым и саврасым.
Дача за крещение фактически состояла из двух или даже трех частей. Первая часть («за подначальство») состояла из креста и комплекта одежды и давалась посланным «под начало» в монастырь новокрещенам. Вторая давалась новокрещенам бывшим на приеме у государя («у руки») и включала разнообразные ценности. Царская аудиенция предполагала и последующее приглашение к царскому столу, вместо которого могли дать еще одну дачу - «в стола место» (см. ниже).
Дополнительной «наградой» за крещение видимо служил воспреемник, подбиравшийся из числа представителей верхушки двора или приказного аппарата. Так, крестным Василия Урмаметева в 1623 году стал окольничий С. В. Головин, Льва Бигеева Смайлева в 1625/26-м - окольничий кн. Д. И. Долгоруков, Тихона Бараева Кутумова в 1629 году - окольничий кн. Г. К. Волконский, Якова Урмаметева в 1628/29 году - думный дьяк Федор Лихачев и т. д. В худшем положении, соответственно, оказывались крестившиеся в Астрахани - их воспреемниками были представители тамошней верхушки.
Дача крещеному при Борисе Зорбеку / Александру Араслановичу Урусову (брату пресловутого Петра Урусова) долгое время была видимо верхним пределом подобных дач (столько же дали лишь один раз - Леонтию Шейдякову в 1628 году). Зорбек / Александр получил золоченый серебряный кубок (6 с лишним гривенок, 18,03 рубля), серебряные братину, ковш и стопку (всего почти на 15 рублей), камку бурскую на 17 рублей, 40 аршин камки адамашки четырех разных цветов, 40 аршин атласа четырех цветов, постав синего лундыша (20 рублей), 40 соболей (21 рубль), 2 опашня (один в 30 рублей), кафтан (20 рублей), бархата на 20 рублей и 100 рублей деньгами.
В 1639/40 году Ивану Кореповичу Юсупову дали еще больше - в общей сложности на 905 с лишним рублей. Кроме традиционных тканей, серебра, разнообразной одежды (включая атласную соболью шубу стоимостью почти в 84 рубля и два пристяжных воротника-ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом в 40 и 150 рублей) дача включала аргамака с конской упряжью (соответственно 60 и 91,54 рубля) и 150 рублей деньгами.
Прочие дачи были много скромнее - Сары / Льву Бигееву Смайлеву в 1625/26 году дали «за подначальство» серебряный крест и одежду (всего на 35 рублей), а «как был у государя» - еще на 90 рублей вещей и денег (серебряный кубок, ткани, 40 соболей и 20 рублей деньгами).
Федор / Зорбек Еналеев Шейдяков в 1621/22 году получил платья на 35 рублей, а «как был у государя» - соболей на 30 рублей и 30 рублей деньгами.
Крестившемуся в 1671/72 году белгородскому мурзе Сафарлею / Якову Туганову сыну Уракову дали всего 25 руб. на платье и соболей на 25 рублей. И т. д.
Дачи на крещение получали и женщины. Им давали одежду и деньги, к руке они видимо не допускались и дополнительной дачи за это не получали.
Дача «в стола место» полагалась всем побывавшим «у руки» (по случаю приезда, крещения, отбытия в полки и проч.) и не приглашенным позднее к царскому столу.
В 1637/38 году Сююшу Юсупову, посланному на полковую службу в Туле, дали из Дворца калач крупчатый в 1,5 лопатки; 1,5 кружки вина двойного, по кружке романеи и меда обарного, по половине кружки меда паточного и цеженного и ведро пива; а из Большого Прихода - гуся, утку, зайца, тетерева, барана, 4 курицы и 36 копеек деньгами (на мелкое).
В 1640/41 году посланным в полки ярославским поместным и кормовым мурзам Канаю и Девлету Еналеевым и Салтанаю, Хану и Бию Каплановым Шейдяковым дали по кружке двойного вина и романеи, по 1/2 ведра меда паточного и цеженного, ведру пива, гусю, утке, барану, по 2 курице и по 20 копеек.
На дворовое строение (как новое, так и послепожарное), крестины детей, похороны обычно давали половину годового денежного содержания, хотя имелись и исключения, так, в 1640/41 году Ивану Егенееву и Григорию Барангазыеву выдали на дворовое строение 70 и 80 рублей соответственно - «против их оклада».
Дачи на свадьбу давались как натурой, так и деньгами (последние считались видимо менее престижными), размер их зависел от статуса получателя. Так, Андрею Сатыевичу Урусову в 1617/18 году дали из Большого Дворца по 20 ведер пресного и паточного меда, 4 ведра романеи, 2 ведра алкану, по 6 ведер меду пресного [так в тексте] и меду вишневого, 12 ведер вина горячего и 20 четей солоду яичного. Дача Ивану Араслановичу Урусову была вдвое меньше.
Деньгами давали обычно 1/2 оклада, иногда треть оклада, иногда против оклада. Дачи на свадьбу могли получать и женщины.
Дачи на платье известны только для женщин (хотя у Чингисидов их получали и мужчины). В известных случаях давали по 10, 15 и 20 рублей (видимо ежегодно).
Службы и местничество
скрытый текст[Некрещеные мурзы несли в основном военную службу во главе / в рядах татарских формирований, гоударственных назначений не получая. Некоторым исключением был видимо Канбар-мурза / Канбар б. Момола в начале XVI века бывший в паре походов на литву воеводой передового полка (см. выше)].
Некоторые крещеные мурзы / князья во второй половине XVI века получали высокие назначения - полковыми и городовыми воеводами, наместникам и проч.
Иван / Ураз-Али Махметевич / Ахметевич Канбаров в 1560 - 1563 годах назначался первым воеводой сторожевого и передового полков на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1567 годах - второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву, в 1568 - 1569 годах первый воевода полка левой руки «на берегу». В 1570 году отправлен послом в Польшу (умер в дороге).
Иван Мовкошевич Тевекелев* в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года первый воевода передового полка в «немецком походе».
Петр Тутаевич Шейдяков в 1571 - 1572 годах первый воевода сторожевого и передового полков в государевых походах «на берегу» и против «свейских немцев». В зимнем государевом походе на Пайду 1572/73 года - второй воевода большого полка, в 1572/73 году псковский наместник. В государевом походе в Ливонию 1577 года - первый воевода полка правой руки.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1576/77 годах наместник и воевода в Юрьеве, оставаясь юрьевским наместником участвовал как первый воевода передового и большого полков в различных ливонских походах.
Позднее высоких полковых назначений ногайские выходцы почти не получали. Единственным исключением (если не считать Урусовых) был Михаил Канаевич Кинбаев (Тинбаев), в 1616 году посланный с полком воевать литву.
Отдельные ногайские выходцы в XVII веке назначались городовыми воеводами.
Лев Бигеевич Смайлев в 1633 году был воеводой в Ярославле.
Андрей Сатыевич Урусов в 1637 - 1638 годах был воеводой в Нижнем Новгороде.
Иван Корепович Юсупов в 1653 году был белозерским воеводой.
Михаил Федорович Шейдяков в 1685 году числился воеводой Козлова (фактически возглавлял масштабную военно-географическую экспедицию производившую изыскания для строительства новой засечной черты). В 1686 году - воевода в Соликамске.
Андрей Никитич Урусов - в 1697 году воевода в Вятке.
Отдельно следует выделить Семена Андреевича Урусова и его сыновей, получавших соответствующие назначения уже как часть русского правящего слоя.
Сам Семен Андреевич Урусов в 1641 - 1645 годах был кравчим, в 1645 - 1647 годах - воеводой в Новгороде, в 1655 году - боярин и воевода в Вильне.
Петр Семенович Урусов - кравчий с 1658 года, в 1670 году полковой воевода в походе против Разина, боярин с 1676 года.
Никита Семенович Урусов - воевода в Новгороде в 1677 году, воевода в Киеве в 1678 - 1679 годах, боярин с 1679 года, в 1681 - 1682 годах двинский воевода.
Юрий Семенович Урусов - боярин с 1676 года, в 1679 году воевода в Смоленске, в 1683 году возможно в Казани, судья Московского судного приказа в 1683 - 1685 и 1697 - 1699 годах.
Федор Семенович Урусов - с 1680 года боярин, в 1683 - 1684 годах воевода в Новгороде. Судья Пушкарского (1682, 1689 - 1693), Иноземного (1689 - 1694), Рейтарского (1689 - 1694) приказов.
Известно всего три случая местничества ногайских выходцев.
В 1564/65 году на Ивана Махметевича Канбарова, назначенного третьим воеводой большого полка бил челом 4-й воевода - князь Петр Иванович Татев (не взял списков, [ему видимо отказали])
Осенью 1567 года на того же Ивана Канбарова, назначенного уже вторым воеводой большого полка бил челом Андрей Иванович Шеин - второй в правой руке (тоже списков не взял, [исход дела неизвестен, сам поход не состоялся]).
В марте 1641 года на именинах царицы Евдокии Лукьяновны стольник кн. Иван Иванович Дашков бил челом на кравчего кн. Семена Андреевича Урусова - и был сурово наказан (бит кнутом и на неделю посажен в тюрьму).
Как отмечает автор, иски к Канбарову были видимо пробными шарами, для определения общего статуса ногайских выходцев. С Петром и Афанасием Шейдяковыми местничать не решались - их высокий статус был видимо очевиден. В XVII веке большинство ногайских выходцев уже не занимало позиций пригодных для местнических споров, а попытки проверять на «честность» возвысившуюся ветвь Урусовых были жестоко подавлены в зародыше.
* Сам автор здесь именует его Иваном Тевекелевичем Канбаровым. Одни и те же персонажи у него вообще в разных местах текста часто именуются по разному, что очень, очень раздражает.
Частная жизнь, религия и прочее
скрытый текст
Процедура выезда ногайского мурзы в XVI веке выстраивалась по примеру посольских церемоний - на подъезде его встречало специально делегированное лицо, затем с оответствующими церемониями, его доставляли в столицу, проводили прием у государя (причем последний видимо еще и корошевался с мурзой), затем обед и проч. Со временем процедуру максимально упростили (никакого корошевания, вместо обеда дача в стола место и т. д.).
О религиозной жизни мурз-мусульман в России мы почти ничего не знаем. Известно, что здесь жили мусульманские «попы», именовавшиеся в русских документах абызами (термин мулла употреблялся редко и почти исключительно в дипломатических документах). В Москве и, возможно, в других местах имелись вероятно и мечети / молельные дома.
Со временем ногайские мурзы стали все больше переходить в православие. На рубеже 1550 - 1560 годов крестились жившие в России Мансуры (неизвестно добровольно или нет), позднее занимавшие видное положение.
Вторая волна крещений случилась после бегства в 1570 году Ибрагима Юсупова со товарищи в Литву - крестилась часть Шейдяковых, Юсуповых и Кошумовых. Оставшиеся мусульманами Юсуповы и Кутумовы, впрочем, не понесли видимых статусных потерь, а среди новокрещенов этой волны лишь двое (Петр и Афанасий Шейдяковы) сделали заметную карьеру.
Следующая волна крещений случилась при Борисе - пресловутый Петр Урусов и проч.
После Смуты крещение стало обязательным условием выезда и мусульманами оставались лишь мурзы старого выезда и их потомки. Часть из них, впрочем, тоже крестилась - как под давлением властей, так и добровольно. В последнем случае крещению нередко способствовали конфликты с мусульманскими родственниками (Тихон Бараевич Кутумов, Федор Еналеевич Шейдяков).
На рубеже 1670 - 1680 годов оставшимся мурзам-мусульманам было предписано креститься под угрозой отписки поместий и большинство из них перешли в православие. Мусульманами осталась только часть Кутумовых, пошедшая ради этого на понижение своего статуса и ухудшение материального положения.
В целом, как видно, большинство ногайских выходцев крестилось вынужденно и ожидать от них христианского благочестия не приходилось. Бежавшие из России ногаи тут же забывали о крещении, судя по сохранившимся в архивах жалобам отнюдь не все оставшиеся вели христианский образ жизни, почти неизвестны монастырские вклады ногайских новокрещенов и т. д. Так, личными вкладами в монастыри отметились лишь Афанасий Шейдяков, Иван Корепович Юсупов, Иван Шейдяков и Дмитрий / Надыр Ханович Шейдяков. Леонтий / Бек Султанашевич Шейдяков в 1627 году возвел по обету церковь в своем нижегородском поместье.
Браки крещеных мурз из статусных семей (Шейдяковы, Юсуповы, Урусовы и проч.) устраивались видимо русскими властями и в жены им подбирали представительниц статусных же русских семей. Некрещенным мурзам из тех же родов, также видимо не без участия властей, устраивались браки со статусными мусульманками - представительницами Чингисидов и проч.
В XVII веке статус русских жен ногаев формально понизился - это были в основном дочери стольников и дворян московских из не самых громких фамилий. Однако, как отмечает автор, фактически это могло быть и не так, поскольку об их родственных связях по женской линии почти ничего не известно.
Менее «честные» ногайские выходцы, как мусульмане, так и крестившиеся, предпочитали в целом заключать браки с представительницами таких же семей других ногайских выходцев.
Как отмечает автор, никакой общей родовой солидарности Эдигеевичи в целом не демонстрировали, разделяясь на отдельные сообщества, друг к другу в общем равнодушные.
О частной жизни, быте и т. п. ногайских выходцев нам почти ничего не известно. Быт и домашняя обстановка крещеных выходцев видимо мало отличались от быта и обстановки русских служилых людей.
Крещеных Эдигеевичей хоронили видимо поблизости от места проживания / смерти или в некрополях родственников их русских жен. О захоронениях оставшихся мусульманами сведений почти нет - в Романове подобный некрополь неизвестен, неизвестны и захоронения Эдигеевичей в Касимове. В Москве их могли хоронить на татарском кладбище за Калужскими воротами. Тело умершего в 1561 году в Москве Юнуса б. Юсуфа отправили за казенный счет в Сарайчик, традиционное место погребения ордынских ханов и ногайских биев, однако других таких случаев не выявлено.
Ногайские вооруженные формирования
скрытый текст
Во второй половине XVI века ногайские отряды (в качестве наемников) регулярно участвовали в русских военных кампаниях. Численность их обычно была невелика. Так, в Полоцком походе 1563 года участвовали ногайский мурза? Бекчюра «с товарыщи 60 человек» (в ертауле) и мурза Тохтар (Тохтар б. Ураз-Али?) с 15 другими мурзами и 244 казаками (среди которых преобладали не ногаи, а некие «крымские выходцы» - возможно ногаи пришедшие из Крыма) в передовом полку. Наиболее значительный ногайский отряд явился на русскую службу в 1564 году - 20 мурз и голов и 1 653 казака.
Ногайские наемники получали корм для лошадей, относительно корма для них самих четких указаний в источниках не имеется. Основной наградой для ногаев был видимо захваченный в походе полон.
В XVII веке к военной службе регулярно привлекались ногаи жившие под Астраханью - юртовские татары (до 2 000 чел. максимум) и едисаны (максимум 900 чел.), с мурзами и табунными головами.
Среди ногаев живших непосредственно в России наиболее многочисленную группу составляли романовские. С. Немоевский в своих записках сообщает, со слов Эля Юсупова, что в 1560-х годах в Романовском уезде имелось до 700 ногайских казаков. Однако автор считает эту цифру завышенной - за самим Элем Юсуповым и Айдаром и Алеем Кутумовыми изначально числилось всего 225 казаков (соответственно 125, 50 и 50), еще 130 казаков бежало в Литву с Ибрагимом Юсуповым и другими четырьмя мурзами в 1570 году (т. е. всего 355) и вряд ли за прочими, менее значительными мурзами, могло иметься еще три с половиной сотни.
Ко времени Смуты в Романовском уезде, по сообщению все того же Немоевского, оставалось уже не более 300 ногаев, однако автор и эту цифру считает завышенной.
На 1577 год в поход выходило от 220 до 250 романовских татар. На 1616 год в списке романовских татар Посольского приказа числился 171 человек - 72 за Сююшем Юсуповым и 99 (делившихся на три статьи - 27,37 и 35 соответственно) за Бараем Кутумовым. Помимо этого, Юсупов и Кутумов выставляли со своих земель даточных (тоже видимо татар) - 15 и 25 человек соответственно (возможно учтены среди всех романовских татар). В уезде имелись также и некие «безмурзные» казаки.
В целом, насколько можно понять, после Смуты на службу должно было выходить примерно 200 романовских казаков - по сто юсуповских и кутумовских. Фактически, в силу разных причин, выходило меньше. Так, в 1620/21 году Барай Кутумов мог выставить лишь 59 человек своей половины (реально вышло на службу лишь 54 человека, из числа недостающих 15 казаков крестились и вышли из подчинения мурзы).
На 1626 и 1627 годы всего имелось 180 романовских казаков, при этом в Смоленскую войну на службу выходило 129 - 134 человека. На 1636 год имелось всего 159 юсуповских и кутумовских казаков, к 1679 году их число сократилось до 121 человека.
На службу в 1661 году выходило 86 романовских татар и новокрещенов (57 и 29 чел. соответственно) - возможно только половина. В 1663 году романовских мурз, новокрещенов и татар, вместе с ярославскими мурзами и новокрещенами на службе числилось 245 человек.
До испомещения романовские татары видимо получали корм в каком-то виде. После испомещения, помимо доходов с земли, они дополнительно получали денежное жалованье - 500 рублей в год на всех, из местных романовских же доходов. За сбор денег отвечали государев приказной человек (позднее воевода), 4 «лучших татарина» романовских мурз и целовальники (5-6 человек). Указанные «романовские доходы» включали, насколько можно понять*, сборы с посада самого Романова, уездных рыбных ловель, кабаков, таможен и перевозов. Помимо этого в зачет указанных 500 рублей шли положенные казне налоговые сборы с поместий самих мурз («данные и оброчные деньги»), т. е. фактически ногаям давали видимо не 500 рублей, а меньше.
Давший в 1606 году жалованную грамоте Элю Юсупову Самозванец этот зачет (доходивший, как выясняется, до 284 рублей) упразднил, однако и общую сумму выдачи из романовских доходов видимо понизил - до 300 рублей. Дополнительное жалованье давалось лишь выходящим на службу.
Михаил Федорович в жалованной грамоте 1613 года, данной уже Сююшу Юсупову, (приводится в приложениях) эти изменения, в целом, подтвердил.
[Согласно грамоте «данные» деньги с сел Сююша в зачет оклада не идут, а прочие (ямские, ямчужные, посоха и пр.) сборы не берутся. К романовским доходам идущим на жалованье самому Сююшу и его казакам отнесены ямские и кабацкие деньги, тамга, мыт, перевоз, наместничий белый корм и проч.].
Русских жителей уезда судил тот же государев приказной человек / воевода, на суде при этом присутствовали те же 4 «лучших татарина» (возможно для контроля за сбором судебных пошлин). Дела между ногаями и русскими разбирались в Посольском приказе. Самих ногаев вероятно судили их мурзы.
Испомещением казаков поначалу фактически руководили их мурзы, определявшие видимо и размер поместий (что открывало, естественно, широкие возможности для злоупотреблений). Кто занимался обработкой земель казаков неясно, возможно это были латыши - захваченные в литовских походах полонянники. В общей сложности на испомещение ногаев в уезде, согласно жалованной грамоте Федора Ивановича (1584 год) отводилось 10 356 четей земли - 4 912 (3589 пашни и 1323 перелога) четей самим мурзам и 5 444 (4161 + 1283) чети в раздачу их казакам.
В 1615/16 году романовских казаков вывели из подчинения мурзам, приказав испоместить и выдать им ввозные грамоты (аналогичные меры были приняты в отношении темниковских татар). В 1620/21 году татар половины Барая Кутумова вернули под начало мурзы (то же вероятно проделали и с татарами юсуповской половины).
На 1627 год за Сююшем Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Бараем Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара), за романовскими татарами (теоретически - 225) - чуть более 7439 четей.
После Смуты романовские казаки начали постепенно креститься. Крещеный казак выходил из подчинения мурзы - вместе со своим поместьем. Появляются также и «безместные» / кормовые казаки, получавшие от своих мурз не поместья, а корм - возможно как реакция на распространявшееся крещение.
На рубеже 1670 - 1680-х годов, как уже отмечалось, оставшимся помещикам-мусульманам Романовского уезда было предписано креститься - под угрозой отписки поместий. Отказывавшихся креститься переводили в кормовые иноземцы. Эта мера привела к окончательной ликвидации корпорации романовских татар.
Общая численность ногаев живших непосредственно в России и несших здесь военную службу, была, таким образом, невелика и заметной роли они не играли.
* Авторский текст, и так, в общем, своеобразный, в этом разделе особенно сложно понять.

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Великий посад Москвы: подлинная история Китай-города
Книга очень хорошая. Первая часть - общий очерк развития Китай-города, вторая - описание примерно 70 сохранившихся и несохранившихся каменных палат этой части Москвы. Масса иллюстраций, фото, планов, рисунков, цветная карта-вкладыш. Недостатки есть, но в целом, небольшие - слегка дефектная схема (см. ниже), знаменитый Андрей Щелкалов внезапно обозван боярином и т. п.
скрытый текстК северу от Никольской
Небольшой, но важный сегмент Китай-города, дворы которого тесно прижаты к крепостной стене. В XVI веке в начале Никольской улицы (за Ветошным рядом) существовал еще один Гостиный двор, в Греческом монастыре проживали ученые греки, а рядом с монастырем селились голландские купцы... Застройку ее нечетной строны образовывали Заиконоспасский и Николо-Греческий монастыри, несколько частных владений и ряд административно-производственных учреждений, к концу XVII столетия украшенных великолепными зданиями Печатного, Монетного [дворов] и Главной аптеки. У проезда к Троицким воротам Китай-города, от которых брала начало... Рождественка... стояла древняя церковь Троицы в Полях. Среди частных владений XVII века выделялся роскошный дворя князя Воротынского с трехэтажными каменными палатами.
От Никольской до Ильинки
Наиболее просторный сегмент Китай-города, центром которого является древний Богоявленский монастырь... Кроме него важную [градообразующую] роль играли линия богатых усадеб на четной стороне Никольской... и линия монастырских и митрополичьих подворий на нечетной стороне Ильинки... Несмотря на наличие ряда больших и богатых усадеб, мы обладаем незначительной информацией о ранней застройке этой части посада. Если взглянуть на самые крупные из владений XVII века, то оказывается, что подрядных записей на строительство не сохранилось, детальных описаний дворов нет либо они неизвестны...
Между Ильинкой и Варваркой
Уникальный характер района... определялся присутствием двух важнейших городских объектов - Гостиного и Посольского дворов. В кварталах за ними в XVII веке сосредоточилось множество богатых купеческих усадеб, застройка которых стала сменяться на каменную в средине столетия. Как и на северной стороне Ильинки, частные дворы чередовались с монастырскими подворьями... К началу XVIII века подавляющее большинство владений имели каменные дома, а некоторые... и второстепенные каменные постройки... Уцелели единственные купеческие палаты Казакова [ранее считались палатами Симона Ушакова], по большинству прочих объектов нет никакой графической информации. Странно представить, что на территории несостоявшегося заповедника теперь находится самая унылая часть Китай-города... что не снесено, то спрятано за воротами режимных кварталов.
К югу от Варварки
Этот обширный сектор [включал] небольшой комплекс... казенных построек на Москворецкой улице (Мытный двор и Таможня), в основном сохранившуюся линию из палат и храмов на четной стороне Варварки и польностью утраченное Зарядье... В центральной части Зарядья выделялись несколько богатых старых усадеб... На прилегающих склонах холма и в низине под стеною размещалось огромное количество мелких дворов, которые стали объединяться и застраиваться каменными домами лишь на рубеже XVII - XVIII вв...
История застройки южной стороны Варварки изучена достаточно полно, а по Зарядью мы располагаем лишь несколькими подрядными записями на строительство и данными натурных и археологических исследований, срочно проведенных перед сносом района, начатого в 1941 году и продолженного в 1960-е.
***
Помещенная в книге схема слегка дефектная (во втором издании вроде бы исправлено). Сбой в нумерации - №49 правильно обозначены палаты Покровского подворья на нынешнем Васильевском спуске и затем еще раз, неправильно, Мытный двор в Зарядье. Соответственно, начиная с Мытного двора к номеру на схеме надо прибавлять единицу (только к номерам 49-64).
Ниже исправленная схема и список, из телеграм-канала автора.
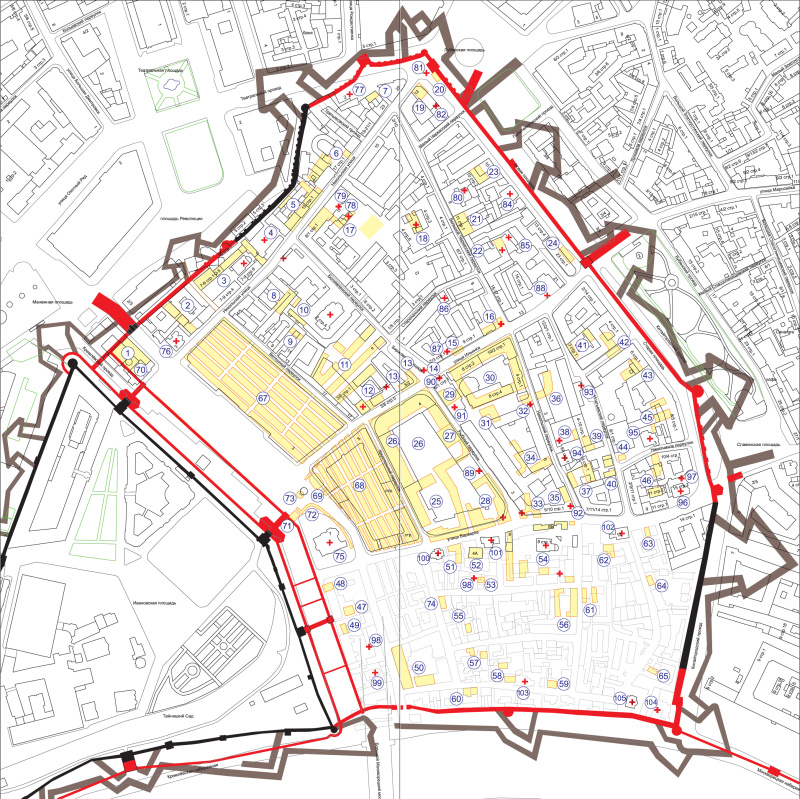
В адресном списке второго издания скорректирован адрес Вологодского подворья (№22). Было - Б. Черкасский переулок, 13. Стало - Б. Черкасский переулок, 15.
Адресный список каменных гражданских построек Китай-города конца XV — начала XVIII столетий
1.Земский приказ и Аптека. Красная площадь, 1.
1.1. Земский приказ. Начало 1660-х (?). Снесен к 1700 г.
1.2. Главная Аптека (Ратуша). 1701 – 1710. Снесена в 1874 г.
2. Монетный двор. Проезд Воскресенских ворот, 5, с. 2. 1696 – 1702 гг.
3. Заиконоспасский монастырь. Никольская, 7 – 9.
3.1. Школьная палата (Коллегиум). 1685 г. Снесен в 1819 г.
3.2. Братский корпус. До 1712, 1720 г.
3.3. Собор Спаса Нерукотворенного Образа. До 1564, 1660, перестроен в 1719 г.
4. Николо-Греческий монастырь. Никольская, 11.
4.1. Кельи. До 1695, 1718 г.
4.2. Собор Николая Чудотворца. XVIв., полностью перестроен в 1718 г. Снесен в 1930-е гг.
5. Печатный двор. Никольская, 15.
5.1. Большая (Книгохранительная) палата. До 1535, 1560-е, 1679 г.
5.2. Приказные и Школьные (Немецкие) палаты. 1642, 1645, 1657, 1683 г. Снесены в 1810 г.
6. Палаты Воротынского (Шереметева). Никольская, 17. До 1679, уличные флигели 1700-х гг. Снесены в 1779 г.
7. Палаты Хованских. Никольская, 23. XVII в.
8. Палаты Голицына (Хворостининых). Никольская, 4. До 1626 г., XVII в. Перестроены в 1876 г.
9. Палаты Казанского подворья. Ветошный переулок, 11. XVII в. Перестроены до 1874 г. Полностью снесены в 2022 г.
10. Богоявленский монастырь. Богоявленский проезд, 2/6.
10.1. Архиерейский корпус. XVIв., 1700 г.
10.2. Братский корпус. К. XVII в.
10.3. Собор Богоявления Господня. 1340 – 1342 г., трапезная XV в. Полностью перестроен в 1690-е гг.
10.4. Церковь Рождества Иоанна Предтечи над Святыми воротами. После 1672 г. Снесена в 1905 г.
11. Палаты Певческой слободы. Богоявленский переулок, 8. 1688 г. Снесены в 1860-е гг. и в 2022 г.
12. Новгородское подворье. Ильинка, 3 / 8.
12.1. Митрополичьи палаты и кельи. До1657, 1677 г. Снесены в 1860-е гг., сохранившаяся западная стена с 2003 г. на новом месте.
12.2. Палаты у ворот подворья. До 1626, 1670-е гг. Снесены в 1788 и 1999 гг.
12.3. Церковь Илии Пророка (что в Торгу). 1519 – 1520 гг., к. XVII в.
12.4. Церковь Никиты епископа Новгородского. 1580-е гг. Снесена в н. XVIII в.
13. Палаты Троицкого подворья. Ильинка, 5. До 1626 г. Снесены в 1790-х гг.
14. Иосифо-Волоцкое подворье. Биржевая площадь.
14.1. Кельи. До 1737 г. Снесены в 1782 г.
14.2. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 1566 г., пристройки XVII в. Снесена в 1782 и в 2017 гг.
15. Палаты Годунова-Шеина. Ильинка, 9. До 1626 г. Снесены в к. XVIII в.
16. Воскресенское подворье. Ильинка, 11.
16.1. Поварня до 1680, кельи 1712 г. Снесены в к. XVIII в.
16.2. Церковь Воскресения Христова (что в Панех). Ранее 1567, перестроенав 1690-е гг. Снесена не позже 1914 г.
17. Усадьба Салтыковых. Никольская, 8 / 1.
17.1. Палаты Салтыковых. Никольская, 8 / 1.XVII в. Снесены и перестроены в XIX в.
17.2. Постройки Каменного и Судного приказов. 1670-е гг. Снесены в 1701 г.
18. Палаты Одоевских. Б. Черкасский переулок, 4. 1680-е гг. Снесены после 1737 г.
19. Палаты Измайлова. Никольская, 12.1690-е (?), 2-я четв. XVIII в. Снесены в 1870 г.
20. Палаты при Владимирской церкви. Никольская, 14 (Лубянская площадь). К. XVII в.(?). Снесены в 1934 г.
21. Палаты Черкасского. Б. Черкасский переулок, 11. XVII в. Снесены или перестроены в XIX в.
22. Вологодское подворье. Б. Черкасский переулок, 15.
22.1. Кельи. До 1666 г. Снесены или перестроены после 1764 г.
22.2. Церковь Стефана Пермского. До 1690 г. Снесена после 1764 г.
23. Палаты Мышецкого. Новая площадь, 10. До 1676 г. Снесены не позже 1882 г.
24. Палаты Соковнина. Ильинка, 23. 1720 г. Снесены не позже 1909 г.
25. Старый Гостиный двор. Варварка, 3.
25.1. Купецкая палата. До 1626 г. Снесена в к. XVIII в.
25.2. Ворота, амбары и лавки. 1638 – 1643 гг. Снесены в к. XVIII в.
26. Новый Гостиный двор. Ильинка, 4.1661 – 1665, 1673 г. Снесен в к. XVIII в.
27. Палаты Шляковского (Сибирский приказ). Рыбный переулок, 2. Ок. 1645 г. Снесены в к. XVIII в.
28. Ростовское подворье. Варварка, 3.
28.1. Архиерейские палаты и кельи. 1670-е, 1699 г. Снесены в н. XIX в.
28.2. Церковь Леонтия Ростовского. XVII в. Снесена в н. XIX в.
29. Греческий двор. Рыбный переулок, 6 / 1.1672 г. Снесен в XIX в.
30. Посольский двор. Ильинка, 8 – 10. До 1626, 1673 г. Снесен в к. XVIII в.
31. Палаты Панкратьева. Рыбный переулок, 3. XVII в. Снесены в 1830-е гг.
32. Иверское подворье. Никольский переулок, 6.
32.1. Кельи (бывшие палаты Назария Чистого). До 1648 г. Снесены в 1761 г.
32.2. Церковь Пресвятой Богородицы Иверской. 1655 г. Снесена в 1761 г.
33. Прилуцкое подворье. Варварка, 5.
33.1. Кельи. До 1722 г. Снесеныв 1780-е гг.
33.2. Церковь Иоанна Предтечи (на Пяти Углах). До 1626 г. Снесена в 1780-е гг.
34. Палаты Твердиковых. Никольский переулок, 6. До 1660 г. Снесены до 1870 г.
35. Палаты Булгаковых. Никольский переулок, 10. До 1630 г. Снесены или перестроены в XIX в.
36. Палаты Юдиных. Никольский переулок, 3. До 1626, сер. XVIIв., 1667 г. Снесены в 1960-х или ранее.
37. Палаты Шустова (Кантемира). Никольский переулок, 9, с. 1. Палаты во дворе, по улице и каменная конюшня. До 1686, 1711 г. Снесены к н. ХХ в.
38. Пафнутие-Боровское подворье. Никольский переулок, 7.
38.1. Кельи. 1680-е гг. В 1968 г. перемещены во двор дома 12 в Ипатьевском переулке.
38.2. Церковь Пафнутия преподобного.1640, 1686 г. Снесена в н. XIX в.
39. Палаты Патрикеевых (Соловецкое подворье). Ипатьевский переулок, 10. До 1647 г. Снесены в 1960-х или ранее.
40. Палаты Казакова. Ипатьевский переулок,12. Палаты и флигель 3-й четв. XVII в.
41. Ипатьевское подворье. Ипатьевский переулок, 3. До 1595 г. Снесено или перестроено в XIX в.
42. Палаты Филатьева. Ипатьевский переулок, 5. XVII в. Снесены в н. ХХ в. или ранее.
43. Палаты Строганова. Старая площадь, 6. До 1669 г. Снесены ранее ХХ в.
44. Палаты Сибирских царевичей. Ипатьевский переулок, 9. XVII в. Снесены в к. XVIII в. и в 1964 г.
45. Палаты Никитникова. Старая площадь,8 / 5. Палаты и флигель, до 1651 г. Снесены в н. ХХ в. или ранее.
46. Палаты Шорина. Никитников переулок,10 / 4. До 1657 г. Снесены в XIX в.
47. Таможня (Старая Тиунская палата). Васильевский спуск. До ср. XVII в., 1680 г. Снесена в XIX в.
48. Новая Тиунская палата (Берг-коллегия).Васильевский спуск. 1691 г., н. XVIII в. Снесена в 1798 г.
49. Палаты Покровского подворья. Васильевский спуск. 1683 г. Снесено в XIX в.
50. Мытный двор. Угол Москворецкой улицы и Мокринского переулка. XVIIв., после 1712 г. Снесен в 1941 г.
51. Денежный (Купецкий) двор. Варварка,между домами 2 и 4. XVI в. Снесен в 1950-е или ранее.
52. Старый Английский двор (палаты Бобрищева). Варварка, 4. К. XV — н. XVI вв., 1571, 1630-е гг.
53. Благовещенское подворье. Елецкий переулок, 5 / 6.
53.1. Кельи. 1678, 1702 г. Снесены в 1790 и в 1956 г.
53.2. Церковь Жен Мироносиц (Благовещения Пресвятой Богородицы). 1566, 1678 – 1680 гг. Снесена к 1790 г.
54. Романов двор и Знаменский монастырь. Варварка, 8 – 10.
54.1. Нижние палаты Романовых. XVIв.,после 1668 г. Снесены в 1769 г. или позже.
54.2. Верхние палаты Романовых. Конец XV — начало XVI в., 1674 г.
54.3. Братский корпус Знаменского монастыря. 1676 г.
54.4. Прочие постройки: сушильня (до1658, снесена в 1783 г.); кельи «позадиигуменских» (до 1676, 1684 г. , снесены в XIX в.); кельи на углу Псковскогои Знаменского переулков (1686, снесены в 1783 г.); кельи по сторонам Святых ворот (1680-е гг., снесены с 1780-х по н. XIX в.).
54.5. Собор Иконы Божией Матери Знамения. 1679 – 1684 гг. (на месте церкви Афанасия Афонского 1630 г.).
54.6. Церковь Благовещения ПресвятойБогородицы (Знамения Божией Матери на Романовом дворе). Ранее 1615 г. Снесена в к. XVIII в.
55. Палаты Орефьевых. Кривой переулок,3 (?). До 1686 г. Снесены в 1941 г. или ранее.
56. Палаты Вяземского. Елецкий (Б. Знаменский) переулок, 10 / 4. До 1712 г. Снесены в XIX в.
57. Палаты в усадьбе Климова, по улице и во дворе. Ершов переулок, 2 / 13. 1-я пол. XVIII в. Снесены в 1941 г.
58. Палаты Сулешова и Кравкова. Мокринский переулок, 7. Палаты во дворе (Сулешова). XVI в. Снесены в н. XVII в. Палаты по улице (Кравкова). 1701 г. Снесены в 1941 г.
59. Палаты Гавренева (Белгородское подворье). Мокринский переулок, 11. До 1676 г. Снесены в XIX в.
60. Палаты в доме Федотова. Мокринскийпереулок, 10. Конец XVII в. Снесены в 1941 г.
61. Палаты Горохова. Псковский переулок,5 (?). XVII в., 1714 г. Снесены в XIX в.
62. Палаты Коровинского. Кривой переулок,4. До 1657 г. Снесены в XIX в.
63. Смоленское подворье. Варварка, 14, угол Кривого переулка. Ранее 1739 г. Снесено в XIX в.
64. Вознесенское подворье. Кривой переулок, 3. 1726 г. Снесено ок. 1760 г.
65. Палаты Еремеева. Кривой переулок, 11. Н. XVIII в. Снесены в 1960-х.
66. Палата на Канцелярском дворе. Без точного адреса. XVIIв., н. XVIII в. Снесена после 1758 г.
67. Верхние торговые ряды. 1595 – 1599 гг. XVII – XVIII вв. Снесены в 1888 г.
68. Средние торговые ряды. 1595 – 1599 гг. XVII – XVIII вв. Снесены в 1893 г.
69. Спасский раскат. 1636 г. Снесен в 1786 г.
70. Никольский раскат. 1688 г. Снесен в к. XVII в.
71. Кофейная палата (библиотека Киприанова). 1705 г. Снесена в н. XIX в.
72. Лавки у Покровского собора XVII –XVIII вв. Снесены в XIX в.
73. Исходное положение Лобного места.1599 г. Перемещено в 1786 г.
74. Каменные харчевни за Нижними рядами. До 1712 г. Снесены в к. XVIII в.
75. Собор Покрова Пресвятой Богородицы,что на Рву. 1555 – 1561 гг., пристройки 1588 г.,XVII в.
76. Собор иконы Божией Матери Казанскаяна Красной площади. 1635 г. Снесен в 1936, воссоздан в 1990–1993 гг.
77. Церковь Троицы Живоначальной, что в Полях. 1565 г. Снесена в 1934 г.
78. Успения Пресвятой Богородицы на Никольском Крестце. 1647, 1691 г. Северный придел (церковь Спаса Нерукотворного) снесен в 1768 г.
79. Жен Мироносиц на Никольском Крестце. 1647 г. Снесена в 1808 г.
80. Знамения Пресвятой Богородицы в доме князей Одоевских. 1690 г. Снесена в 1737 г.
81. Иконы Божией Матери Владимирскаяу Владимирских ворот. 1691 – 1694 гг. Снесена в 1934 г.
82. Макария Желтоводского на Калязинском подворье. 1692 г. Снесена после 1778 г.
83. Знамения Пресвятой Богородицы в доме князей Черкасских. 1708 г. Снесена после 1788 г.
84. Иоанна Богослова, что под Вязом. До1626, 1658 г., полностью перестроена после 1825 г.
85. Армянская церковь на дворе Б. Шабалова. 1740 г. Снесена после 1742 г.
86. Космы и Дамиана Римских, что в СтарыхПанех. После 1564, с приделом 1631, полностью перестроена в 1803 г. Северный придел Иоанна Златоуста 1641 г.
87. Воскресения Христова на дворе Шеина. Ранее 1723 г. (XVI в.?). Снесена в 1737 г.
88. Николая Чудотворца Большой Крест.1680 – 1688, северный придел ранее 1626 , 1697 г. Снесена в 1934 г.
89. Введения Пресвятой Богородицы воХрам Златоверхая. 1514 г. Снесена в 1790 г.
90. Дмитрия Солунского на Посольском дворе. Между 1564 и 1626. Снесена в 1790 г.
91. Параскевы Пятницы у Гостиного двора.Не позже 1696 г. Снесена в 1865 г.
92. Воскресения Христова в Булгакове. Ранее 1626 г. Снесена в 1791 г.
93. Ипатия, епископа Гангрского. 1652 г. Полностью перестроена в 1755, снесена в 1966 г.
94. Николая Чудотворца Красный Звон. Ранее 1561 г., колокольня 1691 г. Полностью перестроена в 1854 г.
95. Троицы Живоначальной, что в Никитниках. 1630-е гг.
96. Рождества Иоанна Предтечи на Варварке. XVIIв., полностью перестроена в 1741 г.
97. Дмитрия Солунского на Золотой Фабрике. 1711 г. Снесена в 1835 г.
98. Спаса Смоленского. Начало XVI в. Снесена в к. XVIII в.
99. Николая Чудотворца Москворецкого.1651, полностью перестроена в 1832 г. Снесена в 1936 г.
100. Варвары Великомученицы на Варварке.1514 г., перестроена в 1796 – 1804 гг.
101. Максима Блаженного на Варварке. 1568, полностью перестроена в 1698 г.
102. Георгия Победоносца, что на Псковской горе. XV в. (?), 1658 г.
103. Николая Чудотворца Мокрого. Середина XVII в., полностью перестроена в 1695 – 1697 гг. Снесена в 1941 г.
104. Николая Чудотворца (Ирины Мученицы) в Углу. 1629 г. Снесена в 1781 г.
105. Анны Праведной Зачатия, что в Углу.

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Мы же обратимся к относительно ранней истории места, когда деревянная застройка домовладений постепенно сменялась капитальной, каменной. На Великом посаде этот процесс начинается почти одновременно с Кремлем, на рубеже XV - XVI веков, а ближе к концу XVII века каменным здесь становится не только подавляющее большинство жилых домов, но и отдельные надворные постройки.
Такая картина не очень соответствует принятому стереотипу: когда мы говорим о допетровской Москве, то представляем себе деревянный город, среди избушек которого кое-где поднимаются каменные палаты, стоящие в глубине просторных домовладений. Это справедливо для Китай-города начала и для Белого города конца XVII столетия. Но к 1690-м годам Китай-город настолько плотно застраивается кирпичными зданиями, что они начинают формировать красные линии, а на Певческой улице даже образуют сплошной фронт с арочными проездами во дворы.
EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Привилегированные купеческие корпорации России, XVI - первой четверти XVIII в. Том I.
Предполагалось приобрести недописанный второй том (чего не случилось - см. историю с научным издательством) поэтому перечитал первый. Работа чрезвычайно полезная, автор проделала колоссальный труд, выявив персональный состав корпораций гостей и гостиной сотни и собрав массу сведений о конкретных семействах и лицах, часть из которых приводится в тексте.
Есть небольшие дефекты в табличках, графиках и тексте. Используемые временные интервалы также выглядят неоптимальными - в случае с гостями механически разделяются, скажем, царствования Бориса, Алексей Михайловича и Петра, а с гостиной сотней - Алексея Михайловича, что сказывается и на статистических данных.
скрытый текстГости
скрытый текст
XVI век
Точное время образования корпорации гостей неизвестно, однако первые жалованные грамоты, выделившие их из состава торгового населения посада, были определенно даны в царствование Ивана Грозного - об этом упоминает последующее челобитье самих гостей (1648 год). Первую жалованную грамоту гости получили вероятно при Елене Глинской (1535 год?). Позднее, в 1540-х годах, она могла быть подтверждена или дана снова, уже более широкому кругу лиц - не только московским гостям, но и гостям из других городов. В статье о наказаниях за бесчестье Судебника 1550 года «гости большие» и их жены уже фигурируют в качестве особой группы.
Основу новосозданной корпорации составили вероятно наиболее видные купцы торговавшие с Востоком (сурожане) и Западом (суконники). Известно, что уже в XV веке из числа сурожан выделились наиболее видные торговцы, связанные с поставками восточных товаров великокняжескому двору. Позднее их связи с двором закрепились выполнением различных поручений великого князя. Видные сурожане стали использоваться и в качестве советников, хорошо знавших обстановку на Востоке. Уже при Иване III подобные лица именовались «гостями великого князя». Вероятно таким же образом развивались отношения двора и с суконниками.
Те же видные сурожане и суконники одновременно составляли круг наиболее влиятельных лиц посада, занимая разнообразные выборные должности и, в этом качестве, выступая в роли исполнителей правительственных поручений посадскому населению. Местом жительства их была не только Москва, но и другие крупные торговые центры (Новгород, Псков, Коломна, Муром, Тверь, Вологда и пр.). В целом, как считает автор, официальное выделение гостей в особую сословную категорию фактически лишь закрепило уже сложившееся положение.
Персональный состав корпорации в XVI веке устанавливается с большим трудом - точных сведений в источниках сохранилось очень мало. К тому же, гостями в просторечии и даже в официальных документах еще очень долго (как минимум до 1570-х годов) по привычке называли не только членов соответствующей корпорации, но и просто крупных купцов.
Автор выявила 70 человек получивших чин гостя в XVI веке (включая трех человек имевших его предположительно) и представлявших 51 фамилию.
Помимо столицы гости жили в Новгороде (Корюковы, Сырковы, Таракановы, Ямские), Пскове (Алексей Сем. Хозин, Иголкины), Коломне (Сухобоковы, Петровы), Вологде (Яков Аникеев), Ярославле (Никита Никитников), Казани (Иван Шухнов), Сольвычегодске (Аника Строганов), в Поморье.
Гости играли довольно заметную роль в жизни страны. Так, в Земском соборе 1566 года, обсуждавшем вопрос о перемирии с Литвой, участвовало 12 гостей (видимо только московских). В Земском соборе 1598 года, избравшем Бориса на царство, участвовал уже 21 гость (тоже видимо одни москвичи).
Гость Федор Ногай (по прозвищу Голубь) в 1586 году возглавил московских торговых людей выступивших вместе с Шуйскими против Годунова, за что в 1587 году лишился головы.
Московский гость Алексей Алексеевич Хозников в 1567 году ведал таможней в Нижнем Новгороде, в 1569-м был послан с подарками (100 пушек, 300 пищалей) к персидскому шаху. Его двоюродный брат, псковский гость Алексей Семенович Хозин, в 1593/94 году руководил Псковским денежным двором.
Московский гость Степан Твердиков в 1567/68 году ездил по поручению Ивана Грозного в Англию - для закупки драгоценных камней и проч.
Гость Трифон Коробейников в 1582 и 1593 годах совершил по поручению правительства два больших путешествия на христианский Восток, доставив денежные подарки местным православным иерархам и оставив известное литературное описание своей первой поездки.
Псковский гость Юрий Афанасьевич Иголкин в 1599 году по поручению Годунова вел переговоры с рижанами о переходе в русское подданство. И т. д.
Не менее четырех гостей было казнено - трое при Иване Грозном и один - при Федоре Ивановиче (см. выше).
Процесс оформления корпорации гостей в качестве особой сословной группы, по мнению автора, в целом завершился на рубеже 1580 - 1590-х годов. Федор Иванович подтвердил жалованную грамоту корпорации гостей.
Борис Годунов видимо не питал большого доверия к корпорации, представители которой были тесно связаны с его политическими противниками (см. Федор Ногай), хотя и пытался укрепить свои позиции среди гостей за счет активного пополнения корпорации новыми, лояльными к нему, членами. [Судя по приводимым автором табличкам непосредственно в царствование Бориса чин гостя могло получить до 26 человек]. Жалованную грамоту корпорации Борис подтвердить не захотел. Политика его в целом также вряд ли могла обеспечить царю симпатии крупного купечества - Борис покровительствовал иноземным купцам, в годы голода принимал меры по ограничению спекуляции хлебом (в текстах указов против спекуляции в качестве возможных злодеев прямо указывались московские и иногородние гости) и т. д.
Первая половина XVII века
Автор, надо сказать, механически разделила шестнадцатое и семнадцатое столетия, отчего царствование Бориса и связанная с ним статистика попали и туда и сюда.
О царствовании Бориса в целом см. выше. В первые годы XVII века отношение царя к гостям видимо еще ухудшилось - корпорация почти перестала пополняться, чин гостя в 1601 - 1604 годах получило всего 5 человек, все иногородние (двое новгородцев, двое псковичей и один костромитянин).
Самозванец в отношении гостей ничем себя проявить не успел, а отношение самих гостей к нему было видимо весьма разнообразным. Часть московских «торговых людей», включая, вероятно, и гостей, участвовала в обоих заговорах Шуйского против Самозванца.
При Василии Шуйском отношение правительства к гостям резко улучшилось. Новый царь издавна имел тесные связи с московскими «торговыми мужиками». Вскоре после воцарения он подтвердил жалованную грамоту корпорации гостей. Возобновился процесс пополнения корпорации новыми членами. Всего за время царствования Василия Шуйского чин гостя получило 20 человек, включая сразу четырех Строгановых (Андрей и Петр Семеновичи, Никита Григорьевич и Максим Яковлевич). Один из новоявленных гостей, Михаил Степанович Смывалов был даже назначен на должность казначея, что видимо вызвало недовольство боярства - позднее этот факт упоминался как негативный прецедент.
Многие гости, в свою очередь, активно поддерживали правительство Шуйского. Так, Строгановы только в марте - июле 1608 года передали ему не менее 5 - 6 тыс. рублей, а в октябре и декабре того же года отправили в Москву два отряда ратных людей, снаряженных за собственный счет. Псковские гости (всего 7 человек) неизменно поддерживали правительство, за что двое из них (Семен Великий и Емельян Титов) в 1608 - 1609 годах подверглись арестам и пыткам, а еще один, упоминавшийся Алексей Хозин, в 1610 году был убит.
Вяземский (позднее московский) гость Григорий Шорин ездил в Смоленск и осведомлял тамошнего воеводу М. Шеина об обстановке в стране и т. д.
После падения царя Василия и до воцарения Михаила новых пожалований в чин гостя не производилось. Всего в 1600 - 1612 годах в стране теоретически имелось не менее 41 гостя (16 получивших чин в XVI веке, 5 пожалованных в последние годы правления Бориса и 20 - при царе Василии).
К 1613 году численность корпорации существенно сократилась - автору удалось выявить не более 21 ее члена. Сокращение произошло частью из-за естественных причин, частью из-за прочих - двое гостей (М. С. Булгаков и К. Скробовицкий) сделались дьяками, Строгановы, получившие звание именитых людей, также фактически выбыли из корпорации, некоторые ее члены погибли (А. Хозин).
После разорения столицы в 1611 году всякая хозяйственная деятельность в ней прекратилась, уцелевшие торговые люди, включая гостей, перебрались в другие города. Уехавшие осели в Ярославле, Костроме, Вологде, Нижнем Новгороде, Казани и других городах.
Правительство Михаила Федоровича почти сразу же начало принимать меры по восстановлению столицы и купеческих корпораций. Так, в начале 1613 года, еще до приезда новоизбранного царя в столицу, состоялся приговор Боярской думы потребовавший чтобы «гости, и торговые, и всякие жилецкие люди москвичи», что «в московское разоренье разбежались с Москвы по городам» ехали «с женами и с детьми и со всеми животы» жить обратно в столицу.
Начали производиться и новые пожалования, при этом теперь от получивших чин гостя иногородних требовали переезда в Москву. Поначалу это требование было довольно категоричным - городовым воеводам предписывалось собирать по пожалованным поручные записи, отсрочки давались на короткие сроки и т. д. Тем не менее, гости перебирались в Москву неохотно. Часть разными способами саботировала переезд, другие, обзаведясь формально дворами в столице, продолжали фактически жить по городам. Полного сосредоточения гостей в Москве в итоге добиться так и не удалось. Со временем, после восстановления хозяйственной жизни в столице, правительство перестало настаивать на переезде гостей. Оставшихся в провинции гостей передали из ведения Казенного приказа в ведение четвертей и местных воевод. В приказной практике они именовались «новгородскими», «псковскими», «вологодскими», «костромскими» и прочими гостями.
В 1613 - 1615 годах чин гостя получило не менее 11 человек, а в 1613 - 1630 годах - не менее 31 человека. Почти половину пожалованных составляли посадские люди - 14 человек (к ним можно добавить также близкого по статусу закладчика Ярославского Спасского монастыря). По пять человек из них представляли Москву и Ярославль, двое - Калугу и по одному - Новгород и Вязьму.
Предпочтение явно отдавалось отличившимся в освободительной борьбе. Так, новгородец Иван Харламов, как отмечалось в жалованной грамоте, «будучи у свейских немец... в Колывани... как свейский Густав Адольф король пошол... подо Псков... про королевский поход и сколько с ним ратных людей писал во Псков ко псковским гостем, и людей своих во Псков с теми вестьми посылал». Ярославцы Григорий Никитников, Василий и Третьяк Лыткины показали себя твердыми противниками воров, содействовали организации местных ополчений, финансировали Второе ополчение (Никитников внес 500 руб., Лыткины - 350) и т. д.
Другую половину пожалованных составляли члены семей прежних гостей - сыновья, внуки, братья и другие родственники, большей частью бывшие членами гостиной сотни. В некоторых случаях чин давался по челобитью - в 1614 году была удовлетворена просьба сына убитого псковского гостя Алексея Хозина Микулы (видимо учли заслуги покойного отца и вес семьи в городе). В 1625 году, тоже видимо по челобитной, получил чин сын Надеи Светешникова Семен (в грамоте прямо указывалось, что он жалуется за заслуги отца) и т. д.
К 1631 году в живых не осталось уже ни одного гостя получившего чин в XVI веке. Помимо естественной убыли численность корпорации сокращалась и по другим причинам - трое гостей (Михаил Смывалов, Андрей Котов и Гаврила Облезов) в 1620-х сделались дьяками.
В 1630-х годах численность корпорации продолжила сокращаться, естественные причины, как и раньше, дополнялись прочими - двое гостей были переведены в дьяки (Назарий Чистый и Алмаз Иванов), один - обратно в гостиную сотню (Третьяк Лыткин). Новых пожалований при этом, несмотря на настойчивые просьбы самих гостей, по каким-то причинам почти не производилось - за все 1630-е годы было пожаловано всего 5 человек (двое из которых, упомянутые Назарий Чистый и его племянник Алмаз Иванов, вскоре были переведены в дьяки). В результате, к 1640 году численность корпорации сократилась до уровня Смутного времени - 15 человек.
В 1640-х годах правительство активизировалось - в гости жаловать стали чаще, всего за десятилетие было пожаловано 22 человека. Полностью компенсировать потери, впрочем, не удалось, тем более что корпорация продолжала терять старых членов. Так, гость Данила Панкратьев был вскоре после пожалования переведен в дьяки, упоминавшийся выше сын А. Хозина Микула был, как и отец, убит псковичами (1650 год) и т. д.
Всего в 1631 - 1650 годах звание гостя получило 26 или 27 человек (факт существования гостя Степана Гавриловича Стоянова вызывает сомнения). Основным источником пополнения корпорации в это время сделалась гостиная сотня - 21 человек (77,8%) был взят оттуда. Из общего числа переведенных из гостиной сотни 13 человек являлись родственниками прежних гостей, прочие до зачисления в гостиную сотню были посадскими или черносошными крестьянами.
Непосредственно из посада в гости попало 6 человек (четверо новгородцев, псковитянин и ярославец).
Гостиная сотня, таким образом, постепенно становилась почти обязательной ступенью для попадания в гости - даже для родни прежних гостей.
Основным мотивом пожалования в этот период становится успешная служба, принесшая прибыль казне. Так, Федор Веневитов был в 1646 году пожалован в гости за целый ряд успешных служб: на корабельной пристани в Архангельске, у кабацкого сбора в Казани, трехлетнюю службу на казенном икряном промысле в Астрахани, семилетнюю службу по доставке хлеба в Астрахань и основание соляных варниц в Старой Руссе. Данила Панкратов в 1642 году получил звание за то, что «был в Сибирском приказе у соболиные оценки всякой мяхкой рухледи и в окладчиках пятинного сбору» и за службы его брата, дьяка Григория. И т. д.
Общая численность корпорации в 1613 - 1650 годах заметно колебалась, составляя от 15 до 35 человек. На 1613 год имелось всего 15 гостей. Усилиями правительства Михаила Федоровича численность корпорации вскоре была заметно увеличена и в 1614 - 1620 годах достигала уже 26 - 29 человек. Максимума число гостей достигло в 1625 году - 35 человек. Позднее оно постепенно сокращалось и к 1640 году достигло уровня 1613 года - 15 человек. Пожалования 1640-х позволили улучшить положение - на 1650 год имелось уже 25 гостей.
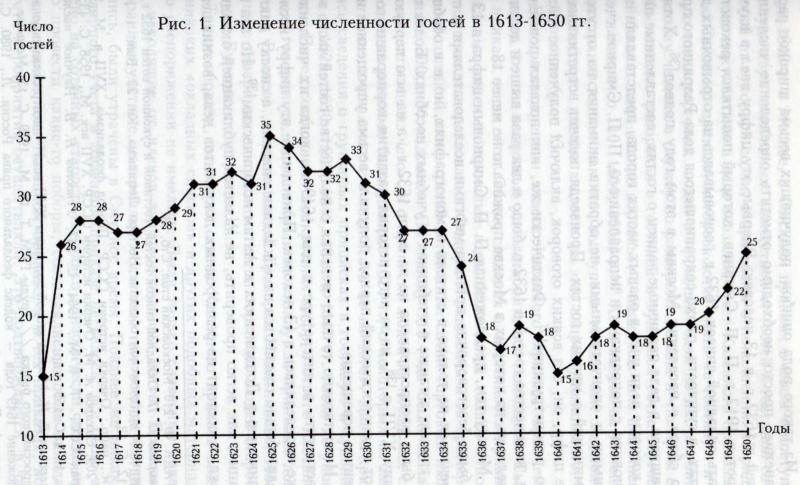
Автор приводит также любопытный эпизод, демонстрирующий разницу в статусе московских и иногородних гостей. Новгородские гости братья Иван и Семен Ивановичи Стояновы в 1650 году просили выдать им новую жалованную грамоту, взамен похищенной воровскими людьми в ходе городского восстания [в тексте почему-то псковского]. При этом братья просили дать им грамоту «против московских гостей», а не «против новгородских». После некоторых колебаний (сохранился черновик грамоты, эти колебания отразивший) Москва дала им новую грамоту, содержавшую компромиссный вариант - Стояновым, с одной стороны, предписывалось «жить в Новегороде по-прежнему» и «платить как прежние новгороцкие гости платили и в службе бывали», но, при этом, «службы служить по нашему указу». Таким образом, Стояновы, оставшись «новгородскими гостями», были видимо освобождены от выполнения указаний местных воевод.
В конце 1640-х изменился порядок выдачи личных жалованных грамот гостям. После получения корпорацией новой жалованной грамоты в 1648 году выдача персональных грамот с перечислением дарованных льгот видимо потеряла обязательность. Грамоты теперь выдавались только по специальным просьбам со стороны гостей и между пожалованием и выдачей грамоты могло пройти достаточно много времени (несколько лет) - ранее пожалование и выдачу грамоты разделяли несколько недель или месяцев.
Вторая половина XVII века
В третьей четверти XVII века существенных перемен в положении корпорации не произошло. Основным источником ее пополнения оставалась гостиная сотня - 44 человека из 60 (73,3%)*, однако при необходимости правительство жаловало и представителей других сословных групп. Так, 8 человек (3,4%) попало в корпорацию из посада - среди них были известный Аверкий Степанович Кириллов (1659 год), посадский Садовой слободы, позднее думный дьяк и владелец знаменитых палат, и кадашевец Григорий Шустов; один - из суконной сотни (Василий Шиловцев). Впервые были пожалованы перешедшие в русское подданство иноземцы - в 1650/51 году гостем стал известный Андрей Виниус, в 1672 году - Томас Кельдерман.
Из 44 представителей гостиной сотни 18 были москвичами и 26 иногородними. 26 из них были родственниками прежних гостей. С учетом родственников прежних гостей из других групп (двое посадских и один суконной сотни) общее их число достигало 29 человек (48,3% пожалованных). Из этих 29 человек 16 были сыновьями гостей, семеро - братьями, остальные - более дальними родственниками, в т. ч. и не кровными (свояк).
Как отмечает автор, правительство при пожаловании в гости руководствовалось прежде всего служебными качествами кандидата, умением «великому государю радеть и прибыль чинить» и родственные связи с прежними гостями не гарантировали попадания в корпорацию - общее число лиц мужского пола в семьях гостей значительно превышало число пожалований. Так, в клане Сверчковых из 11 мужчин четырех поколений, гостями стали трое, причем из второго поколения никто пожалован не был. В семье Облезовых из 9 мужчин гостем стал лишь внучатый племянник первого гостя, Г. Облезова и т. д.
Некоторым гостям, впрочем, удавалось, пользуясь связями, протащить в корпорацию родственников (как правило, сыновей) не имевших никаких собственных заслуг. Так, упомянутый Аверкий Кириллов, сам пробывший в гостях всего 7 лет, в 1666 году добился пожалования для своего сына Якова. Влиятельный Василий Шорин протащил в корпорацию своих сыновей и внука и т. д.
После 1651 году продолжало действовать 24 гостя получивших звание ранее, к ним в третьей четверти века добавилось 60 новопожалованных, всего, таким образом в этот период какое-то время действовало 84 гостя. В 1650-х годах было пожаловано 20 человек, в 1660-х интенсивность пожалований снизилась (11 человек), в первой половине 1670-х было пожаловано еще четверо. К середине 1670-х внезапно выяснилось, что оставшихся гостей (многие из которых, к тому же, в силу возраста к службе были уже не годны) не хватает для несения необходимых служб и, для исправления положения, в 1674 - 1675 годах в гости было пожаловано сразу 24 человека, из них 18 в 1675-м.
Естественная убыль членов корпорации в 1650-х годах была усугублена чумой (в 1654 году от нее умерли сразу три гостя) и традиционно дополнялась переводами в иные группы - Д. Г. Панкратьев в 1654 году был переведен в дьяки, А. Д. Виниус в 1665/66 - в переводчики Посольского приказа.
Численность корпорации на протяжении третьей четверти века в целом поддерживалась на уровне в 25 - 30 человек, несколько просев в начале 1650-х (21 чел. = чума) и резко увеличившись в середине 1670-х (54 человека на 1675 год).
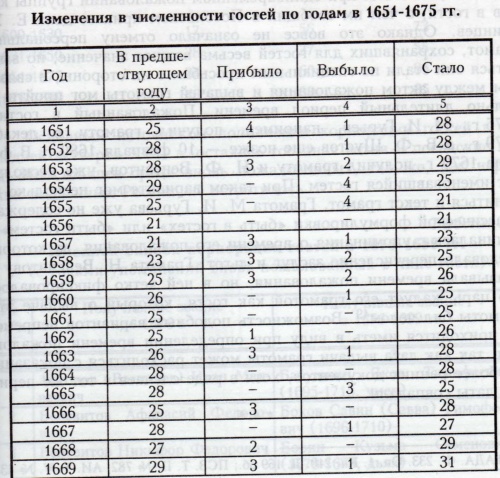
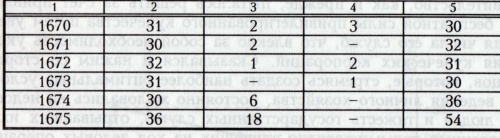
В последней четверти XVII века общая численность корпорации сохранялась примерно на том же уровне. Автор приводит следующие сведения по числу действовавших на протяжении века гостей:
1600 - 1630 годы — 73 (17 пожалованных ранее и 56 вновь пожалованных)
1631 - 1650 годы — 55 (28 и 27)
1631 - 1650 годы — 84 (24 и 60)
1631 - 1650 годы — 85 (46 и 39)
Сохранение высокой численности корпорации объяснялось прежде всего значительным числом гостей «перешедших» из предыдущего периода (46 человек). Общее же число новых пожалований ощутимо сократилось (39 человек). Большая часть новых пожалований пришлась на правления Федора и Софьи - 29 за 1676 - 1689 годы. Пик их пришелся на 1678 (6 пожалований) и 1685 - 1687 (15 пожалований) годы. При Нарышкиных и в первые годы правления Петра (1690 - 1699 годы) было пожаловано всего 10 человек (из них 6 - в 1696 году), причем в 1697 - 1699 годах пожалований не было вовсе.
Основным источником пополнения корпорации оставалась гостиная сотня - 27 из 39 человек (69,2%). Далее шел посад - 9 человек (23,1%), один новый гость был из дворцовых крестьян, двое (будущий дьяк и известный заводчик Кузьма Семенович Борин и Яков Лабозный) были переведены в гости после роспуска суконной сотни при царе Федоре. Родственниками прежних гостей были 18 человек - 17 членов гостиной сотни и дворцовый крестьянин (один из Шустовых, ранее живший в Дединове).
К прежним традиционным местам обитания гостей добавились сибирский Енисейск (Иван Ушаков), Путивль (Василий Курдюмов), Симбирск (Яков Бабушкин), Астрахань (Василий Горезин).
Появился также первый выходец из служилого сословия - упомянутый житель Путивля Василий Вонифатьевич Курдюмов был изначально служилым по прибору (пушкарем) и нажил капитал торговлей с малороссийскими городами.
Еще один гость, Иван Исаев, был уроженцем белорусской Дубровны, был угнан в плен в 1655 году, 16 лет жил в холопах, в 1673 году приписался к Мещанской слободе и впоследствии сделался богатым и влиятельным купцом (в 1699 году избран одним из четырех бурмистров в Бурмистерскую палату).
Из гостей взятых из посада нужно отметить прежде всего кадашевца** Кодрата (в приказных документах обычно обзывался Кондратом) Марковича Добрынина, строителя прекрасной церкви Воскресения Христова в Кадашах и Николо-Толмачевской церкви в Толмачевской слободе.
Численность корпорации в последней четверти века держалась обычно на уровне 46 - 49 человек, периодически подскакивая за счет массовых пожалований (1678 год - 54 чел.). Активные пожалования при Софье (см. выше) позволили корпорации достичь пика численности в 1687 году (61 чел.). Позднее численность гостей постепенно сокращалась и к 1699 году их имелось 46 человек.
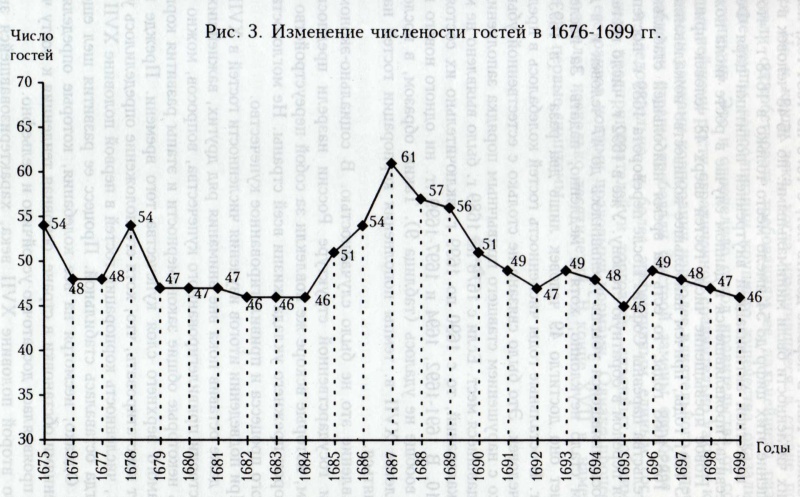
* Сословная принадлежность еще 5 человек (8,3%) неизвестна, что может ощутимо менять процентное соотношение.
** Среди новопожалованных гостей в этот период вообще много кадашевцев и связанных с Кадашами людей.
Первая четверть XVIII века
Положение корпорации гостей начало быстро ухудшаться уже в первые годы самостоятельного правления Петра. Последний, по каким-то причинам, не питал к гостям симпатий и фактически взял курс на ликвидацию корпорации - как и во многих других случаях, явочным порядком. Корпорация перестала пополняться новыми членами и постепенно прекратила существование по естественным причинам (официально ликвидирована только в 1728 году - см. ниже).
Как отмечалась выше, новыми членами корпорация гостей перестала пополняться уже с 1697 года. К 1699-му в ее рядах оставалось 46 человек, но, как отмечалось в поданой в том же году челобитной корпорации, 10 из них служить уже не могли по возрасту и состоянию здоровья (четверо были уже отставлены от службы). Корпорация просила пополнить ее новыми членами, по традиции прилагая список подходящих кандидатов. Челобитная была однако отвергнута, корпорация почти не пополнялась и позднее - после 1697 года звание гостя получило всего 3 человека (по одному в 1702, 1705 и 1710 годах). В итоге, общая численность корпорации сократилась с 41 человека в 1700 году до 10 в 1722 - 1725 годах.
Положение корпорации ухудшалось и по другим направлениям. Петровское правительство фактически игнорировало ее привилегии при назначениях на хозяйственные посты. Налоговые преимущества гостей также фактически потеряли значение - старые грамоты не ограждали от новых налогов, постоянно вводимых петровскими птенцами. Разрушение приказной системы и гибель старого царского, а также и патриаршего дворов привели к разрушению сложившейся системы связей. И т. д.
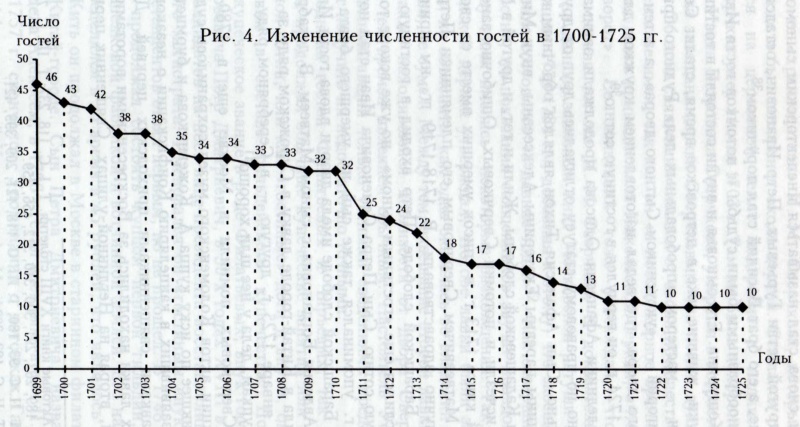
Качество петровского реформаторского администрирования иллюстрирует история с Бурмистерской палатой. В рамках разразившейся в 1699 году городской реформы гостям, гостиной сотне и всем московским слободам и сотням было предписано избрать бурмистров в Бурмистерскую палату (позднее Ратуша). Гости и гостиная сотня успели избрать по 4 бурмистра, однако Петр потребовал избрания по одному бурмистру от корпораций и московских сотен / слобод - всего 12 человек. Выполнить это требование оказалось невозможно, поскольку в Москве только крупных слобод / сотен имелось больше 20. В итоге, с согласия Разрядного приказа, было избрано 35 человек - по четыре от гостей и гостиной сотни и по одному от крупнейших слобод / сотен (позднее, впрочем, петровские дуболомы все же сократили их число до 12, помимо прочего в отставку заставили уйти трех из четырех представителей гостей).
***
Всего за время существования корпорации гостей ее членами были 255 человек, представлявшие 136 фамилий. 83 семьи были представлены одним гостем, 53 семьи дали корпорации от 2 до 10 гостей.
10 гостями была представлена одна семья (Юрьевы / Петровы), 6 гостями - три семьи (Булгаковы, Юдины, Чистые / Алмазовы / Ерофеевы), 5 гостями - семь семей (Строгановы, Таракановы, Гурьевы / Назарьевы, Шорины, Панкратьевы, Шустовы, Чирьевы), 4 гостями - семь семей (Котовы, Твердиковы, Фалелеевы, Хозины / Хозниковы, Сверчковы, Стояновы, Климшины), 3 гостями - одиннадцать семей (Никитниковы, Сырковы, Васильевы / Антоновы, Судовщиковы, Веневитовы, Микляевы, Семенниковы, Филатьевы, Шиловцевы, Добрынины, Лабозные). Еще 24 семьи были представлены в корпорации двумя гостями.
Длительное время (от 3 до 6 поколений семьи) в составе корпорации оставалось всего 11 семей из 53. Рекордсменами здесь были Юрьевы / Петровы остававшиеся в корпорации на протяжении 6 поколений (150 лет). Четырьмя поколениями были представлены семьи Таракановых, Юдиных, Чистых / Алмазовых / Ерофеевых и Шориных. Тремя поколениями (не всегда последовательными) семьи Булгаковых, Никитниковых, Гурьевых / Назарьевых, Сверчковых, Панкратьевых, Добрыниных. 31 семья была представлены двумя поколениями, 11 семей только одним.
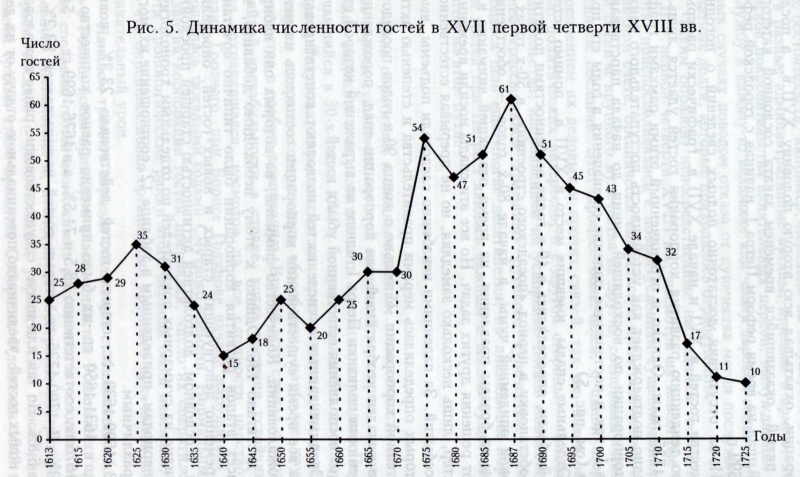
Гостиная сотня
скрытый текст
XVI - первая половина XVII века
Точное время образования гостиной сотни также неизвестно. Согласно упоминавшейся уже совместной челобитной гостей и гостиной сотни поданной в 1648 году, первую жалованную грамоту гостиная сотня, как и корпорация гостей, получила при Иване Грозном. На Земском соборе 1566 года представителей гостиной сотни еще не было - присутствовали только гости и «торговые люди москвичи» и «смоляне». Не знает гостиной сотни и писцовая книга Казани 1565/66 - 1567/68 годов, фиксировавшая, помимо прочего, торговых людей-переведенцев из других городов. Таким образом, гостиная сотня была видимо образована где-то между 1567/68 годом и мартом 1584-го (смерть Ивана IV).
Формировалась она изначально только из жителей столицы - как «коренных» москвичей, так и недавних переведенцев из других городов (Новгорода, Пскова, Смоленска и проч.) и состав ее оказался весьма разношерстным - помимо торговых людей (не только крупных, но и средних и мелких), в состав корпорации было включено много ремесленников. Пестрый состав корпорации предопределил ее разделение на три статьи - «лутчих», «середних» и «молодчих» людей. Это деление было подтверждено жалованной грамотой 1648 года, подтвердившей и ранее установленные штрафы за бесчестье - 25, 15 и 10 рублей соответственно.
Записанные в гостиную сотню оставались жить в своих слободах / сотнях на положении беломестцев.
Ориентировочная численность корпорации на конец XVI века известна только по позднему сообщению (1649 год) - примерно 320 человек. Автору удалось выявить 65 человек входивших в состав гостиной сотни во второй половине XVI века, не менее 28 из них являлись ремесленниками, а один был площадным подьячим. Старостой сотни на 1598 год являлся Сильвестр Онаньин.
Борис Годунов к гостиной сотне относился заметно лучше чем к гостям и в начале XVII века, в ходе известного «посадского строения» 1600 - 1602 годов, был проведен ряд мероприятий по укреплению ее положения. Была проведена чистка сотни - отчислено 56 человек (примерно 60% из них составляли ремесленники, в силу своего положения малопригодные к государевым службам)*, переведенных большей частью в московский посад (частично - в суконную сотню).
В то же время сотня получила новое пополнение - всего было набрано (с учетом родственников тяглецов) 125 человек. 66 человек было взято из московских черных слобод (49 тяглецов + их родственники), не менее 24 человек - из казенных и дворцовых, 3 человека из Патриаршей слободы, 2 крестьянина из подмосковного Красного села. Помимо этого, набор производился и в выросших за городскими воротами слободках, еще не имевших официального статуса и названий - отсюда взяли 35 человек: «из-за Арбатских ворот» - 25, «из-за Тверских» - 4, «из-за Сретенских» - 7. Среди набраных в этих слободках были и иногородние купцы, державшие в них дворы.
С этого же времени? в состав гостиной сотни стали изредка включать иногородних торговых людей [видимо помимо тех, что держали дворы в безымянных слободках, тут у автора неясно]. Таким образом в Москву попал, например, печально известный коллаборационист Федор Андронов, видный торговый человек из Погорелого городища [в районе тверского Зубцова].
При Василии Шуйском никаких принципиальных изменений в положении гостиной сотни не произошло. Были подтверждены жалованные грамоты царей Ивана и Федора [прямого указания у автора нет, но видимо Борис не подтверждал и грамоту гостиной сотни], пополнение корпорации производилось путем эпизодических индивидуальных пожалований. Упомянутый Федор Андронов при царе Василии сделался казначеем.
После разорения столицы в Смуту уцелевшие члены гостиной сотни, как и гости, рассеялись по городам. Как и случае с гостями правительство Михаила Федоровича принимало меры по возрату в столицу членов гостиной сотни - воеводам предписывалось отыскивать их и возвращать в Москву. В 1613 году была подтверждена жалованная грамота корпорации. Отдельным ее членам давались также персональные жалованные грамоты с дополнительными льготами. Несмотря на все это многие члены гостиной сотни от возвращения в столицу уклонялись и дабы ускорить ее восстановление власти периодически жаловали новых торговых людей из других городов, сопровождая пожалования указами о переезде в столицу.
Всего автором выявлено 228 человек (из 168 фамилий) входивших в состав гостиной сотни в 1600 - 1620 годах - включая пожалования царей Бориса и Василия и первых лет царствования Михаила Федоровича. 20 из них были ремесленниками, остальные торговыми людьми. Трое (Родион Котов, Иван Сверчков, Григорий Шорин) за тот же период были переведены в корпорацию гостей (еще пятеро стали гостями в 1620-х), один - в дьяки (Булгак Милованов).
В первые годы правления царя Михаила гостиная сотня пополнялась путем индивидуальных пожалований, в основном за счет московского посада. В редких случаях в нее зачислялись видные торговые люди иных городов. В гостиную сотню начали также записывать родственников торговых людей записанных в корпорацию гостей и наследников умерших членов самой гостиной сотни.
В 1620-х годах практика зачисления в гостиную сотню родственников гостей и наследников членов гостиной сотни стала общим правилом, членство в гостиной сотне сделалось фактически наследственным и пополняться она стала не только за счет внешних источников, но и естественным путем.
Помимо этого, в 1620-х правительство стало прибегать к массовым наборам в гостиную сотню, зачисляя в нее большие группы торговых людей из Москвы и других городов (Казань, Кострома, Великий Устюг, Сольвычегодск и проч.). Подобные наборы производились в 1621, 1624/25, 1627/28 и 1629/30 годах. Пожалованные в сотню иногородние должны были переселяться в Москву, но на практике нередко сохраняли дворы и лавки на прежних местах, создавая, тем самым, основу для будущих конфликтов.
Начали жаловаться в гостиную сотню и торговые крестьяне, поначалу только черносошные из северных уездов.
Часть новопожалованных иногородних членов сотни уклонялась от переселения в столицу, переселялась формально, пожив в Москве возвращалась обратно и т. д. В итоге, как и в случае с гостями, правительство со временем перестало настаивать на переезде членов гостиной сотни в столицу и ее «ответвления» появились и в других городах. Большая часть членов корпорации (примерно 89%) однако продолжала проживать в Москве.
Всего в 1620-х годах в гостиную сотню было пожаловано как минимум 248 человек из 165 фамилий. Родственники членов гостиной сотни составляли 40,2% (97 человек из 65 фамилий); родственники гостей - 8,4% (21 человек из 15 фамилий); посадские люди разных городов - 44,2% (112 человек из 79 фамилий); торговые крестьяне - 7,2% (18 человек из 5 фамилий). С учетом родственников общее число вновь пожалованных было выше - не менее 284 человек.
Из числа пожалованных прежде в 1620-х годах продолжали действовать 67 человек, а с учетом детей пожалованных прежде возможно 83 или даже 93 человека. Всего, таким образом, за 1620-е годы через гостиную сотню прошел минимум 351 (284 + 67) человек, а возможно даже от 434 до 444 человек [так у автора, как она получила две последние цифры неясно].
30-40-е годы XVII века в русских городах стали временем ожесточенной борьбы городских посадов с беломестцами. Последние, размножившиеся после Смуты, разоряли посады не только недобросовестной конкуренцией, но и оттягиванием все новых тяглецов, скупкой посадских дворов и проч. Правительство в этой ситуации вынуждено было маневрировать, пытаясь снизить накал недовольства посадов, не ущемляя в то же время интересов привилегированных корпораций и влиятельных владельцев белых слобод.
Ряд указов выпущенных в 1620 - 1640-х годах (1621, 1627, 1629, 1634, 1642/43 годы) ограничивал переход тяглых дворов и мест в руки беломестцев, принимались также меры по розыску и возращению в посады закладчиков. Гостиную сотню и гостей все эти меры затрагивали ограниченно.
В апреле 1645 года последовал правительственный указ уже прямо затрагивающий гостиную сотню - ее членам сохранившим дворы и лавки на тяглых землях предписывалось вносить за них все посадские платежи. Вновь приобретенные владения на тяглых землях указано было отписывать на государя безденежно.
Для посадов основным противником были беломестцы, гостиная сотня, оттягивавшая с них сравнительно небольшое число людей, была противником второстепенным. Однако, со временем, посадские вспомнили и о ней. Поданная 19 июня 1637 года челобитная Конюшенных слобод просила вернуть им 30 тяглецов забранных ранее в гостиную и суконную сотни. Челобитная была проигнорирована, однако стала примером для аналогичных просьб.
Указ 1647 года о массовом наборе в гостиную сотню вызвал протест посадов Вологды и Мурома. Напуганное Соляным бунтом (июль 1648 года) правительство в итоге предпочло уступить - указом от 27 июля 1648-го тяглецов было предписано вернуть обратно. Воспользовалась моментом и московская Кадашевская слобода подав челобитную о возврате забранных в 1644 году 24 семей. Кадашевцы при этом ссылались на льготную грамоту Михаила Федоровича освобождавшую их от служб с гостями и гостиной сотней. Правительство уступило и здесь - указом от 2 октября 1648 года тяглецы были возвращены в слободу. Пример кадашевцев вдохновил другие московские слободы и, в итоге, все семьи забранные в гостиную сотню в 1643, 1644 и 1647 годах были возвращены назад. Некоторые члены гостиной сотни в сложившейся обстановке предпочли сами вернуться на посад.
В ходе последовавшей вскоре ликвидации белых слобод и очередного посадского строения часть членов гостиной сотни понесла и ощутимые материальные потери лишившись дворов, торговых мест, варниц и проч. на посадской земле, а также работников из числа закладчиков и беглых посадских. Так, у солепромышленника Томилы Елисеева в 1648 году отписали 256 работников, у Климентия Патокина - 2 двора, 20 лавок, 2 лавочных места и пр., у Федора Горбова - двор, 17 лавок, лавочное место, амбар и пр. И т. д.
Сама гостиная сотня, впрочем, не собиралась мириться со сложившимся положением и в январе 1649 года подала челобитную прося восполнить ее потери в людях, в том числе и за счет возврата отписанных кадашевцев. Всего корпорация претендовала на 130 тяглецов - 62 из москвовского посада (в т. ч. 33 кадашевцев и 18 Садовой слободы), 41 бывшего беломестца патриарших слобод и проч. С учетом членов семей тяглецов гостиная сотня желала получить не менее 216 человек. Это намерение встретило активное сопротивление черных слобод и рассмотрение вопроса надолго затянулось (тем более что на часть тяглецов претендовала и суконная сотня). Решения по конкретным тяглецам неоднократно менялись - они то передавались гостиной сотне, то возвращались обратно. В итоге корпорации удалось получить лишь какую-то часть запрошенных кандидатов. Аналогичная картина после июля 1648 года наблюдалась и при пополнении корпорации иногородними тяглецами - местные посады активно сопротивлялись, тяглецов писали то туда, то сюда и в гостиную сотню в итоге попала лишь часть кандидатов.
Из-за сложившейся в городах обстановки в 1630-х годах правительство отказалось от проведения массовых наборов в гостиную сотню. После 1630 года производились только индивидуальные пожалования, которые однако были несколько расширены - в корпорацию часто зачислялись не только сам пожалованный, но и все члены его семьи ведущие с ним общее хозяйство (братья, сыновья, племянники).
Опасаясь трогать посады правительство обратило внимание на другие источники пополнения - в гостиную сотню продолжали записывать черносошных крестьян, а в 1634 - 1635 годах был произведен массовый набор крестьян патриарших и монастырских (взято 44 семьи). Впрочем, не желая обижать патриарха и монастыри, этих крестьян официально приписали к гостиной сотне временно (до 1639 года, позднее срок был продлен еще на несколько лет).
В 1640-х к практике массовых наборов было вернулись - в 1643 году в гостиную сотню взяли 12 семей из Конюшенных слобод, в 1644-м - 24 семьи из Кадашевской слободы, в 1647 году - 104 семьи из московского и иных посадов. Однако результаты этих наборов уже в 1648 году были аннулированы, а взятые в гостиную сотню возвращены в посад (см. выше).
В итоге численность корпорации к концу 1640-х заметно снизилась. К марту 1647 года по подсчетам Казенного приказа в ней имелось (без учета временно приписанных патриарших / монастырских крестьян) всего 197 мужчин (фактически видимо несколько больше).
В целом, на протяжении 1630 - 1640-х годов в состав гостиной сотни было включено 395 человек. Естественный прирост дал корпорации 191 члена (из 81 семьи), из новых семей было взято 204 человека (126 фамилий) - включая видимо тех кого позднее вернули обратно. Большая часть последних была взята из посадов - московского и иногородних, часть из торговых крестьян, несколько человек - из суконной сотни.
Общее число действовавших членов торговой сотни было выше - в 1630-х годах действовало 240 человек из числа ранее пожалованных, в 1640-х - 255.
Всего в первой половине XVII века в гостиную сотню пожалован был 871 человек, во вторую половину века из этого числа перешло 232 человека.
* Определенное число ремесленников, впрочем, оставалось в гостиной сотне и позднее.
50 - 80-е годы XVII века
После ликвидации белых слобод в 1649 году спокойствие в городах было более-менее восстановлено. Однако в 1650 - 1660-х годах на гостиную сотню обрушились новые беды. В 1654 году Москва тяжело пострадала от эпидемии чумы. Начавшаяся в том же году затяжная война с Польшей привела к к усилению обложения (сборы десятой и пятой деньги и даточных), введению государственной монополии на продажу ряда товаров, дополнившихся вскоре еще и провальной денежной реформой. Все это не способствовало благополучному развитию корпорации.
Как уже отмечалось, из ранее пожалованных во вторую половину века перешло 232 члена гостиной сотни, 93 из них действовало и в 1660-х годах. В 1650 - 1660-х годах к ранее пожалованным добавилось еще 220 человек из 153 фамилий. Естественный прирост дал гостиной сотне 104 новых члена (из 70 фамилий). Еще 116 человек (из 83 фамилий) были набраны на стороне.
К массовым наборам в оставшиеся годы царствования Алексея Михайловича правительство прибегать опасалось и все пожалования производились в индивидуальном порядке. В отдельных случаях торговых людей зачисляли в гостиную сотню по собственной просьбе. Однако, как отмечает автор, многие зажиточные посадские, насмотревшись на ужасы городских восстаний середины века, предпочитали не высовываться и оставаться в посаде, избегая зачисления в гостиную сотню.
Основную массу набранных в гостиную сотню в эти десятилетия составляли посадские люди, большей частью москвичи. Помимо них в гостиную сотню зачислялись посадские Ярославля, Нижнего Новгорода, Новгорода, Казани, Костромы, Калуги, Хлынова и проч. На переезде новопожалованных в столицу власти не настаивали и те перебирались в Москву только по собственному желанию.
Приток в гостиную сотню торговых крестьян сократился - из-за введения крепостного права, но не прекратился вовсе. В корпорацию было взято также несколько членов суконной сотни и даже один архиерейский сын боярский. Осип Палицын, бывший членом двора вологодского митрополита Маркела, женился на дочери тотемского солепромышленника Семена Харламова и, видимо на этой почве, сам увлекся солеварением и где-то между 1655/56 и 1669 годами был записан в гостиную сотню.
В целом, как отмечает автор, качество пополнения 1650 - 1660-х годов было невысоким - торговых людей соответствующих высоким стандартам (1-я статья корпорации) среди него имелось немного.
К середине 1670-х количественный и качественный состав гостиной сотни оставлял желать лучшего и правительство Федора Алексеевича приняло ряд мер по укреплению положения корпорации.
Была возрождена практика массовых наборов - в Кадашевской слободе в 1676 году взяли от 7 до 56 человек, а в 1680 году - еще 12, в Казенной слободе в 1677 - 1680 годах забрали 30 тяглецов. Впервые набор затронул и недавно созданную привилегированную Мещанскую слободу - в 1676 - 1678 годах здесь взяли в гостиную сотню 20 человек. В прочих московских слободах массовых наборов не производили, ограничиваясь индивидуальными пожалованиями.
В других городах массовых наборов также не было (брали одного-двух, иногда трех-четырех человек), однако число городов в которых производились индивидуальные пожалования существенно возросло - среди пожалованных были жители Архангельска, Арзамаса, Вологды, Ельца, Енисейска, Казани, Калуги, Каргополя, Касимова, Каширы, Костромы, Мурома, Мезени, Нижнего Ногорода, Острогожска, Переславля Рязанского, Пскова, Путивля, Серпухова, Симбирска, Смоленска, Свияжска, Соликамска, Тулы, Хлынова, Чебоксар, Ярославля и проч.
Впервые набор был распространен и на приборных служилых людей - в 1676 году было разрешено брать в гостиную сотню пушкарей и воротников южных и юго-западных городов (где посада, как известно, почти не было, а торгово-промышленная деятельность велась в основном приборными людьми). Первые наборы были проведены в Коломне, Путивле, Рыльске и Серпухове. В Коломне в 1678 году в гостиную сотню взяли не менее 6 пушкарей из трех семей, в Рыльске, в 1678 - 1679 годах, в гостиную сотню взяли 9 пушкарей с родственниками (всего не менее 21 человека)*, нескольких человек взяли также в Серпухове и Путивле**.
Помимо этого, в царствование Федора Алексеевича была распущена суконная сотня, а лучшие ее представители включены в состав сотни гостиной. Точное время и детали этого процесса неизвестны.
[При Софье, насколько можно понять, производились индивидуальные пожалования посадских и приборных людей].
Всего в 1670 - 1690 годах в состав гостиной сотни вошел 431 человек. За счет естественного прироста она получила 105 человек из 60 фамилий. Внешние источники дали не менее 326 человек (220 фамилий). Не менее 70 человек было взято из посадов провинциальных городов, более 70 человек - из числа приборных Коломны, Серпухова, Рыльска и Путивля и не менее 47 человек - из распущенной суконной сотни.
В составе гостиной сотни впервые появились этнические поляки (Степан Жигульский из Шклова, с двумя сыновьями), евреи (Матвей Евреинов / Матюшка Григорьев / Матюшка Жидок и др.) и прочие уроженцы Белоруссии - за счет набранных в Мещанской слободе.
Численность гостиной сотни в 1670 - 1680-х существенно возросла, а состав ее в значительной мере обновился. Однако общий качественный уровень корпорации не вырос, а скорее даже понизился - большая часть новых членов пополнила 2-ю и 3-ю статью гостиной сотни.
* Наборы продолжались здесь и позднее и к 1690 году число взятых в гостиную сотню в Рыльске достигло 29 человек (для сравнения, в местном посаде было всего 22 тяглеца).
** К 1696 году в гостиной сотне числилось 14 бывших путивльских пушкарей, с родственниками - 24.
Петровское правление
В 1690-х годах гостиная сотня продолжала пополняться за счет естественного прироста и индивидуальных пожалований. Всего в состав корпорации вошел 281 человек - 139 (81 фамилия) за счет естественного прироста и 142 (94 фамилии) - за счет новых пожалований.
Основным источником пополнения оставался посад разных городов. Продолжали набираться и приборные (пушкари), здесь к прежним городам добавились Брянск и Севск. Встречались и представители других сословных групп - в Переславле-Рязанском в гостиную сотню взяли троих рыбных ловцов дворцовой Выползовой слободы (фактически давно бывших торговыми людьми), в Москве - троих записных обжигальщиков-кирпичников, владевших кирпичными сараями. Несмотря на протесты патриарха Адриана в гостиную сотню были переведены также двое патриарших торговых крестьян.
К гостиной сотне, в отличии от корпорации гостей, петровское правительство особой неприязни видимо не питало и она продолжала пополняться на протяжении всего петровского правления. Однако разнообразные преобразования (введение новых налогов, городская реформа 1699 года и проч.) негативно сказывались и на ней. Резко усилился процесс миграции членов сотни, в основном второй и третьей статей - одни пытались, хотя бы временно, ускользнуть из под контроля властей, избежав назначения на службы и уплаты новых налогов, другие искали более благоприятные условия для ведения дел. Ряд членов корпорации отказался от ведения отъезжего торга, ограничиваясь местной торговлей. Усилилось социальное расслоение внутри самой гостиной сотни - ряд первостатейных членов корпорации существенно расширил свои операции, тогда как другие не в силах были платить и минимального оклада.
О состоянии московской части гостиной сотни можно отчасти судить по окладным книгам 1710 и 1713 годов и переписной книге 1725 года.
Согласно окладной книге денежного сбора с гостей и гостиной сотни 1710 года в столице имелось 212 членов гостиной сотни (с родственниками - не менее 266 человек). Из этих 212 человек 13,2% (28 человек) платили оклады от 20 до 60 рублей; 26,4% (56 человек) - оклады от 10 до 18 рублей; 60,4% (128 человек) - оклады от 25 копеек до 8 рублей. Восемь человек назначенные оклады (от 5 до 50 руб.) платить оказались не в состоянии и они были снижены (недостающие деньги разложены на других членов сотни).
Окладная книга 1713 года (сбора десятой деньги на покрытие расходов турецкой войны) фиксировала ухудшение материального положения членов сотни - 28 (или даже 29) человек оказались неспособны заплатить десятую деньгу. Помимо этого книга 1713 года зафиксировала общую убыль членов корпорации за несколько прошедших лет: в 1705 - 1713 годах по разным причинам выбыло 94 человека - 74 умерло и 20 перешли в иные чины (5 постриглись, 5 попали в солдаты и т. д.).
Переписная книга 1725 года зафиксировала членов сотни выбывших со времени I ревизии - всего 109 человек (86 умерло, 9 отданы в солдаты, 1 сослан на каторгу, 13 пропали без вести).
Таким образом, только по сведениям приводимым в книгах 1713 и 1725 годов корпорация потеряла в 1705 - 1725 годах не менее 203 человек.
Летом 1714 года был издан указ об обязательном переселении в Петербург торговых людей и ремесленников. От Москвы потребовали 90 купцов и 90 ремесленников. Гостиная сотня поначалу делегировала семерых своих членов, позднее добавив еще нескольких человек (всего 11?). Члены корпорации, впрочем, на болота ехать не желали и от переселения всячески уклонялись - проверка, проведенная в 1718 году, выяснила, что в Петербурге реально живут лишь три члена гостиной сотни, еще двое завели здесь дворы, но в них не живут, а шестеро до Петербурга не доехали вовсе. Спасая положение гостиная сотня экстренно записала в свои ряды нескольких бывших тяглецов московских слобод живших в Петербурге.
За первую четверть XVIII века в состав гостиной сотни вошло 914 человек. Большую часть пополнения дал естественный прирост - 566 человек из 208 фамилий. Не менее 324 человек из них (57,2%) были взяты в гостиную сотню в первое десятилетие XVIII века.
Со стороны было взято в гостиную сотню 348 человек из 177 фамилий. Большую часть пополнения, как и прежде, дали посады и местные корпорации пушкарей. Из периферийных городов наибольшее число новых членов дали Симбирск, Серпухов и Переславль-Рязанский.
В целом, за 1691 - 1725 годы в состав гостиной сотни вошло 1 195 человек - 705 за счет естественного прироста и 490 - со стороны. Из числа ранее пожалованных в 1690-е годы перешло не менее 227 человек, повышая общее число действовавших в петровское правление членов гостиной сотни до 1 422 человек.
За все время существования гостиной сотни (XVI - начало XVIII века) в ней состояло не менее 2 781 человека.
Несмотря на активное пополнение состояние корпорации со временем все более ухудшалось, а процессы внутреннего распада усилиливались. Конец ее существованию фактически положили вторая городская реформа и введение подушной подати. Регламент Главного магистрата (январь 1721 года) ввел систему купеческих гильдий, по которым следовало расписать членов гостиной сотни, а уплата подушной подати фактически уравняла членов сотни с прочим податным населением.
Гостиная сотня, впрочем, пыталась сопротивляться нововведениям - часть ее членов отказывалась платить подушную и т. д. Однако 30 июня 1728 года Сенат специальным указом подтвердил фактическую ликвидацию корпораций гостей и гостиной сотни - «гостям и гостиной сотне во всех городах быть в подушном окладе, и в службах с прочими посадскими наряду и верстаться между собой по богатству обще, а не особо».
Суконная сотня
скрытый текст
Точное время создания суконной сотни неизвестно (конец XVI века). Очень мало известно и о ее истории. С корпорацией гостей и гостиной сотней она была связана слабо, большой служебной ценности не представляла, численность ее также видимо была невелика. Члены суконной чаще всего несли малозначительные службы в мелких населенных пунктах - вместе с посадскими людьми. Корпорация, как и гостиная сотня, делилась на три статьи, со штрафами за бесчестье в 15, 10 и 5 рублей соответственно. Таким образом, первая статья суконной сотни приравнивалась ко второй гостиной, а вторая - к третьей статье гостиной. Бесчестье третьей статьи приравнивалось к бесчестью молодших посадских людей (у лучших и середних посадских - 7 и 6 рублей соответственно)*.
Помимо Москвы (ко второй половине 1670-х св. 100 человек), члены суконной сотни имелись и в ряде провинциальных городов - Переславле Рязанском (на 1676 год - 10 членов и 14 их взрослых «детей»), Хлынове, Соликамске, Ярославле, Вологде.
Во второй половине XVII века суконная сотня по своему служебному потенциалу не отличалась от рядовых московских слобод, существенно уступая богатым (Кадашевской, Садовой) и не представляла уже особого интереса для правительства.
Ликвидирована сотня была видимо в царствование Федора Алексеевича, однако ни точное время, ни детали процесса ликвидации также неизвестны.
* [По Судебнику 1550 года посадским полагалось за бесчестье от 1 до 5 рублей, а членам суконной сотни те же 15, 10 и 5 руб. Штрафы за бесчестье посадских были повышены Соборным уложением - до 7, 6 и 5 руб., а для суконной сотни остались теми же. Таким образом, статус членов суконной сотни изначально был выше чем у посадских и понизился уже во второй половине XVII века. См. - Флоря Б. Н. Оценки возмещения за оскорбление дворянской "чести" и "чести" представителей других сословий в памятниках русского законодательства XVI-XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, № 4 (70), 2017]
[За четверть века прошедших со времени издания книги Голиковой сведений о суконной сотне прибавилось мало.
Староста суконной сотни (Третьяк Герасимов сын Косаткин) участвовал в Земском соборе 1598 года, соответственно, при Федоре Ивановиче она уже существовала и, по мнению В. Б. Перхавко, при нем же и была создана.
Согласно жалованной грамоте, полученной старостой суконной сотни Данилой Чуевым в июне 1625 года (взамен старой, сгоревшей в Смуту), членам сотни даровалось право «с черными сотнями никаких дел не делать, и питье про себя держать безвыимочно, и стояльщиков во дворех не ставить, и избы им топить вольно, и подвод у них по ямом и на дороге не имать; и на реках перевозу и на мостех мостовщины и проезжего мыта не имать; а кто их чем обесчестит, а по суду доищутца, и лутчим людем безчестья по пятинадцати рублев, середним по десяти рублев, молотчим по пяти рублев». Размер штрафов за бесчестье был подтвержден указом мая 1645 года и Соборным уложением 1649 года.
Помимо перечисленного члены сотни освобождались от местного воеводского суда. В отличие от гостей и членов гостиной сотни, торговым людям суконной сотни не разрешалось в любое время пользоваться домашними банями («топить мыльни») и свободно ездить за границу.
Алексей Михайлович в 1671 году «пожаловал Суконные сотни торговых людей, где им лучится в отъезде быти самим, или их детям и племянником, и людем их: и бояря наши и воеводы и дьяки и всякие приказные люди ни в чем их не судят; а кому будет в чем до них дело, и их судят на Москве наши бояря, или кому мы великий государь укажем; а где они станут на ком искать, или кому отвечать, в котором Приказе нибудь, а по суду дойдет до крестного целования, и им самим лутчим и середним людям, и их братье и детям креста не целовати, а целовати крест людем их, а молодчим людем крест целовати самим; и с черными сотнями никаких им дел не делати и не тянути ни в чем».
Пожалованные в суконную сотню, как и в случае с гостиной, также вероятно какое-то время переводились в Москву, так, в 1630 году по царскому указу было «велено взять из Чердыни к Москве на житея, в Суконную сотню, посадских людей Ортемья Могильникова с братьями да Федора Свирепова с братьею», однако часть из них от переезда уклонялась - приказной документ от июля 1632 года упоминает членов сотни живущих в Галиче, Свияжске, Сольвычегодске, Дединове и Чердыни.
Основным занятием членов сотни были мелкая торговля и ремесло - годовой оклад их на 1632 год составлял от полуденьги до 13 копеек.
На 1649 год в суконной сотне числилось, по мнению Перхавко, 116 человек [Н. Б. Голикова считала соответствующий окладный список очень неполным в отношении гостей, так что и на счет полноты списка членов суконной сотни нет никакой уверенности]. Челобитную декабря 1653 года, направленную против английской Московской компании, подписало 163 члена сотни.
Мнение Н. Б. Голиковой о ликвидации суконной сотни при Федоре Алексеевиче В. Б. Перхавко не разделяет, приводя сведения о ее существовании и в более позднее время. Так, ответ царей Ивана и Петра на июньскую челобитную 1682 года, поданую стрельцами, гостями, гостиными сотнями и пр., был обращен к «гостям и Гостиные и Суконных сотен, и дворцовых и конюшенных и иных черных слобод посацким людем».
Далее Перхавко, с одной стороны, сообщает, «что после 1682 г. упоминания о [суконной сотне] исчезают из источников», но, с другой - сам же и приводит такие упоминания:
- в «письме» от 7 февраля 1695 года из Приказа Большой казны в Казенный приказ предписывалось «гостям и Гостиной и Суконной сотен и черных слобод людем вместо десятой деньги» поставлять суда и судовые припасы для Азовского похода;
- грамота из Новгородского приказа воеводе Нижнего Новгорода Павлу Федоровичу Леонтьеву об уравнении члена Гостиной сотни Ивана Устинова и крестьянина Печерского монастыря Макара Павлова сына Конищева в платеже налогов за тяглые дворы с нижегородскими посадскими людьми указывала «…так ж впредь и иным
беломесцом Гостиной и Суконной сотен, а дворцовых сел крестьяном и монастырским крестьяном же в Нижнем у посацких людей дворов и лавок, и анбаров покупать и в оклад имать никому не велели».
В целом, по его мнению: «суконная сотня перестала пополняться новыми членами и постепенно захирела... отсутствие упоминаний о ней в документах городской реформы начала 1699 г. позволяет сделать предположение об ее окончательном отмирании между 1696 и 1698 гг... наиболее зажиточные ее представители оказались в составе Гостиной сотни, а малоимущих включили в черные посадские общины».
См. - В. Б. Перхавко. Из истории Суконной сотни: истоки, состав, статус и занятия // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.]
EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
… Анализируя сохранившиеся в архивах отчёты Мещанского кружечного двора, располагавшегося подле ц. Филиппа Митрополита на Проспекте Мира, член-корреспондент АН СССР С.К. Богоявленский приходит к выводу, что 28.7 ведёр вина и 26 вёдер пива, потребляемые одной семьёй на протяжении восьми месяцев – неправдоподобно высокая цифра. «Это слишком много, даже если предположить, что мещане показывали большое усердие в поддержании государственного питейного дохода, и надо предположить, что в кабак Мещанской слободы стекались «питухи» из других слобод».
Нам кажется, что уважаемый коллега недооценил усердия слобожан и мы попробуем проверить это простым расчётом, опирающимся на наши практические наблюдения над сегодняшней жизнью столичных слобод...
...В частности, автор этих строк имеет обыкновение гостить в Басманной слободе, в семье разумно потребляющих супругов К. В не праздничные вечера автор и супруги в спокойном темпе употребляют не менее четырёх бутылок вина. Если бы автор регулярно проживал по указанному адресу, то ориентируясь на минимальные показатели (трое респондентов, 20 вечеров в месяц) и на среднюю ёмкость полуаршинного ведра (точный объём неизвестен, диапазон от 10 до 15 л, наиболее вероятная цифра – 12) мы получим результат равный 40 вёдрам за восемь месяцев. 26 пивных вёдер столь же уверенно распределяются по утренним и дневным часам.
Трудно предположить, что в поздние годы правления государя Алексея Михайловича москвичи обладали меньшей алкогольной толерантностью. Это даёт нам возможность предположить, что кружечный двор Мещанской слободы обеспечивал стабильность казённого дохода, в целом опираясь на самостоятельное усердие местных жителей.
EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
В опросе тяглецов Мещанской слободы при переписи 1676 года... о своих занятиях в 1672 - 1675 годах он не сообщает, но, видимо, имел какие-то возможности и навыки, которые позволили ему осуществлять самостоятельные торговые операции.
В 1673 году он пришел жить в Мещанскую слободу, причем был принят в ее состав без обычной поручной записи. В 1676 году Иван Исаев имел в Мещанской слободе двор..., где жил с сыновьями и торговал в Шелковом ряду. В том же году он нес службу «на мещанских кружечных дворах у питейной продажи и и кружечного сбора», причем был не простым целовальником, а головой. Должность была весьма выгодной и, несомненно, позволила ему приобрести влияние в слободских кругах, и увеличить свой капитал.
скрытый текстЧерез два года, в 1678 году, он был взят в гостиную сотню... В 1685 - 1691 годах... продолжая оставаться в гостиной сотне, не раз упоминался... как поставщик шелка, серебра, золота и... других товаров царской казне... Его торговые операции вышли далеко за пределы Москвы и включали... Астрахань и Архангельск, Новгород, Брянск... Гостем И. Исаев стал не прозднее 1693 года. Деятельность его в составе купеческого «корабельного кумпанства», а затем выбор одним из четырех бурмистров в 1699 году во вновь создаваемую Бурмистерскую палату говорят, что он, несмотря на... пожилые годы был тогда еще достаточно бодр, энергичен и влиятелен.
...Наиболее удачно сложились судьбы сыновей и внуков гостя Ивана Исаева. Его старший сын Илья, познакомившийся в Архангельске с Петром... сумел понравиться царю и после взятия Риги... получил назначение в президенты Рижского магистрата. После смерти отца, он продолжая службу, сохранил единое хозяйство с братом Семеном и развернул вместе с ним активную торговую деятельность... В 1720 году Илья Исаев получил... назначение в «товарищи» к президенту Главного магистрата Ю. Ю. Трубецкому, а после отставки [того] в 1732 году, занял его место... В 1731 - 1733 годах он был вице-президентом Коммерц-коллегии. Служба его завершилась в 1737 году, а через несколько лет он был пожалован чином действительного статского советника... [дающего]... потомственное дворянство.
Из сыновей Семена Иван... в 40-х годах XVIII века... стал президентом Главного магистрата, а в 1763 году был пожалован чином надворного советника, что... дало ему право на личное дворянство. Сыновья Ивана... вышли из купечества в военную службу, где дослужились: Алексей до полковника, в Яков до бригадира.
Н. Б. Голикова «Привилегированные купеческие корпорации России, XVI - первая четверть XVIII в.»
EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Подобные явления встречались довольно часто как среди гостей, так и членов гостиной сотни, причем повсеместно. Ярославские гости Лузины, например, взяли свою фамилию от отца Остафия, получившего прозвище «Луза», тогда как их дед именовался Лютовым. Новгородские гости Микляевы - по деду, иногда назывались Никифоровыми - по отцу. Сыновья черносошного крестьянина Федота Гусельникова предпочли стать Федотовыми, хотя в отдельных случаях пользовались и старой фамилией. В семье Чистых четверо гостей: Иван и три его сына Назар, Иван и Аникей были Чистыми, сын Ивана Ивановича Ерофей, по прозвищу Алмаз, превратился в Ерофея Иванова или Алмаза Иванова, а его сыновья иногда именовались Ерофеевыми, а иногда Алмазовыми.
скрытый текст
...Вязьмичи, слывшие там Дьяконовыми и Антоновыми, после переезда в Москву и пожалования в гости начали именоваться по своему отцу Васильевыми, а сыновья и внуки Матвея васильевича Васильева вернулись к фамилии Антоновы. В разветвленной семье бывших черносошных крестьян Усовых, после того как один из ее членов получил прозвище Грудца, каждый из его потомков, вошедших в гостиную сотню использовал три варианта фамилии: Усов, Усов-Грудцын или Грудцын. Лишь в четвертом поколении одна ветвь стала отдавать предпочтение фамилии Усовы, а другая Грудцыны... Из гостей Хозниковых один брат, живший в Москве, сохранил эту фамилию, а другой, обитавший в Пскове, и его дети приняли вариант Хозины...
Одной из особенностей ономастики являлось существование и параллельное употребление имен, полученных при крещении, и сложившихся в просторечии прозвищ... Так, один из самых крупных гостей первой половины XVII в. Епифаний Андреевич Светешников, за очень редким исключением, фигурировал в документах как Надея Светешников, а его сын Семен носил отчество Надеевич. Братья Константин и Тимофей Судовщиковы именовались соответственно Смирным и Третьяком, а сын Константина Демьян, по прозвищу Герман, встречался в разных источниках то как Герман Смирнович, то как Демьян Смирнович... Гость Софроний Федорович Тараканов был гораздо известнее как Томило Тараканов, а сын гостя Меньшого Семеновича Булгакова Никита, член гостиной сотни, как правило, именовался Рудельфом Булгаковым...
Другой особенностью ономастики было употребление разных вариантов одного и того же имени, например: Вонифатий - Нифантий - Нифонт или Евстафий - Остафий... Практиковалась также замена одного имени другим из-за... созвучия. Так, Савелия могли именовать Саввой, Маркела - Марком, Андрея - Андрианом и наоборот...
Из затрудняющих... учет осложнений... следует отметить обычай давать родовые имена, из-за чего в таких семьях встречались лица, у которых были не только одинаковые имена, но и отчества. В семье Сверчковых было например два Ивана Матвеевича, в семье Чистых три Ивана Ивановича - дед, сын и внук. Среди Климшиных насчитывалось два Ивана и четыре Василия, причем трое последних с одинаковыми отчествами...
Такое же положение складывалось в семьях и тогда, когда братья получали одинаковые имена при крещении. В таких случаях к их именам могли даваться пояснения «Большой» или «Меньшой»... В огромном клане Рюминых, например, были «Большой» и «Меньшой»... Семены, Дмитрии и Филиппы... Встречались и варианты, когда дополнение к имени давалось только одному из братьев. Так, из двух Васильев Климшиных старший брат именовался только Василием, а младший - Василием Меньшим.
К двоюродным братьям подобные пояснения не применялись и поэтому их можно было различить только по отчеству. Среди Юдиных, где в двух ветвях насчитывалось семь Иванов, прозвища Большой и Меньшой получили только два родных брата. В семье Чечкиных четверых Иванов можно было распознать, только зная имена их отцов...
Особенности употребления имен, сохранившиеся и в первой четверти XVIII века, породили ошибку, когда самый богатый московский купец гостиной сотни Матвей Григорьевич Евреинов, именовавшийся и Матвеем Григорьевым, принимался за двух разных людей.
Н. Б. Голикова «Привилегированные купеческие корпорации России, XVI - первая четверть XVIII в.»