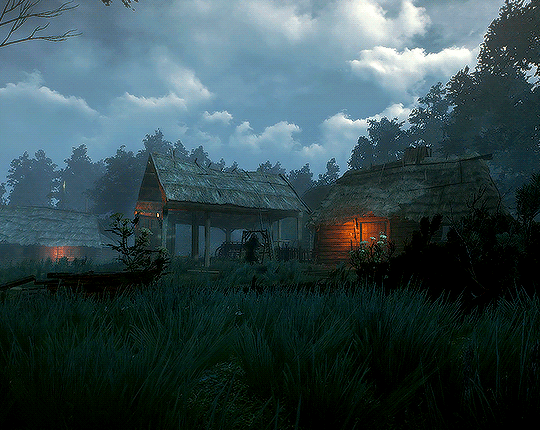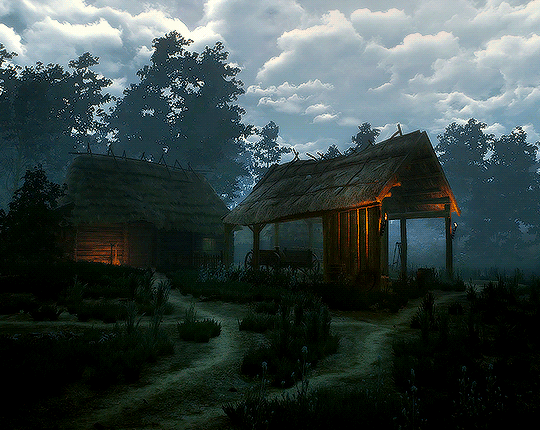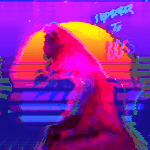Что почитать: свежие записи из разных блогов
sang lang, сообщество «Система обманщица для пушечного мяса»
Глава 213
Путь бессмертного 2
Лицо мачехи владельца тела побледнело, казалось, женщине правда было очень больно. Она раскрыла дрожащую ладонь, на которой не осталось живого места*.
* 血肉模糊 xiě ròu mó hú – кровь и плоть перемешались; кровавое месиво
Единокровный младший брат владельца тела думал, матушка притворяется, чтобы сломать нефритовую подвеску, и не ожидал, что она на самом деле пострадает. Он резко поднялся и схватил Цзин Яна за ворот одежды:
- Что ты сделал с матушкой?! Ты посмел обжечь её руку! Почему ты такой жестокий?!
Цзин Ян смахнул его руки:
- Я только получил подвеску, что я могу сделать за такое короткое время?
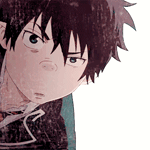
Лехтенстаарн, блог «Lehten»
Глава 2. Ирландская мифология (М. Даймлер)
Глава 2. Ирландская мифология. Часть 1
В ирландской литературе он фигурирует в основном как король фей в Стране Обетованной, таинственной стране в лохах и на море. Его характер кажется весьма противоречивым - ему приписывают множество хитроумных поступков, в то время как он был очень строг к морали других людей. При его дворе никому не дозволялось готовить еду, если, пока она находилась на огне, кто-то рассказывал неправду, и, как говорят, он изгнал трех человек из страны фей в ирландский двор Тары за ложь или несправедливые поступки.
Рис, Лекции Хибберта, 1886 г.

EricMackay, блог «EricMackay»
* * *
Ногайская знать в России XVI–XVII веков
Весьма ценная содержательно работа, очень нуждающаяся в вычитке и редактуре - мягко говоря. С полиграфией тоже беда - очень мелкий текст и скверного качества печать.
скрытый текстНогайские выходцы
скрытый текст
Вся рассматриваемая автором ногайская знать представляла собой потомков пресловутого Едигея / Эдиге, фактического правителя Золотой Орды на рубеже XIV - XV веков. Среди сыновей Эдиге наиболее заметными были Нур ад-Дин и Мансур, потомки первого стояли во главе Ногайской Орды, потомки второго возглавляли, в качестве карачи-беков, крымских мангытов.
Начиная с XVI века потомки Эдиге появляются в России, оказываясь здесь как добровольно, так и не очень и принимаясь на государеву службу. В статусном отношении они располагались между Чингисидами и служилыми князьями из местных инородцев (татарскими, мордовскими и проч.). При крещении ногайские выходцы получали наследственный княжеский титул. До 1590-х годов они числились служилыми князьями, позднее стольниками и дворянами московскими (обычно на первых местах в соответствующих списках). После Смуты их статус понижается, к концу XVII века ногайские выходцы перемещаются уже в нижнюю часть списков стольников и дворян, некоторые начинают службу стряпчими и даже жильцами. Приказные учреждения ровней им считают уже мещерских служилых татар, ранее стоявших много ниже.
До середины XVII века ногайские выходцы ведались Посольским приказом, позднее - Разрядом.
В русских документах XVI - XVII веков ногайские выходцы фигурировали под родовыми прозвищами (по имени какого-либо значительного предка, чаще всего бия). Как отмечается, генеалогия Эдигеевичей весьма запутана и сложна - как из-за разветвленности рода, так и из-за проблем с источниками. Автором выявлено примерно 200 ногайских выходцев и 25 их родовых прозвищ, по которым он их и группирует, размещая в порядке времени выезда в Россию.
Большинство ногайских родов пресеклось уже в описываемый период, к концу XVII века сохранялось 12 княжеских фамилий ногайского происхождения: Байтерековы, Кекуатовы, Кутумовы, Мамаевы, Мансуровы, Тинбаевы, Ураковы, Урусовы, Шейдяковы (2 рода) и Юсуповы (2 ветви). К середине XVIII века фиксируются представители лишь 5 фамилий - Кекуатовых, Ураковых, Урусовых, Шейдяковых, Юсуповых. До нашего времени дожили потомки князей Урусовых, Ураковых, Кекуатовых и Юсуповых (по женской линии).
Как отмечает автор, случаев выезда / пленения ногайских мурз было значительно больше чем приведено ниже - некоторые ногаи выезжали лишь для участия в войнах, другие жили временно и позднее возвращались в степь, пленных возвращали или обменивали, пленные мурзы XVII века растворялись в среде других пленников и т. д.
Общая динамика выездов выглядела следующим образом. Ногайские мурзы начали выезжать на постоянное жительство в Москву с начала XVI века, поначалу добровольно - вслед за своими свойственниками, татарскими царевичами. С середины XVI века добровольный выезд большей частью сменяется вынужденным - мурзы покидали степи (иногда просто высылались) из-за непрекращающихся кровавых междоусобиц. При этом, как и раньше, все еще сохранялась и возможность отъезда на родину.
На рубеже веков кандидатов на вынужденный отъезд все больше начинает определять Москва, убирая из степи оппонентов своих ставленников, возрастает число ногаев взятых в плен на поле боя. В некоторых случаях разрешение на выезд дается в качестве награды за крещение.
Во второй половине XVII века общее число выездов радикально сокращается. При этом все известные случаи - результат пленения в бою. Захваченных в плен мурз обычно пытались обменять на русских пленных. Если этого сделать не удавалось у мурзы оставалось два варианта - гнить в тюрьме или креститься.
Как отмечает автор, подавляющее большинство ногайских мурз, несмотря на высокий статус и щедрое материальное обеспечение, ощущали себя в России пленниками. Многие из них предпринимали попытки бежать за пределы страны. Положение меняется лишь начиная со второго поколения семей, выросшего или даже родившегося в России.
***
В списке ниже женское потомство ногайских выходцев большей частью игнорируется (мною, а не автором), указываются только сыновья (при наличии).
***
Жены татарских царей и царевичей
скрытый текст
Первые потомки Эдиге в России появились уже в конце XV века - это были жены казанских ханов. Так, в 1487 году в белозерскую ссылку вместе с мужем, свергнутым казанским «царем» Али б. Ибрагимом / Алегамом отправилась «царица» Каракуш, дочь ногайского бия Ямгурчи б. Ваккаса. После смерти первого мужа ее выдали за другого казанского хана, Мухаммеда-Эмина / Магмед-Аминя, вместе с которым она вновь бежала в Россию, живя в 1496 - 1502 годах в Кашире. Другой женой Мухаммеда-Эмина, жившей с ним в Кашире, была еще одна дочь Ямгурчи, Фатима. Она же, возможно, позднее была замужем за еще одним казанским ханом, пресловутым Шах-Али / Шигалеем и, соответственно, бегала в Москву из Казани уже с ним.
Ногайских жен имели и другие выезжие Чингисиды - крымский царевич Мурад-Гирей (выехал в 1585 году), ургенчский царевич Мухаммед-Кул (1595?), плененные в 1598 году сыновья Кучума, царевичи Канай и Али (женатые, соответственно, на дочерях биев Уруса и Дин-Ахмеда).
Как отмечает автор, помимо перечисленных случаев наверняка имелись и другие, нам неизвестные.
Мансуровы, Канбаровы и Тевекелевы
скрытый текстПотомки одного из указанных сыновей Эдиге - Мансура и сына последнего, Дин-Суфи.
Между мартом 1502-го и октябрем 1505 года в Москву выехал внук Дин-Суфи Канбар б. Момола, приходившийся племянником большеордынскому и крымскому беку Хаджике б. Дин-Суфи. В Москве он находился видимо на положении служилого князя, являясь достаточно заметной фигурой. В 1505 - 1507 годах его службы фиксируются разрядами: в октябре 1505 года Канбар-мурза Мамалеев был в Муроме с касимовским царевичем - по казанским вестям; в июле 1507-го ходил на Литву из Северы во главе передового полка (вместе с удельным воеводой кн. Юрия Дмитровского); в сентябре того же года опять ходил на Литву, руководя передовым полком уже единолично (что весьма нетипично). После 1507 года не упоминается.
У Канбара было двое сыновей - Ак-Мухаммед и Тевекель.
Службы Ак-Мухаммеда в 1519 - 1541 годах фиксируются разрядами, он видимо командовал каким-то собственным татарским отрядом, составляя компанию своим свойственникам, сибирским царевичам Ак-Даулету и Шах-Алею (под присмотром русских приставов) - большей частью в походах против литвы.
Сын Ак-Мухаммеда Ураз-Али / Уразлый сделал большую карьеру. В разрядах Ураз-Али Канбаров упоминается с 1551 года, в 1558 году он крестился, став князем Иваном Махметевичем / Ахметевичем Канбаровым. В 1560 - 1563 годах князь назначался первым воеводой сторожевого и передового полка на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1566 годах - уже второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву. В 1570 году Канбарова отправили послом в Польшу (умер в дороге).
О другом сыне Канбара, Тевекеле, сведений не имеется. У него имелся видимо сын Мавкош, также ничем не прославившийся. Сын этого Мавкоша сделал заметную карьеру. Мусульманское его имя неизвестно, после крещения он именовался князем Иваном Мовкошевичем («Мавкошевым сыном») Тевекелевым (вар. Девелетевым, Теукечевым, Теукелевым, Теукчеевым), а в одном случае даже Иваном Тевекелевичем Канбаровым. В Тысячной книге князь записан по Торжку - сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном. В 1558 - 1572 годах служил в основном в головах и рындой, хотя в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года - первый воевода передового полка в «немецком походе». «Выбыл» в 1576/77 году. Некий кн. Иван Девлетевич Тевкелев в 1570 - 1575/76 числился также оружничим, однако достоверность этого известия сомнительна.
В XVII - XVIII веках упоминаются и другие князья Канбаровы. Так, в 1630 году крестился некий Тимофей Абдул-мирзин сын Канбаров (Камбаров, Канбаев), числившийся служилым иноземцем по Царевококшайску. Его родство с вышеописанными Канбаровыми сомнительно. В 60-80-х годах XVIII века упоминаются еще какие-то князья Канбаровы, их происхождение неизвестно.
Вероятно вместе с Канбаром в Москву выехал и его двоюродный брат Бибей б. Ибрагим, с сестрами Борнушей и Ош-салтаной. Борнуша позднее была выдана замуж за сибирского царевича Ак-Даулета б. Ак-Курта, а Ош-салтана, вероятно, за астраханского царевича Шейх-Аулеара б. Бахтияра и возможно была матерью (или мачехой) пресловутого Шах-Али, казанского и касимовского царя.
О самом Бибее известно лишь, что через какое-то время после выезда он крестился, став князем Владимиром. У него имелся сын Дохие, в крещении - Семен. В Тысячной книге он записан князем Семеном Васильевичем Бибеевым, сыном боярским 2-й статьи, новокрещеном - по Ржеве Володимеровой.
Каким-то образом (захвачен в плен?) в Москве оказался и принял крещение еще один Мансур - некий Иван, сын Мевлеша, внук Тевшина / Тениша. Последний (Тениш б. Джанкуват б. Дин-Суфи) приходился двоюродным братом Канбару и был, как и его отец, крымским карачи-беком.
В XVII веке в России упоминаются новые Мансуры. В 1643 /44 году в Астрахани крестили выехавшего еще в 1639 году из Крыма Адиля-мурзу Мансурова. В боярских книгах и списках он отсутствует.
В 1670/71 или 1671/72 году крестился белгородский мурза Антемир (Байтемир) Мансуров, взятый в плен под Севском в 1667/68? году. Больше о нем ничего не известно. Как отмечает автор родовое прозвище Мансуры начинает употребляться в документах только в XVII веке, ранее оно не использовалось
Автор включил в эту группу и пресловутого Дивея-мурзу (Дивея б. Хасана), крымского карачи-бека и ближайшего сотрудника Девлет-Гирея, захваченного в плен под Молодями и подохшего в 1575 году.
Кутумовы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мухаммеда б. Мусы.
В 1564 году в Москву «из Нагаи» с отрядом выехал внук бия, Айдар б. Кутум б. Шейх-Мухаммед, вероятно вместе с братом Али (Алеем). Об Айдаре больше почти ничего не известно. У него имелось два сына - Еналей и Кузей, вероятно погибших в Смуту.
У Али б. Кутума известны два сына - Ахмед и Барай и дочь - Салтан-бике, жена трех последовательно сменявших друг друга касимовских царей (Мустафы-Али, Ураз-Мухаммеда и Арслана б. Али). Еще одна, безымянная, дочь мурзы возможно была женой известного сибирского царевича Маметкула, военачальника Кучума.
Ахмед вероятно погиб в Смуту, а вот Барай б. Али дожил до 1646? года, оставив многочисленное потомство - известно восемь его сыновей (Хан, Сафаралей / Петр, Ирбетя (Ибердей) / Тихон, Тахтаралей, Ем, Шекурей, Опаш и Касбулат). Большой карьеры никто из князей Бараевых не сделал.
Старший из сыновей, Хан, умер до марта 1657 года. Его сын Надыр / Дмитрий в 1680 году крестился под давлением властей. На 1685/86 год - стольник, с 1703 года в отставке, умер до 1708 года.
Сафаралей / Петр крестился в 1647 году, тогда же пожалован в стольники, умер в 1652/53 году. Его сын Дмитрий, тоже стольник, в 1679/80-м сослан Кирилло-Белозерский монастырь.
Ибердей / Тихон крестился в 1629 году, тогда же пожалован в стольники, в 1650-м выписан из стольников в московские дворяне, умер в 1658/59 году.
Тахтаралей ничем не известен, его сын Джадигер / Федор крестился в 1680 или 1681-м, на 1685/86 и 1691/92 годы числился стольником, умер не позднее декабря 1696-го. Сын его, Иван Федорович, на 1685/86 год стольник, умер не позднее 1703 года.
О Еме, Шакурее и Опаше сведений нет.
Почти ничего не известно и о Касбулате. В 1680 или 1681 году у него, за отказ креститься, отписали 79 дворов в Романовском уезде и отправили жить в Вологду, в качестве кормового иноземца. У Касбулата было 6 сыновей, из которых относительно известен один - Каплан / Петр. Он крестился в 1688 году и именовался князем Петром Касбулатовым. На 1685/86 год - стольник (ведался после крещения почему-то в Иноземном приказе), упоминается до 1705 года. По некоторым сведениям воспреемником князя при крещении был. кн. В. В. Голицын (и отечество его было Васильевич) и в 1689 году он посылался с царским жалованьем к Мазепе.
В начале XVIII века этот род пресекся.
Кошумовы
скрытый текстПотомки Хаджи-Мухаммеда (Кошума), нурадина Ногайской Орды, брата бия Саид-Ахмета и сына бия Мусы б. Ваккаса.
В 1567/68 году в Москву для участия в войне с Литвой прибыли Караул и Яныш, сыновья Асанака* (Хасанака) б. Хаджи-Мухаммеда (Кошума) б. Мусы.
Примерно в то же время выехал и позднее крестился Салтангазы (Султан-Гази) б. Хаджи-Мухаммед, в крещении - князь Никита Кошумов. [Судя по тексту - дяда Караула и Яныша, однако на приводимой авторской схеме показан сыном Хасанака и, соответственно, братом первых двух]. Был видимо романовским помещиком.
В XVII веке известен еще один князь Кошумов. В 1637/38 году в Воронежском уезде попал в плен некий мурза Алей Кошумов. В 1642/43 году он крестился и стал князем Василием Кара (Карай, Корай) мурзиным сыном Кошумовым. в 1649/50 - 1654 годах - дворянин московский. Характер его родства с предыдущими Кошумовыми неизвестен.
* Женой этого Асанака была сестра царевича Бекбулата, отца известного кн. Симеона Бекбулатовича, неоднократно навещавшая своих родственников в России.
Уразлыевы
скрытый текстВнуки бия Шейх-Мухаммеда.
В 1560 - 1561 годах в Москву, в связи с усобицей в Ногайской Орде, выехали сыновья Ураз-Али б. Шейх-Мухаммеда - Пулад, Тимур, Бабаджан (Бибизян) и Тохтар. Тохтар позднее вернулся в степи, судьба Пулада неизвестна. Тимур и Бабаджан Уразлыевы, а также сын Тохтара Эль отмечены в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года как прежние помещики.
Юнусовы, Юсуповы, Юсуповы-Княжево
скрытый текстПотомки бия Юсуфа б. Мусы.
Первой представительницей рода оказавшейся в России была женщина - пресловутая Сююн-бике, жена казанских ханов Джан-Али / Яналея и Сафа-Гирея и бывшего казанского хана и касимовского царя Шах-Али / Шигалея (1551 год).
После убийства в 1554 году бия Юнуса и «воцарения» его младшего брата Ибрагима, в Москву начали выезжать конфликтовавшие с дядей потомки покойного бия.
Весной 1558 года выехал один из сыновей сын Юсуфа - Юнус б. Юсуф. Он был всячески обласкан, но уже в мае 1561 года умер. В России жило трое его сыновей - Бий-Мухаммед, Ак-Мухаммед и Тин-Али / Тиналей. В конце 1560-х они были испомещены в Романовском уезде. Ак-Мухаммед, по некоторым сведениям, позднее уехал в Малую Ногайскую Орду. Тин-Али в 1570 году бежал вместе с другими ногаями в Литву, а оттуда в Крым (см. ниже).
Вместе с Юнусом выехал его малолетний племянник Дан-Али б. Али б. Юсуф. Возможно это упоминаемый русскими документами Наделы Алеев сын Хромого, романовский помещик и еще один участник побега 1570 года.
В 1564 году бий Исмаил выслал в Москву других сыновей Юсуфа - Ибрагима и Эля. Они были также испомещены в Романовском уезде. В 1570 году Ибрагим Юсупов, после ссоры с опричником Романом Пивовым, вместе с одним из своих сыновей, Тиналеем Юнусовым и двумя неидентифицируемыми мурзами (упоминавшимся Наделы Алеевым и неким Ахмалой Бештавзином) бежал в Литву, а оттуда - в Крым (позднее перебрался в Малые Ногаи).
В России у Ибрагима осталось два сына - Сеит-Мухаммед и Сююш.
Сеит-Мухаммед («Сеит-Мамет-мурза Абреимов») в дозорной книге Романовского уезда 1593/94 года упоминается как прежний помещик. У него был сын - «Козяк (Хозяк) мурза Сеит-Магметев сын Юсупов» (упоминается в 1609 году), бывший видимо племянником касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
У Сююша также был сын - Ибрагим / Никита. Князь Никита Исеушевич Юсупов в боярских списках 1606/07, 1610/11 и 1626 годов числится дворянином московским. За московское осадное сиденье 1618 года пожалован переводом части кашинского поместья в вотчину. Последнее упоминание - 1647/48 год.
У Никиты было четверо сыновей - Федор, Василий Большой, Василий Меньшой и Андрей и дочь Анна.
Анна была замужем за Иваном Гавриловичем Хлоповым, родственником несостоявшейся царской супруги, патриаршим стольником и позднее дворянином московским.
Федор - стольник с 1641 года, умер не ранее 1667-го.
Андрей - с 1638 года стряпчий, с 1667-го - дворянин московский, умер не ранее 1667 года. У него был сын Петр, жилец с 1696/97 года, позднее возможно стольник, умер не ранее 1720-го, сын Иван - к 1719 году прапорщик Рязанского пехотного полка.
Василий Меньшой в 1660/61 пожалован в стряпчие из жильцов, служил до 1676 года, умер не ранее 1721-го. У него был сын Иван, жилец с 1695/96 года.
Василий Большой имел семерых? сыновей - Ивана (стряпчий с 1671/72, стольник с 1676/77, умер ок. 1708 года), Василия (дворянин московский с 1675/76, умер до 1720 года), Петра (стряпчий с 1681/82, стольник с 1691/92, умер ок. 1708 года), Бориса (дворянин московский с 1680/81, умер ок. 1708 года), Леонтия, Алексея и Федора. Борис, Иван, Василий и Алексей тоже имели сыновей, но никто из них в петровские времена выше армейского обер-офицера не поднялся.
Эль б. Юсуф (умер между августом 1610 и сентябрем 1611 года) имел трех сыновей - Сююша, Бая и Чина (Чин-Мухаммеда).
Бай погиб в Смуту, между августом 1610 и сентябрем 1611 года.
Чинбыл видимо сыном от брака с сестрой сибирского хана Кучума и какое-то время жил в Сибири. В 1595 году он с семьей сдался русским в Таре и был отправлен в Москву. Погиб или умер во время Смуты (до ноября 1608?). У Чина было вероятно три сына - Будай, Петр (на 1607/08 стольник, на 1610/11 - «в измене») и Корел (в другом месте именуется Корепом, сын сестры крымских выходцев Юрия и Василия Сулешевых).
У Корела / Корепа был сын Бий, унаследовавший вотчины деда, Юрия Сулешева. В 1639/40 году он крестился и стал князем Иваном Кореповичем Юсуповым (Исуповым). В 1649 году сослан с семьей на Белоозеро. Стольник, после 1651/52 - дворянин московский, умер не ранее1676/77 года. Его жена Мария была племянницей боярина кн. Бориса Александровича Репнина. Сын Семен - с 1671/72 года стряпчий, с 1675/76 - стольник, умер не ранее 1685/86 года.
Сююш (умер в 1656 году) унаследовал большую часть семейных земель и имел обширное потомство. У него было пятеро сыновей - Абдулла / Дмитрий, Джан, Иштерек, Ислам и Ак.
Иштерек (умер в 1654/55) и Ислам (умер до 1659 года) потомства видимо не имели.
Джан имел двух сыновей - Бая (умер в 1664/65 году) и Хана / Ивана (крестился в 1681-м, умер в 1682 году).
Ак также имел двух сыновей - Ая / Алексея (крестился под нажимом властей в 1681-м, в том же году умер) и Сендегу / Петра (стольник в 1685/86 - 1691/92, умер в 1692 году).
Наиболее многочисленной и успешной была линия Абдуллы / Дмитрия. В 1680/81 он крестился под нажимом властей. Вместе с ним крестились и сыновья, известные уже под христианскими именами - Матвей, Иван и Григорий.
Иван имел чин стольника, умер в начале 1700 года. Его сын Александр умер в 1741 году, не оставив потомства.
Матвей также имел чин стольника, упоминается до 1721 года, у него был сын Михаил.
Григорий (1676 - 1730), благодаря близкому юношескому знакомству с царем Петром сделал прекрасную карьеру, дослужившись в итоге до генерал-аншефа (1730 год). Был женат на дочери окольничего Н. И. Акинфиева. У него было трое сыновей - Григорий, Сергей и Борис. Григорий [умер в 1737 году] дослужился до драгунского полковника, Сергей (умер ок. 1733 года) - до армейского подполковника. [Борис (1695 - 1759) сделал блестящую карьеру - московский и петербургский губернатор, президент Коммерц-коллегии, тайный советник и пр. Он и его потомство, собственно и составили славу рода Юсуповых].
Потомки Сююша, желая отделить себя от прочих Юсуповых до конца XVIII века называли себя Юсуповы-Княжево
В целом, как видно, из всего этого обширного рода в долгосрочном плане преуспела только одна ветвь потомков Сююша.
Шейдяковы
скрытый текстПод этим родовым прозвищем скрывались представители двух разных родов - потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы и потомки Саид-Ахмеда б. Мухаммеда б. Исмаила б. Мусы - выходцы из Малой Ногайской Орды. Генеалогия Шейдяковых весьма запутана и часто сложно понять к какому из указанных родов относится соответствующий персонаж.
Потомки ногайского бия Саид-Ахмеда б. Мусы.
Саид-Ахмед (Сейдяк, Шидак, Шейдяк - отсюда Шейдяковы) считался в Москве старшим из сыновей Мусы б. Ваккаса и его потомки обладали наиболее высоким статусом среди всех ногайских выходцев XVI века. Позднее их «общегосударственный» статус понизился, однако в среде татарских выходцев оставался высоким и в XVII веке.
В 1568 - 1570 годах впервые упоминаются некие Аман-Газы и Дос-Магмет «Шиидяковы дети княжие». Первый вероятно внук Саид-Ахмеда Аман-Газы б. Тутай, второй - то ли сын Саид-Ахмеда Дурс-Мухаммед, то ли сын этого самого Дурс-Мухаммеда (автор склоняется ко второй версии). В начале 1570-х оба они вероятно крестились, став соответственно князьями Петром Тутаевичем и Афанасием Шейдяковыми. Оба сделали неплохую карьеру.
Петр Тутаевич Шейдяков в разрядах упоминается в 1571 - 1580 годах. Он занимал высокие воеводские должности - первый воевода передового, сторожевого, правой руки [и большого] полков, был наместником во Пскове и проч. Умер в 1581 году.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1586 годах бывал первым воеводой большого полка, наместником Юрьева, осадным воеводой в Новгороде. В 1588 году попал видимо в опалу - взят за пристава и позднее высоких должностей не занимал, умер в 1602 году.
В 1571 году в источниках появляется князь Иван Келмамаевич Келмамаев. Высокий статус князя несомненен - его женили на дочери Малюты и проч., однако происхождение неясно. Автор предполагает, что он мог быть правнуком Саид-Ахмеда - сыном Кель-Мухаммеда (Кель-Мамая) б. Кель-Мухаммеда б. Саид-Ахмеда. В 1571 - 1572 годах - рында с большим саадаком у царевича Ивана Ивановича. Умер в 1573 году.
Помимо этого в 1560 - 1570 годах в России видимо находились сыновья Атая б. Саид-Ахмеда (еще одного сына бия) - некий безымянный и Мустафа Татаев (Атаев) сын Шейдяков (насчет происхождения последнего имеются разные версии, автор его считает сыном Атая). Последнего вероятно крестили в 1571 году.
В Смуту (боярский список 1606/07 года) упоминается еще какой-то новокрещен стольник князь Михаил Шейдяков. «Изменил» в в июле 1608-го (отъехал в Тушино?).
Еще одна семья Шейдяковых также видимо происходила из Большой Ногайской Орды и предположительно относилась к потомкам Саид-Ахмеда. Статус семьи был достаточно высок - только с этой ветвью Шейдяковых в XVII век заключали браки служилые Чингисиды.
Где-то на рубеже XVI - XVII веков в России оказались Еналей (Джан-Али), Каплан и Алей Тугановы дети Шейдяковы, вместе с дядей, Теникеем, Оксаровым (Аксаровым) сыном. Последний вероятно был сыном или внуком Саид-Ахмеда.
Еналей (Алей) в Смуту видимо изменил и в декабре 1610-го был убит казаками в Калуге, в отместку за убийство татарами Вора. У него были сыновья Девлет (Девлет-Мамет), Канай / Алексей и Зорбек / Федор.
Девлет в 1625 году упоминается как кормовой иноземец в Ярославле, умер в 1646 году. Он был женат на дочери Кучума Молдур и вдове касимовского царя Арслана б. Али Нал-ханише.
Канай был женат на племяннице касимовского царя Арслана б. Али. Позднее крестился с именем Алексей, на 1651/52 год дворянин московский. В 1653 году, вместе с сыновьями Сафа-Гиреем / Василием и Шин-Гиреем / Никифором арестован по (сомнительному, по мнению автора) обвинению в попытке отъехать в Польшу. Умер в 1653/54 году. Помимо Василия и Никифора у Каная / Алексея было еще два сына - Давыд Алексеев? (на 1675/76 - 1676/77 годы - дворянин московский) и другой, остающийся безымянным
Зорбек был прижит с наложницей, позднее жил у дяди Теникея и его сына Кул-Мухаммеда, пытавшегося его похолопить, бежал и в 1621/22 году крестился, став князем Федором Еналеевичем (Аналеевичем) Шейдяковым. В 1626 - 1649 годах дворянин московский. Был женат на дочери кн. Романа Петровича Пожарского (двоюродного брата национального героя). У князя был сын Михаил (стольник с 1657/58 года, умер в 1687-м воеводой Соликамска). У Михаила имелось три сына - Семен (на 1712 год - жилец и армейский капитан, позднее асессор Сенатской конторы), Афанасий (стольник с 1685/86 года, на 1722 год - вице-президент Ярославского надворного суда) и Яков (стольник царицы Прасковьи в 1685/86 году). У Якова были сыновья Афанасий (на 1706 год числился среди полковников, подполковников и начальных людей) и Григорий (на 1706-й - стольник). Потомки Григория известны до начала XIX века, но особой карьеры не сделали (максимум - гвардейский поручик). Это единственная ветвь Шейдяковых дотянувшая до XIX века.
Каплан Туганов (Таганов) умер в 1627/28 году. У него было четверо сыновей - Эрмамет (Ир-Мамет, Ураз-Мухаммед?), Бий / Абрам, (Канай) / Иван Большой и Салтанай / Иван Меньшой. Трое последних пожалованы в стольники из новокрещенов в 1649 году, умерли в 1654/55, 1658/59 и после 1708 года соответственно.
У Бия / Абрама были сыновья Роман (стольник в 1649 - 1666/67 годах) и Василий, у Салтаная / Ивана Меньшого - сыновья Василий (на 1706 год в списке полковников и других начальных людей, умер не позднее 1711 года) и (вероятно) Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92, упоминается до 1700 года).
У упомянутого выше дяди перечисленных Шейдяковых, Теникея б. Аксара, был сын Кул-Мухаммед (Келмамет, Клеш) / Артемий, крестившийся в 1621/22 году и имевший чин дворянина московского (умер к 1623/24? году). У него имелись сыновья Федор и Михаил (стольники с 1629 года).
У Федора был сын Иван (стряпчий с 1675-го, стольник с 1685 года), трое сыновей последнего (Федор, Алексей и Иван) в начале XVIII века числились армейскими обер-офицерами.
У Михаила были сыновья Лев (комнатный стольник царя Ивана Алексеевича с 1685/86 года, на 1709 год армейский капитан), Афанасий (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, позднее обер-комендант и вице-президент [Владимирского?] надворного суда) и Семен (на 1712 год жилец и армейский капитан).
Известен также некий Сафарлей (Сафар-Али) Арасланов сын Шейдяков, выехавший, по мнению автора, в конце XVI века и испомещенный не позднее 1606/07 года в Юрьеве-Польском. Его женой была то ли сестра, то ли тетка касимовского царя Ураз-Мухаммеда.
Малоногайская ветвь Шейдяковых
В 1620 году в Москве крестился внук бия Малой Ногайской Орды Касима - Бек (Батук) б. Султан (Султанаш) б. Касим б. Ислам б. Саид-Ахимед, ставший дворянином московским князем Леонтием Султанашевичем Шейдяковым. В Москву его привезли еще в 1617 году из Михайлова - в качестве «языка». Умер в 1641/42 году.
У Бека / Леонтия имелся брат Дмитрий (мусульманское имя неизвестно), выехавший видимо уже на рубеже XVI - XVII веков (на 1606/07 год в боярском списке записан стольник кн. Дмитрий Салтанаш-мурзин сын Шейдяков). После 1614/15 года он бежал [в степь?], но затем то ли попал в плен, то ли вернулся добровольно. В 1621 году его сослали в Устюг «за измену», простив не позднее 1637/38 года. У князя был сын Борис (стольник в 1647 - 1667 годах, в 1679-м послан под начало в Кирилло-Белозерский монастырь - за пьянство). У Бориса были сыновья Иван (стольник в 1685/86 - 1691/92 годах, в 1700-м повешен за убийство) и Федор (на 1691/92 год стряпчий, с 1703-го в отставке, умер в 1705-м).
У Леонтия и Дмитрия был еще один брат Хан, также оказавшийся в России и имевший двух сыновей - Григория (стольник в 1685 - 1692 годах, умер 1704-м) и Бориса.
К этому же роду относились двоюродные братья Леонтия, Дмитрия и Хана - Белек / Федор, Степан, Исай и Урак?
Белек (Белек-Темир) б. Навруз б. Касим попал в русский плен в 1633/34 году, в ходе похода окольничего П. Ф. Волконского на Малых Ногаев и долго сидел на «аманатском дворе» в Астрахани. В 1650 году он крестился и стал князем Федором (стряпчий с апреля 1654 года, упоминается до 1667-го).
Урак*, Степан и Исай были видимо отпрысками другого сына Касима - Казбулата. Судя по челобитной Урака Степан и Исай на 1637/38 год получали поденный корм. По предположению автора оба они попали в плен под Саратовым в 1627/28 году и сидели в вологодской тюрьме до крещения в 1630/31-м. В документах имеются и иные упоминания Степана и Исая Шейдяковых, однако неясно те же это лица или нет.
С 1649 года упоминается также некий дворянин московский князь Исай Чегорда-мирзин сын Шейдяков (убит в 1659 году под Быховым), тоже возможно внук Касима. У него имелись сыновья Петр (на 1680/81 год стряпчий, на 1691/92 - стольник) и Михаил.
***
Помимо этого известно еще некоторое число Шейдяковых генеалогия которых неясна, но большей частью это видимо выходцы из Малых Ногаев.
Около 1560 года в Москву выехал некий Мустафа б. Тата (Татай) б. Саид-Ахмед - уже в 1561-м отпущен в степь по просьбе бия Исмаила.
В 1614/15 году крестили Дивея / Семена мирзу Шейдякова. Позднее он «побежал» с кн. Дмитрием Салтанаш-мирзин сыном Шейдяков (см. выше), позднее был пойман и сослан в Устюг, где и умер в 1621 году.
В 1622/23 году крестили некоего Дин-Али (Тиналея) Шейдякова. Больше о нем ничего не известно.
В сентябре 1637 года в Новосильском уезде пленили Солох-мирзу (Такаева) Токаева сына Шейдякова - в 1639/40 году крестился под именем Иван, умер в 1646 году.
В 1648/49 году крестился некий Кочюк / Дмитрий Такаев - возможно брат предыдущего.
В 1648/49 году выехал Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков, в 1653/54 - 1664/65 годах - московский дворянин.
В 1689/90 - 1691/92 годах в боярских списках числится стольник Григорий Толбундинов Шейдяков (упоминается до 1721 года).
На 1700 год по «сказкам» Генерального двора в России проживало всего 10 мужских представителей рода Шейдяковых. До начала следующего столетия, как уже отмечалось, дотянула лишь одна, ничем особо не примечательная, ветвь.
* Неясно жил ли он вообще в России - в тексте упоминается его челобитье 1637/38 года о повышении оклада брата, но больше никаких сведений не приводится, на авторской генеалогической схеме он показан в России не жившим.
Смайлевы
скрытый текстПотомки Ханбая б. Исмаила, сына бия Исмаила.
Среди захваченной в 1598 году в Сибири родни хана Кучума имелся и его внук Зен-Магмет (Джан-Мухаммед). Позднее в Россию выехал отец этого Зен-Магмета [и видимо внук бия Исмаила], ногайский мурза Бегай (Бегей) б. Ханбай б. Исмаил (на 1609 год числился дорогобужским помещиком). Позднее Бегай-мурза Смайлев с семьей оказался в Смоленске и затем видимо служил Сигизмунду (некий Бегай-мурза Ханбаевич в 1610 - 1612 годах был пожалован королем дорогобужским поместьем). Позднее [у автора указано число и месяц, но не указан год] он с семьей выехал в осаждавшую Смоленск армию кн. Д. М. Черкасского, был отправлен в Москву и испомещен в Суздальском уезде. К ноябрю 1627 года Бегай крестился с именем Семен (пожалован в стольники), умер в 1632/33 году.
У Бегая / Семена имелись сыновья Сары / Лев (крестился в 1625-м, пожалован в стольники, умер в 1642/43 году), Деян / Дьян (возможно это упоминавшийся Зен-Магмет / Джан-Мухаммед, умер в 1621/22 году), Бирим и, возможно, Козей (на 1636 год кормовой иноземец в Ярославле) и Акманай (на 1642/43 кормовой иноземец в Ярославле, в 1653-м упоминается как член двора касимовского царевича Сеит-Бурхана).
У Деяна / Дьяна был сын Прокопий / Александр (крестился в 1625-м?, стольник, упоминается до 1652 года).
Шихмамаевы
скрытый текстПотомки бия Шейх-Мамая б. Мусы.
В боярском списке 1606/07 года отмечены правнук бия стольник кн. Петр Акназар-мурзин сын Шихмамаев (б. Хак-Назар б. Бай б. Шейх-Мамай), стольник кн. Григорий Келмамет-мурзин сын Шихмамаев (тоже видимо правнук Шейх-Мамай, но генеалогия его неизвестна) и некий дворянин московский Иван Шихмамаев. Как они оказались в Москве неизвестно, возможно это было как-то связано с вывозом в Россию толпы Кучумовичей на рубеже веков.
Ахметевы
скрытый текстВ начале XVII века упоминаются несколько Ахметевых, вероятно ногайских мурз и членов одной семьи, однако их происхождение остается неясным.
В 1609 году в Ростовском уезде упоминается некий Касым-мурза Ахметев, вероятно ногайский мурза. В 1616 году неких Пантелея-мурзу Касымова Ахметева и его племянника Досая Ангилдеева (Кангилдеева) сына Муратова (в 1625 году упоминается уже как Досай Касымов) кинули в тюрьму, вероятно за попытку бежать из России. В 1619-м обоих выпустили, но поместий не вернули и перевели в ярославские кормовые иноземцы.
Урусовы
скрытый текстПотомки бия Уруса б. Исмаила. Единственный серьезно преуспевший в описываемый период ногайский род - части Урусовых удалось войти в состав русской правящей элиты.
После убийства бия Большой Ногайской Орды Уруса б. Исмаила в 1590 году его сыновья вели упорную борьбу против своих дядьев, биев Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила и Дин-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда б. Исмаила, убив в итоге обоих. В конце-концов в эту распрю напрямую вмешалась Москва, посадив бием младшего брата погибших - Иштерека б. Дин-Ахмеда. Возглавлявший «Урусовых детей» Джан-Арслан б. Урус в 1601 году попал в русский плен, в 1604-м был отпущен обратно в степь, однако в 1614 году был вновь арестован русскими властями и в апреле 1615-го умер в Казани. В России жили также сыновья Джан-Арслана - Урак / Петр, Зорбек / Александр и Тук / Иван и его племянники - Андан / Борис, Бий / Петр и Касай / Андрей.
Урак / Петр оказался в Москве еще при первом пленении отца, позднее был крещен, став князем Петром Еруслановичем Урусовым (впервые упоминается в июле 1604 года). Князя «не по ево воли» женили на вдове кн. А. И. Шуйского (урожденной Годуновой), обеспечив и обширными земельными владениями (по росписи 1604 года выставлял 47 человек = 4700 четей). На 1606/1607 год - первый в списке стольников. В том же году бежал из под Тулы в Крым или к ногаям. Позднее вернулся и, возглавляя отряд юртовских татар, с осени 1608 года служил Вору в Тушине, а потом в Калуге. В декабре 1610 года убил Вора в Калуге и снова бежал в Крым, где принимал активное участие в политической борьбе, в 1639 году казнен в Бахчисарае.
Зорбек / Александр оказался в Москве вместе с братом и в дальнейшем разделял его судьбу - крещен при Борисе, на 1606/1607 год - стольник, бежал с Петром из под Тулы, вернулся в Россию и служил Вору, снова бежал в Крым.
Иван / Тук попал в руки русских властей после освобождения Астрахани от воров (май 1614-го), позднее был крещен и вывезен в Москву, после 1616 года не упоминается.
Андан (Ондан) б. Хан б. Урус и его брат Бий также попали в руки русских властей в Астрахани после мая 1614-го и позднее были крещены, став стольниками князьями Борисом и Петром Кановичами Урусовыми. Оба участвовали в московском осадном сидении 1618 года. Борис умер в феврале 1618-го, Петр в 1628 году был взят за пристава за попытку сбежать в Крым, в 1629-м сослан в Вятку, где сидел в местной тюрьме.
Еще один племянник Джан-Арслана Касай б. Саты, также видимо попал в руки русских властей в Астрахани, вместе с дядей и двоюродными братьями, и также был крещен, став стольником князем Андреем Сатыевичем Урусовым. Участвовал в московском осадном сидении 1618 года, позднее упоминается как дворянин московский, умер в 1642/43 году. По жене, Марии Васильевне Тюменской, был в родстве с Шереметевыми. Имел сына Семена.
Семен Андреевич Урусов был женат на дочери боярина кн. Бориса Михайловича Лыкова Федосье (двоюродной сестре царя Михаила Федоровича) и благодаря этому браку сделал прекрасную карьеру - с 1637 года стольник, в 1641 - 1645 годах - кравчий, с марта 1655 года - боярин. Умер в 1657 году. Четверо его сыновей (Петр, Юрий, Никита и Федор) также стали боярами.
Петр Семенович (1636 - 1686), стольник с 1654 года, кравчий с 1658 года, боярин с 1676 года. Сыновья - Василий [стольник, умер в 1677-м] и Григорий.
Никита Семенович (1640 - 1691), стольник с 1654 года, боярин с 1679 года. Имел сыновей Ивана, Якова, Семена, Алексея и Федора. [От Алексея и Семена Никитичей пошли ветви последующих князей Урусовых].
Юрий Семенович, стольник с 1661 года, боярин с 1676 года, умер не ранее 1713-го.
Федор Семенович, стольник с 1661 года, с 1680 года боярин, умер в 1694-м. Был женат на Фекле Грущецкой, сестре первой супруги царя Федора Алексеевича.
Барангазыевы
скрытый текстСыновья бия Малой Ногайской Орды Баран-Гази б. Саид-Ахмеда б. Мухаммеда.
Каплан б. Баран-Гази выехал при Борисе Годунове и позднее крестился. В боярском списке 1606/07 года он князь Федор Барангазыев-мурзин сын Шидохметев. В Смуту он повсюду таскался с Петром Ураковым - был с ним в Тушине, Калуге и в Крыму. Позднее перебрался в Малые Ногаи, а от них - под Астрахань. В 1630/31 году Каплана / Федора взяли в плен астраханские служилые люди, он прошел обряд исправления веры, снова став князем Федором и даже успел жениться, но в 1633/34 году помер.
Зор б. Баран-Гази, младший брат Каплана, крестился в Астрахани в 1635/36 году, став князем Григорием. Позднее был написан по московскому списку, в 1640 году переведен в Москву и упоминается в боярских списках до 1649 года.
Исуповы
скрытый текстПроисхождение неизвестно (не путать с Юсуповыми и русскими дворянами Исуповыми).
В 1642/43 году в Москве известен некий Дементий Исупов.
В 1644 году в Астрахани пожелал креститься некий мурза Кантемир Сары Исупов.
Иштерековы
скрытый текстВнук бия Иштерека б. Дин-Ахмеда новокрещен князь Иван Магмет-мурзин сын Иштереков в 1634/35 или 1636/37 году перебрался в Москву из Астрахани и был записан стольником. В 1639 - 1640 годах в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре, позднее возвращен в Моску, умер в 1643 году.
Тинмаметевы, Кейкуватовы, Егенеевы*, Байтерековы
скрытый текстПотомки сыновей бия Дин-Ахмеда - бия Дин-Мухаммеда (Тинмамета) и его младшего брата нурадина Большой Ногайской Орды Байтерека.
Когда начались выезды представителей этой семьи неизвестно, в русских документах они упоминаются под разными именами.
В 1625 году сына Дин-Мухаммеда Урака Тинмаметева русские власти обвинили в ссылках с Крымом и выслали с семьей из астраханских улусов в Кострому. Умер он около 1628 года. Перед смертью возможно крестился с именем Петр. Сын его Прокопий крестился в 1628 году, в боярских списках упоминается в 1652/53 - 1667/68 годах - как дворянин московский князь Прокопий Урак-мурзин сын Тинмаметев.
В 1644 году крещен еще один астраханский выходец, Кантемир-мурза Сары Исупов - в крещении князь Алексей Исупов Тинмаметев (на генеалогической схеме показан двоюродным племянником Прокопия Тинмаметева, внуком Исупа, брата Урака Тинмаметева).
В 1633/34 году в Астрахани крестился двоюродный брат Кантемира / Алексея Отманай (Атманай) Урус-мурзин сын Кейкуватов, внук кековата Джан-Мухаммеда (еще одного брата Урака Тинмаметева). В 1647 - 1656/57 годах упоминается как князь Петр Урус-мурзин сын Кейкуватов [т. е. здесь фамилию образовали от должности дедушки]. У него были сын Тихон (жилец на 1677/78 год) и внук Федор Тихонович (жилец на 1712 и 1713 годы).
В 1636 году в Астрахани крестился племянник Атманая / Петра, известный уже под христианским именем Иван. В 1640/41 году князь Иван Егенеев [здесь фамилию образовали уже от имени отца князя - Егинея / Едигея] перебрался в Москву, где писался уже дворянином московским князем Иваном Еней-мурзин сыном Кейкуватовым (!). У князя возможно был сын - костромской городовой дворянин кн. Петр Иванович Кейкуватов (Кокуватов).
В Россию выехали также потомки нурадина Байтерека б. Дин-Ахмеда - сыновья Гази, Али и Ак (с сыном Элем). На 1636/37 год все они значатся среди ярославских служилых мурз. Больше о них ничего не известно.
Сын указанного Али, Урак, в 1633 году крестился став князем Дмитрием Алеевым сыном Байтерековым.
В 1649 году крестились другой сын Али, Кантемир и его двоюродный брат, сын Гази, Шантемир, ставшие дворянами московскими князьями Григорием Алей-мурзиным сыном и Михаилом Казый-мурзиным сыном Байтерековыми соответственно. У Григория (умер в 1667 году) имелись сыновья Юрий (стряпчий, позднее стольник) и Яков (стольник на 1706 год). Сын последнего, Иван, при Петре был армейским обер-офицером.
* У автора в заголовке главки и оглавлении - Енеевы, в тексте и на схеме - Егенеевы.
Тинбаевы, Кинбаевы
скрытый текстПотомки нурадина Динбая (Тинбая) б. Исмаила.
В боярском списке 1606/07 года отмечен стольник князь Михаил Конай-мурзин сын Кинбаев. До крещения его вероятно звали Гази б. Канай б. Динбай б. Исмаил, т. е. он был внуком упомянутого нурадина. Этот же князь вероятно был героем упоминаемым «Новым летописцем» - отличившимся в «королевичев приход» и погибшим в 1619 году.
В 1629 году крестился некий Янмамет-мурза, вероятно другой внук Динбая - Ян (Джан) б. Абдулла б. Динбай, ставший князем Тимофеем Тинбаевым. Позднее он не упоминается, однако известен князь Тимофей Кинбаев, по предположению автора, это одно и тоже лицо.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Помимо этого известна еще пара Тинбаевых, степень родства которых с предыдущими неясна.
В 1669/70 году крестили присланного из Астрахани Алексея Шеим-мурзина сына Тинбаева (Тимбаева). На 1675 год - стольник.
В 1679/80 году отмечен некий Матвей Хан-Канбулатов Тинбаев-Мансуров.
В 1615 - 1620 годах в Касимове жил также некий ногайский мурза Ян-Мамет Джанаев, позднее отпущенный в степь, вероятно правнук Динбая Ян-Мамет б. Джанай б. Теникей б. Динбай.
Урмаметевы
скрытый текстПотомки бия Ураз-Мухаммеда б. Дин-Ахмеда.
Первым представителем этого рода оказавшимся в России был вероятно сын Ураз-Мухаммеда Мустафа Уразмаметев, упоминающийся в 1618/19 году (больше о нем ничего не известно).
В 1623 году крестился внук Ураз-Мухаммеда Зорбек б. Арслан ставший стольником князем Василием Урмаметевым. Служил князь плохо, пил и морально разлагался, в 1628 году арестован за попытку бежать из России (возможно по ложному доносу уставших от его художеств дворовых людей), сослан в Чердынь (где сидел в тюрьме), в 1641/42 - 1643/44 - под началом в Кирилло-Белозерском монастыре, затем видимо прощен. В 1634 - 1648 годах в боярских списках писался уже дворянином московским. Умер в 1652/53 году. У него был сын Дмитрий (с 1641 года - стольник, упоминается до 1667 года).
Еще один внук Ураз-Мухаммеда, Токтамет (сын нурадина Кара Кель-Мухаммеда), в детстве был захвачен в плен калмыками, бежал от них в Уфу, здесь был похолоплен воеводой Иваном Чичериным и крещен с именем Яков. В 1628/29 году Токтамет / Яков подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства, был отобран у Чичерина и, после проведенного разбирательства, в 1630/31году сделался дворянином московским князем Яковом Кутмамет-мурзиным сыном Урмаметевым. Упоминается до 1640 года.
Третий внук Ураз-Мухаммеда дворнянин московский князь Куданат / Михаил Бий-мирзин сын (Шейдяков сын) Урмаметев упоминается в боярских списках в 1649/50 - 1667 годах. Он возможно был сыном Шейдяка (Саид-Ахмеда) Урмаметева, сидевшего в 1624 - 1637 годах в Астрахани на аманатском дворе (за временную откочевку в Крым).
Мамаевы
скрытый текстПотомки бия Малой Ногайской Орды Якшисаата б. Мамая б. Саид-Ахмеда б. Мусы.
Первым в России появился сын указанного Якшисаата. Его мусульманское имя и время выезда неизвестны (возможно выехал еще до Смуты). В 1618 - 1628 годах упоминается как дворянин московский князь Василий Якшатов (Якшисатов) Мамаев. В королевичев приход участвовал в московском осадном сидении, за что награжден переводом части ярославских поместий в вотчину.
Двоюродный брат Василия малолетний Султанбек / Иван б. Саин. Мамай до 1612 года был захвачен в плен астраханскими стрельцами и продан холмогорскому купцу Василию Исаеву (который его и крестил). В 1613 году Иван бежал из Астрахани в Москву (где ходил по приказам со своей историей, но официально челом не бил и ничего не добился), из столицы перебрался в Вологду (где кормился по монастырям), в 1619 году записался в стрельцы и лишь в 1633 году подал челобитную о признании за ним княжеского достоинства. После разбирательства сделался дворянином московским князем Иваном Саиновым Мамаевым (в документах значился выезжим с 1633/34 года). Умер к 1659/60 году. Его сын Григорий (стольник в 1652 году) умер в 1660/61 году. В боярском списке 1712 года числится некий жилец Кирилл Иванович Мамаев, возможно еще один сын князя.
Токаевы (Тукеевы)
скрытый текстПроисхождение неизвестно.
В 1648 году юртовский мурза Кучук Токаев (Тукеев) крестился в Москве став князем Дмитрием. Иных сведений о нем нет.
Ураковы
скрытый текстПотомки Урака б. Алчагира б. Мусы, сына бия Ногайской Орды Алчагира и внука бия Ногайской Орды Мусы.
Известная генеалогия Ураковых вызывает большие сомнения. Известны две ветви рода - потомки основателя Малой Ногайской Орды (Казыева улуса) известного Газы (Казыя) б. Урака и его предполагаемого брата Рудака / Рудачека.
Правнук Газы б. Урака Сафарлей б. Али б. Караш (Хорошай) был взят в плен «за порогами» в 1659/60 году. Обменять на русских пленных мурзу не удалось и он сидел в тюрьме вплоть до крещения в 1670/71 году. После крещения стал дворянином московским князем Яковом Ураковым. В 1679 - 1691 годах - стольник, умер не позднее 1700 года. У него были сыновья Иван (жилец с 1702 года) и Петр.
У Газы б. Урака был будто бы брат по прозвищу Рудак /Рудачек (по цвету волос), попавший в русский плен в конце XVI века, живший в Уфе, крестившийся в 1590/91 году с именем Андрей Федорович (его сыновья использовали фамилию Рудаков) и поверстаный в некие «дворяне» (до 1619/20 года служил толмачом).
От этого Рудака / Андрея выводила свой род «уфимская» ветвь Ураковых. По мнению автора генеалогия этой ветви сфальсифицирована - видимо узнав о пожаловании в князья Сафарлея / Якова Уракова и вдохновившись историей Якова Урмаметева (тоже уфимца) Рудаковы решили и сами пролезть в князья и, в условиях неразберихи, связанной с массовой раздачей титулов новокрещеным ногаям, это им удалось.
У Рудака / Андрея Уракова имелось три, служивших по Уфе, сына - Андрей / Потеха (толмач), Антон и Иван.
У Андрея / Потехи были сыновья Василий и Андрей [так в тексте, на прилагаемой схеме Андрей не показан]. У Василия имелся сын Григорий, обзаведшийся обширным потомством (трое сыновей, шестеро внуков и четыре правнука), выше полковника, впрочем, не поднимавшимся. Известен также дворянин московский Дмитрий Васильевич Ураков - возможно еще один сын Василия.
У Андрея имелся сын Михаил, дослужившийся в 1720-е до поручика, сосланный в 1731 году за злоупотребления в Илимск и служивший там слободским приказчиком.
У Антона были сыновья Богдан, Василий, Семен и Михаил. У Богдана (убит во время башкирского восстания, не позднее 1664 года), были сын Федор (стольник, упоминается в 1691 - 1721 годах) и внук Степан Федорович (жилец на 1712 и 1713 годы).
Семен Антонович (вместе со своим сыном Иваном Семеновичем) в 1686 году подал челобитную о признании за этим родом княжеского достоинства «против стольника князя Якова Уракова». В 1689 году ее удовлетворили.
У Ивана Рудакова имелись сын и внук Василии и правнук Егор. У этого последнего имелось три сына - Михаил (дослужился до поручика), Афанасий (генерал-майор, в 1802 году подал прошение о признании за ним княжеского достоинства) и Василий (генерал-лейтенант).
Араслановы
скрытый текстДворянин московский Григорий Кузьмин Арасланов, из ярославских новокрещенов, отмечается в боярских книгах в 1658 - 1677 годах (без княжеского титула). Возможно ногайский выходец, однако известны и Араслановы из арских князей [татарские князья Вятской земли].
Ураевы
скрытый текстВ 1689 и 1691 годах в боярских книгах отмечен стольник Андрей Келмамаевич Ураев. Упоминается до 1721 года, в числе стольников новокрещеных с 1680 года. Предположительно ногайский выходец.
Материальное обеспечение
скрытый текст
Содержание ногайских мурз и князей складывалось из набора отдельных элементов, подбиравшихся индивидуально в каждом конкретном случае. При назначении содержания учитывался целый ряд факторов - политические соображения, статусное положение конкретного рода и лица, наличие семьи и слуг,
имевшиеся прецеденты, личные служебные заслуги и проч.
Поместный и денежный оклады
Поместный и денежный оклады ногайских выходцев документально фиксируются с конца XVI века, хотя возможно они в какой-то форме существовали и ранее. Размер оклада определялся «честностью» конкретного персонажа. Так, бОльшие оклады назначались детям и внукам биев, нурадинов и кековатов, отцы получали больше сыновей, старшие братья больше младших и т. п. Некоторые лица получали высокие оклады по политическим соображениям или усилиями высокопоставленной русской родни. Повышение окладов достигалось службой, до 1630-х годов существенно повысить их мог и переход в православие.
Максимальный размер окладов у ногаев доходил до 1300 четей и 200 рублей (у Чингисидов до 2000 четей и 200-250 рублей), некоторым исключением были лишь Юсуповы и Урусовы. На протяжении семнадцатого столетия, параллельно с падением значения ногайских выходцев, падал и размер их окладов, сокращаясь от поколения к поколению. Некоторым исключением и здесь были князья Юсуповы и Урусовы.
Денежный оклад в первой половине XVII веке обычно платился в половинном размере. Для получения второй половины требовалось прилагать отдельные усилия - подавать челобитные с объяснением зачем она понадобилась получателю (крещение, пожар, дворовое строение, свадьба, похороны и проч.). Некоторые ушлые ногаи, впрочем, исхитрялись получать полный оклад почти постояннно.
Автор приводит сведения об окладах отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году дали оклад в 1000 четей и 100 рублей.
Айдар Кутумов на 1584 год имел оклад в 70 рублей, Барай б. Али на 1619 год - 200 рублей (поместного не имел), позднее - 120 рублей. Ибердей / Тихон Бараев после крещения в 1629 году получил оклад в 1000 четей и 100 рублей. Его брат Сафаралей / Петр после крещения в 1646/47 году получил такой же оклад - «против брата». Каплан / Петр Касбулатов после крещения в 1688 году получил оклад в 400 четей и 25 рублей.
Эль Юсупов на 1584 год имел оклад в 250 рублей, его сын Сююш на 1613 год - 300 рублей (с придачей «за подмосковные службы», поместного оклада не имел), позднее - 250 руб.
Корел / Кореп Чин-мурзин сын в 1615/16 году был поверстан окладом в 500 четей и 40 рублей (к 1631 году поместный оклад вырос до 550 четей). Его сын Бий / Иван после крещения в 1639/40 году получил оклад в 1200 четей и 150 рублей.
Василию Никитичу в 1646 году дали новичный оклад в 500 четей и 30 рублей (уже в 1646/47 году видимо повышенный сразу до 800 четй и 47 руб., за черкасские службы и Конотопский бой 1658 - 1659 гг. князю прибавили 100 четей и 10 руб.). Брату Василия, Федору Никитичу, в 1646 году назначили новичный оклад в 500 четей и 25 рублей.
Никита Сююшевич на 1609/10 год имел оклад в 40 руб., на 1628/29 год его поместный оклад (с прибавкой за московское осадное сидение 1618 года) составлял 800 четей. Сын его, Василий Никитич, на 1658 - 1659 год имел оклад в 600 четей и 30 рублей (с прибавкой в 100 четей и 10 руб. за черкасские службы и Конотопский бой).
Алей и Каплан Тугановы дети Шейдяковы имели видимо оклад по 1050 четей и 120 рублей. Канай Еналеев - 850 четей и 80 рублей. Сафарлей Исламов на 1606/07 - 800 четей и 80 рублей.
Салтанай / Иван Меньшой Капланов на 1631 год год имел оклад в 600 четей и 40 рублей. Девлет Еналеев на 1631 год - 500 четей и 40 рублей.
Зорбек / Федор Шейдяков после крещения в 1621/22 году получил оклад в 700 четей и 70 рублей.
Келмамет / Артемий Теникеев имел оклад в 800 четей и 90 рублей, после крещения в 1621/22 году видимо повышенный до 1100 четей и 150 рублей.
Малоногайский Бек / Леонтий Шейдяков после крещения в 1619/20 году получил оклад в 1100 четей и 130 рублей. Брат его Дмитрий имел оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрий Сатый (Сатаевич) Шейдяков после выезда в 1648/49-м был верстан окладом в 550 четей и 35 рублей, за литовскую службу 1654 - 1656 годов ему добавили 150 четей и 12 рублей (по другой версии, за службы 1658 - 1660 гг. прибавили 250 четей и 19 рублей, а за службы 1663 - 1665 гг. - еще 130 четей и 9 рублей, доведя оклад до 930 четей и 63 рублей).
Бегай Смайлев в 1613/14 году имел (с прибавками) оклад в 1200 четей и 100, 130 или 200 рублей. Его сын Дьян в том же году имел оклад в 900 четей и 80 рублей, а другой сын Сары / Лев на 1621/22 год - 600 четей и 40 рублей. После крещения в 1625/26 году его оклад повысили до 1000 четей и 100 рублей.
Андрей Сатыевич Урусов на 1615/16 год имел поместный оклад в 1500 четей, денежный (на 1618/19 год) - 200 рублей. На 1628/29 год - уже в 1000 четей и 200 рублей.
Семен Андреевич Урусов на 1637 год имел оклад в 1300 четей и 170 рублей (к 1655/56 году - уже 500 рублей).
Каплан / Федор Барангазыев на 1632/33 год имел оклад в 1000 четей и 100 рублей, а его младший брат Зор / Григорий на 1640/41 год - в 800 четей и 80 рублей.
Кантемир / Алексей Тинмаметев и его двоюродный брат Атманай / Петр Кейкуватов имели оклады в 600 четей и 60 рублей. Племянник Атманая / Петра Иван Егенеев в 1640/41 году - в 700 четей и 70 рублей.
Дмитрий Байтереков после крещения в 1632/33 году получил оклад в 800 четей и 80 рублей. Его брат Кантемир / Григорий и двоюродный брат Газы / Михаил после крещения в 1649 году получили по 550 четей и 35 рублей (за службы 1659 - 1661 годов обоим добавлено по 120 четей и 10 рублей).
Тимофей Тинбаев после крещения в 1628/29 году получил оклад в 600 четей и 60 рублей.
Василию Урмаметеву после крещения в 1622/23 году дали оклад в 1100 четей и 150 рублей. Яков Урмаметев в 1630 получил клад в 900 четей и 100 рублей. Михаил Шейдяков Урмаметев на 1649 год имел оклад в 550 четей и 35 рублей.
Ивану Саинову Мамаеву в 1633/34 году дали оклад в 700 четей и 60 рублей.
Дмитрию Токаеву после крещения в 1649 году дали оклад в 550 четей и 35 рублей.
Федор Богданов Ураков (из уфимской ветви) в 1685 году получил оклад в 550 четей и 25 рублей.
Реальное землевладение
Историю землевладения ногайских выходцев можно проследить лишь начиная с 1560-х годов.
С осени-зимы 1569 года они компактно испомещались в Романовском уезде, где Иван Грозный вероятно планировал создать некий ногайский вариант Касимовского царства. Затея эта провалилась и в дальнейшем ногаев селили и в других уездах (прежде всего - в Ярославском). Впрочем и позднее правительство видимо стремилось испомещать мурз / князей более менее компактно. Поместья им давались из дворцовых земель и по весьма щедрым нормам. Поместья бездетных выходцев передавались обычно новым ногайским выходцам. У крещеных ногаев к поместьям добавлялись обычно приданые вотчины их русских жен и за счет этого (а также обычной купли-продажи-мены вотчин) их землевладение постепенно «расползалось» по стране.
После Смуты нормы испомещения ногайских выходцев понижаются, обширные владения прежних выходцев постепенно раздробляются между наследниками и к концу XVII века землевладение ногайских выходцев уже практически ничем не отличается от общерусского.
В 1680 году оставшимся ногайским мурзам-мусульманам было предписано креститься. У отказывавшихся отписывали поместья, переводя в кормовые иноземцы.
В Романовском уезде ногайским мурзам в лучшие (для них) годы принадлежало возможно до 30 000 четей земли. По писцовой книге 1593 - 1594 годов среди местных помещиков значились Эль Юсупов (6186 четей, видимо вместе с землями его испомещенных казаков - 125 человек), Алей и Айдар Кутумовы (2940 и 2622 чети, тоже видимо с землями казаков), Афанасий Шейдяков (1635,5 чети).
Среди бывших помещиков уезда указаны Ибрагим б. Юсуп (2028,5 чети), Ак-Мухаммед б. Юнус (1558,5 чети), Сети-Мухаммед б. Ибрагим б. Юсуп (617 четей - возможно неполные данные), Бабаджан Уразлыев (1432,5 чети), Темир Уразлыев (1348 четей), Никита / Султан-Гази Кошумов (1613,5 чети), Мустафа Шейдяков (1060,5 чети) и др.
На 1627 год за Сююш-мурзой Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Барай-мурзой Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара).
Помимо Ростовского и Ярославского уездов известны земельные владения ногайских мурз в Дорогобужском (Бегай-мурза Смайлев), Переяславском (тот же Барай Кутумов - 1170 четей на 1627 год), Ростовском и Суздальском (тот же Бегай-мурза) уездах.
Владения крещеных ногайских выходцев отмечены в 45 уездах. Так, упомянутый Афанасий Шейдяков, помимо 1635,5 четей в Романовском уезде, имел поместья в Звенигородском (633 чети) и Зубцовском уездах и приданую вотчину жены в Новоторжском уезде.
За Иваном Келмамаевым Шейдяковым числились обширные подмосковные поместья - 1681 четь и 1253 копны сена (75 крестьянских и бобыльских дворов) в Сурожском стане и 406 четей и 240 копен (9 дворов) в Горетове.
За Иваном Канбаровым в Коломенском уезде числились 601 четь и 1775 копен сена.
Петр Урусов, вместе с данной ему в жены вдовой одного из братьев Шуйских, владел вероятно 4800 четями земли.
Михаил / Гази Канаев Тинбаев на 1617 год владел в Шацком уезде поместьем в 1098 четей (в пересчете на добрую землю - 881) и 450 копен (правда сильно запущенным / разоренным - 1057 четей в перелоге или заросло лесом). Позднее оно как выморочное перешло к Василию Урмаметеву, а в 1628 году было отписано у последнего за измену.
За Андреем Сатаевичем Урусовым в том же Шацком уезде на 1617 год числилось огромное поместье в 2226 четей (в пересчете на добрую землю - 1382), 2050 копен сена и 83 двора (тоже сильно запущенное - в перелоге и лесом поросло - 1719 четей).
Леонтий Салтанашевич Шейдяков после крещения в 1620 году получил поместья в Нижегородском уезде (669 четей в одном поле, 110 крестьян и бобылей).
В середине и второй половине XVII века значительные владения числятся только за Урусовыми и Юсуповыми. Так, на 1646 год Василий Никитич Юсупов владел в Новоторжском уезде вотчиной с 1048 дворами и 3755 крестьянами.
Никита Семенович Урусов владел вотчинами в Ростовском (не менее 142 дворов и 467 крестьян), Переяславском (92 двора, 226 крестьян), Пешехонском (50 дворов, 172 крестьянина) уездах, вотчиной и поместьем в Рязанском уезде, небольшой подмосковной вотчиной? (7 дворов, 24 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Веневском уезде. Его брат Петр Семенович - вотчиной в Переяславском уезде (133 двора, 446 крестьян), подмосковным поместьем / вотчиной (22 двора, 93 крестьянина) и дачей из «дикого поля» в Соловском уезде и т. д
Поденный корм и питье
Корм и питье давались неиспомещенным мурзам и князьям. После испомещения их выдача обычно прекращалась - за исключением случаев приобретения совсем небольших земельных владений (в таких случаях корм мог сохраняться, но размер его пересчитывался). Корм давался также лицам лишенным земельных владений, пленным и заключенным.
Размер корма определялся теми же соображениями, что и размер окладов - политическая целесообразность, статус конкретного лица и рода, прецеденты и проч. Как отмечает автор, в большинстве случаев сложно понять на какое число людей давался корм, что затрудняет и ранжирование получателей и определение реального размера дач на человека.
Как и в случае с окладами этот вид жалованья документально фиксируется с конца XVI века, однако вероятно существовал и ранее. До середины XVII века размеры дач возрастали, позднее наметилась тенденция к их уменьшению. Тем не менее, на протяжении всего семнадцатого столетия на поденном крме можно было существовать вполне комфортно и некоторые семьи ногайских выходцев предпочитали кормовое содержание испомещению (за что и поплатились уже в петровские времена).
При вступлении мурзы / князя в брак к его корму обычно добавляли 2-3 алтына - на корм жене. Вдова могла рассчитывать на половину корма супруга. Наибольший размер корма в XVII веке - 3 рубля в день. Столько (по не совсем понятным причинам) давали в 1642/43 году Льву Михайловичу Шейдякову (потомку мурзы Теникея) с женой и людьми.
Мурзам и князьям попавшим в опалу давали видимо лишь половину назначенного им корма. Так, отправленный в Кострому Урак Тинмаметев получал в 1626 году на себя семью и своих людей по 35 копеек в день (5 коп. - самому мурзе, трем его женам и падчерице - по 4, людям (7 человек) - по 2).
Содержащимся в тюрьме / пленным давали еще меньше, так плененному в 1617 году Беку Салтанашевичу Шейдякову полагалось по копейке на день.
Небольшим был и корм дававшийся новокрещенам бывшим в монастыре «под началом», так, в 1621/22 году бывшей жене Артемия Шейдякова Феодоре в Новодевичьем монастыре полагалось 6 копеек в день, ее людям - по 1,5 копейки.
Автор приводит сведения о корме отдельных лиц.
Крымскому выходцу Адилю Мансурову после крещения в 1644/45 году назначили корм в 50 копеек + 4 чарки вина и по ведру меда и пива в день.
У Касбулата Кутумова за отказ креститься в 1679/80 году отписали поместья, переведя кормовым иноземцем в Вологду и назначив корм в 30 копеек. Его сыновьям давали от 15 до 30 копеек в день.
Чину Юсупову в феврале 1596 года назначили месячный корм в 35 рублей, однако непонятно давался ли он лишь самому мурзе с семьей или же и всем его людям (одних мужчин 37 человек).
Его сын Корел / Кореп получал 10 рублей в месяц (33 коп. в день) плюс деньги в счет питья (4 чарки вина и по 2 кружки меда и пива в день). В 1616/17 году ему полагалось 30 коп. в день (15 - самому, 6 - жившей с ним матери и 9 - трем его людям) + питье.
Сын Корепа / Корела Иван Юсупов после крещения в 1639/40 году получал 60 или 84 копейки в день + питье (по 3 чарки вина, по кружке романеи и меда вишневого, 1/3 ведра меда паточного и 2/3 ведра меда цеженного из Дворца и по 4 чарки вина и по 1 1/3 ведра меда и и пива из Новой чети). Его людям давали по 3 коп. и чарке вина в день и (на всех) по 1 1/3 ведра пива. После опалы 1665/66 года, сопровождавшейся отпиской земель на государя, Иван жил на 30 руб. кормовых в месяц.
Федор / Зорбек Шейдяков в 1620/21 году до крещения получал 10 копеек в день (его люди - еще по три), после крещения - уже 25 или 30 копеек, 4 чарки вина, кружку или полведра меда и 2 кружки пива в день.
Девлет Шейдяков, будучи ярославским кормовым татарином, в 1626 году получал по 25 копеек в день. Его жене давали по 24 копейки (видимо по причине высокого статуса - она была дочерью сибирского хана Кучума).
Канай / Алексей Еналеев Шейдяков в 1647 году получал 25 копеек в день, а его сыновья новокрещены Василий и Никифор - по шесть.
Упомянутому Льву Шейдякову с семьей и людьми в 1642/43 году давали аж по 3 рубля в день.
Бегаю Смайлеву давали 21 копейку в день. Его сын Сары / Лев до крещения в 1625/26 году получал по 15 коп., после - 30 коп. [Так у автора, выше этот же персонаж упоминается как испомещенный еще до крещения, соответственно корм ему вроде бы не полагался].
Тук / Иван, Андрей Сатыев и Петр Канович Урусовы с сентября 1615 года получали по 15 копеек в день, а шестеро их людей - по три. С мая 1616 года новокрещеным князьям стали давать по 60 копеек, 4 чарки вина, ведру меда и пива в день, а их людям (4 человека) - по 3 копейки в день (+ 2 ведра пива на всех). Помимо этого каждому князю давался корм для трех лошадей и по возу дров в неделю и в общей сложности они получали 25,62 руб. в месяц. В июле и августе на корм добавили по 5 рублей и месячный размер его достиг 35 руб, а годовой 427,44 рублей.
Григорию Барангазыеву в 1640/41 году назначили корм в 25 копеек, однако давали только половину - остальное засчитывалось как доход от земельных владений его супруги Ульяны.
Федору Барангазыеву [видимо с 1630/31 года] давали 60 копеек, 4 чарки вина и полведра или ведро меда и ведро пива.
Ивану Егенееву Кейкуватову в 1640/41 году дали корм в 20 или 21 копейку, позднее повысив до 24 - 25.
Алексею Исупов Тинмаметеву давали 20 копеек, 4 чарки вина и 3 кружки меда в день [1644?].
Прокопию Уракову Тинмаметеву в 1665/66 - 19 копеек.
Дмитрий Алеев Байтереков после крещения в 1632/33 году получал 50 копеек, 3 чарки вина, 1/2 ведра меда 1/2 или ведро пива.
Тимофею Кинбаеву / Тинбаеву до крещения в 1628/29 году давали 6 копеек, после - 15 копеек, 4 чарки вина и по кружке меда и пива, позднее корм увеличили до 35 копеек.
Василию / Зорбеку Урмаметеву до крещения в 1623 году давали 10 копеек, после - 25 копеек, 4 чарки вина и по 1/2 ведра меда и пива. После женитьбы корм подняли до 50 копеек.
Токтамету / Якову Урмаметеву давали (видимо с 1630/31 года) 36 копеек, 4 чарки вина, кружку меда и 2 кружки пива.
Ивану Саинову Мамаеву давали [с 1633/34?] 30 копеек, 4 чарки вина кружку меда и 2 кружки пива, по другим данным - 25 копеек, вычитая ежегодно по 17,6 рублей [т. е примерно 20%] за земельное владение жены.
***
Помимо собственно корма неиспомещенным выходцам полагались также дачи на конский корм, дрова и свечи. Их часто засчитывали в общий размер поденного корма, однако иногда расписывали отдельно.
В известных случаях корм давался на 1, 2, 3 лошади (Льву Шейдякову в 1642/43 году давали даже на 10), обычный его размер в XVII веке составлял видимо 72 копейки в месяц и возможно давали его только полгода (с ноября по апрель). Дров обычно давали один воз на неделю (~ 20 копеек?), на свечи - по 1-2 копейки на день.
Разовые дачи
Ногайские выходцы получали также разнообразные разовые дачи - на приезд, за крещение, на дворовое строение, свадьбу, похороны и т. д.
Дачи на приезд существовали в XVI веке, в семнадцатом столетии их видимо давать перестали, однако когда именно неизвестно. Дачи давались добровольно выезжавшим на постоянное жительство, прибывавшим для участия в военных кампаниях или по другим делам и (как минимум в первой половине XVII века) романовским мурзам при отправлении на полковую службу или при возвращении с нее. Пленным и прочим насильно вывезенным она не полагалась.
О размерах дач можно судить по известным прецедентам.
Выехавшему в 1596 году Чину Юсупову, сыну Эль-мурзы дали шубу бархатную на соболях (50 рублей), кафтан камчат золотной (15 рублей), опашень зуфной (5 рублей), кубок серебряный весом в 4 гривенки и видимо еще что-то (запись испорчена). Что-то дали также бывшим с ним сыновьям, детям, женщинам и слугам. Взрослых мужчин (37 человек) поделили на три статьи, дав им по два отреза ткани (шелковой и шерстяной) и от 1 до 3 рублей деньгами.
Прибывшим в 1631/32 году для участия в польской войне Адилю Урмаметову (с 23 всадниками) и Яну Иштерекову (с 14 всадниками) дали по шубе камчатой на соболях (43,87 и 48,2 руб.), а первому еще и шапку лисью (6 рублей). Адиль, в свою очередь, ударил государю челом двумя конями - серым и саврасым.
Дача за крещение фактически состояла из двух или даже трех частей. Первая часть («за подначальство») состояла из креста и комплекта одежды и давалась посланным «под начало» в монастырь новокрещенам. Вторая давалась новокрещенам бывшим на приеме у государя («у руки») и включала разнообразные ценности. Царская аудиенция предполагала и последующее приглашение к царскому столу, вместо которого могли дать еще одну дачу - «в стола место» (см. ниже).
Дополнительной «наградой» за крещение видимо служил воспреемник, подбиравшийся из числа представителей верхушки двора или приказного аппарата. Так, крестным Василия Урмаметева в 1623 году стал окольничий С. В. Головин, Льва Бигеева Смайлева в 1625/26-м - окольничий кн. Д. И. Долгоруков, Тихона Бараева Кутумова в 1629 году - окольничий кн. Г. К. Волконский, Якова Урмаметева в 1628/29 году - думный дьяк Федор Лихачев и т. д. В худшем положении, соответственно, оказывались крестившиеся в Астрахани - их воспреемниками были представители тамошней верхушки.
Дача крещеному при Борисе Зорбеку / Александру Араслановичу Урусову (брату пресловутого Петра Урусова) долгое время была видимо верхним пределом подобных дач (столько же дали лишь один раз - Леонтию Шейдякову в 1628 году). Зорбек / Александр получил золоченый серебряный кубок (6 с лишним гривенок, 18,03 рубля), серебряные братину, ковш и стопку (всего почти на 15 рублей), камку бурскую на 17 рублей, 40 аршин камки адамашки четырех разных цветов, 40 аршин атласа четырех цветов, постав синего лундыша (20 рублей), 40 соболей (21 рубль), 2 опашня (один в 30 рублей), кафтан (20 рублей), бархата на 20 рублей и 100 рублей деньгами.
В 1639/40 году Ивану Кореповичу Юсупову дали еще больше - в общей сложности на 905 с лишним рублей. Кроме традиционных тканей, серебра, разнообразной одежды (включая атласную соболью шубу стоимостью почти в 84 рубля и два пристяжных воротника-ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом в 40 и 150 рублей) дача включала аргамака с конской упряжью (соответственно 60 и 91,54 рубля) и 150 рублей деньгами.
Прочие дачи были много скромнее - Сары / Льву Бигееву Смайлеву в 1625/26 году дали «за подначальство» серебряный крест и одежду (всего на 35 рублей), а «как был у государя» - еще на 90 рублей вещей и денег (серебряный кубок, ткани, 40 соболей и 20 рублей деньгами).
Федор / Зорбек Еналеев Шейдяков в 1621/22 году получил платья на 35 рублей, а «как был у государя» - соболей на 30 рублей и 30 рублей деньгами.
Крестившемуся в 1671/72 году белгородскому мурзе Сафарлею / Якову Туганову сыну Уракову дали всего 25 руб. на платье и соболей на 25 рублей. И т. д.
Дачи на крещение получали и женщины. Им давали одежду и деньги, к руке они видимо не допускались и дополнительной дачи за это не получали.
Дача «в стола место» полагалась всем побывавшим «у руки» (по случаю приезда, крещения, отбытия в полки и проч.) и не приглашенным позднее к царскому столу.
В 1637/38 году Сююшу Юсупову, посланному на полковую службу в Туле, дали из Дворца калач крупчатый в 1,5 лопатки; 1,5 кружки вина двойного, по кружке романеи и меда обарного, по половине кружки меда паточного и цеженного и ведро пива; а из Большого Прихода - гуся, утку, зайца, тетерева, барана, 4 курицы и 36 копеек деньгами (на мелкое).
В 1640/41 году посланным в полки ярославским поместным и кормовым мурзам Канаю и Девлету Еналеевым и Салтанаю, Хану и Бию Каплановым Шейдяковым дали по кружке двойного вина и романеи, по 1/2 ведра меда паточного и цеженного, ведру пива, гусю, утке, барану, по 2 курице и по 20 копеек.
На дворовое строение (как новое, так и послепожарное), крестины детей, похороны обычно давали половину годового денежного содержания, хотя имелись и исключения, так, в 1640/41 году Ивану Егенееву и Григорию Барангазыеву выдали на дворовое строение 70 и 80 рублей соответственно - «против их оклада».
Дачи на свадьбу давались как натурой, так и деньгами (последние считались видимо менее престижными), размер их зависел от статуса получателя. Так, Андрею Сатыевичу Урусову в 1617/18 году дали из Большого Дворца по 20 ведер пресного и паточного меда, 4 ведра романеи, 2 ведра алкану, по 6 ведер меду пресного [так в тексте] и меду вишневого, 12 ведер вина горячего и 20 четей солоду яичного. Дача Ивану Араслановичу Урусову была вдвое меньше.
Деньгами давали обычно 1/2 оклада, иногда треть оклада, иногда против оклада. Дачи на свадьбу могли получать и женщины.
Дачи на платье известны только для женщин (хотя у Чингисидов их получали и мужчины). В известных случаях давали по 10, 15 и 20 рублей (видимо ежегодно).
Службы и местничество
скрытый текст[Некрещеные мурзы несли в основном военную службу во главе / в рядах татарских формирований, гоударственных назначений не получая. Некоторым исключением был видимо Канбар-мурза / Канбар б. Момола в начале XVI века бывший в паре походов на литву воеводой передового полка (см. выше)].
Некоторые крещеные мурзы / князья во второй половине XVI века получали высокие назначения - полковыми и городовыми воеводами, наместникам и проч.
Иван / Ураз-Али Махметевич / Ахметевич Канбаров в 1560 - 1563 годах назначался первым воеводой сторожевого и передового полков на ливонском / литовском направлениях. В 1564 - 1567 годах - второй воевода большого полка и второй воевода во Пскове, зимой 1567/68 года - первый воевода большого полка в походе на литву, в 1568 - 1569 годах первый воевода полка левой руки «на берегу». В 1570 году отправлен послом в Польшу (умер в дороге).
Иван Мовкошевич Тевекелев* в 1561/62 упоминается как второй воевода большого полка. В 1572 - 1574 годах - воевода в Орешке. Зимой 1573/74 года первый воевода передового полка в «немецком походе».
Петр Тутаевич Шейдяков в 1571 - 1572 годах первый воевода сторожевого и передового полков в государевых походах «на берегу» и против «свейских немцев». В зимнем государевом походе на Пайду 1572/73 года - второй воевода большого полка, в 1572/73 году псковский наместник. В государевом походе в Ливонию 1577 года - первый воевода полка правой руки.
Афанасий Шейдяков в 1573/74 - 1576/77 годах наместник и воевода в Юрьеве, оставаясь юрьевским наместником участвовал как первый воевода передового и большого полков в различных ливонских походах.
Позднее высоких полковых назначений ногайские выходцы почти не получали. Единственным исключением (если не считать Урусовых) был Михаил Канаевич Кинбаев (Тинбаев), в 1616 году посланный с полком воевать литву.
Отдельные ногайские выходцы в XVII веке назначались городовыми воеводами.
Лев Бигеевич Смайлев в 1633 году был воеводой в Ярославле.
Андрей Сатыевич Урусов в 1637 - 1638 годах был воеводой в Нижнем Новгороде.
Иван Корепович Юсупов в 1653 году был белозерским воеводой.
Михаил Федорович Шейдяков в 1685 году числился воеводой Козлова (фактически возглавлял масштабную военно-географическую экспедицию производившую изыскания для строительства новой засечной черты). В 1686 году - воевода в Соликамске.
Андрей Никитич Урусов - в 1697 году воевода в Вятке.
Отдельно следует выделить Семена Андреевича Урусова и его сыновей, получавших соответствующие назначения уже как часть русского правящего слоя.
Сам Семен Андреевич Урусов в 1641 - 1645 годах был кравчим, в 1645 - 1647 годах - воеводой в Новгороде, в 1655 году - боярин и воевода в Вильне.
Петр Семенович Урусов - кравчий с 1658 года, в 1670 году полковой воевода в походе против Разина, боярин с 1676 года.
Никита Семенович Урусов - воевода в Новгороде в 1677 году, воевода в Киеве в 1678 - 1679 годах, боярин с 1679 года, в 1681 - 1682 годах двинский воевода.
Юрий Семенович Урусов - боярин с 1676 года, в 1679 году воевода в Смоленске, в 1683 году возможно в Казани, судья Московского судного приказа в 1683 - 1685 и 1697 - 1699 годах.
Федор Семенович Урусов - с 1680 года боярин, в 1683 - 1684 годах воевода в Новгороде. Судья Пушкарского (1682, 1689 - 1693), Иноземного (1689 - 1694), Рейтарского (1689 - 1694) приказов.
Известно всего три случая местничества ногайских выходцев.
В 1564/65 году на Ивана Махметевича Канбарова, назначенного третьим воеводой большого полка бил челом 4-й воевода - князь Петр Иванович Татев (не взял списков, [ему видимо отказали])
Осенью 1567 года на того же Ивана Канбарова, назначенного уже вторым воеводой большого полка бил челом Андрей Иванович Шеин - второй в правой руке (тоже списков не взял, [исход дела неизвестен, сам поход не состоялся]).
В марте 1641 года на именинах царицы Евдокии Лукьяновны стольник кн. Иван Иванович Дашков бил челом на кравчего кн. Семена Андреевича Урусова - и был сурово наказан (бит кнутом и на неделю посажен в тюрьму).
Как отмечает автор, иски к Канбарову были видимо пробными шарами, для определения общего статуса ногайских выходцев. С Петром и Афанасием Шейдяковыми местничать не решались - их высокий статус был видимо очевиден. В XVII веке большинство ногайских выходцев уже не занимало позиций пригодных для местнических споров, а попытки проверять на «честность» возвысившуюся ветвь Урусовых были жестоко подавлены в зародыше.
* Сам автор здесь именует его Иваном Тевекелевичем Канбаровым. Одни и те же персонажи у него вообще в разных местах текста часто именуются по разному, что очень, очень раздражает.
Частная жизнь, религия и прочее
скрытый текст
Процедура выезда ногайского мурзы в XVI веке выстраивалась по примеру посольских церемоний - на подъезде его встречало специально делегированное лицо, затем с оответствующими церемониями, его доставляли в столицу, проводили прием у государя (причем последний видимо еще и корошевался с мурзой), затем обед и проч. Со временем процедуру максимально упростили (никакого корошевания, вместо обеда дача в стола место и т. д.).
О религиозной жизни мурз-мусульман в России мы почти ничего не знаем. Известно, что здесь жили мусульманские «попы», именовавшиеся в русских документах абызами (термин мулла употреблялся редко и почти исключительно в дипломатических документах). В Москве и, возможно, в других местах имелись вероятно и мечети / молельные дома.
Со временем ногайские мурзы стали все больше переходить в православие. На рубеже 1550 - 1560 годов крестились жившие в России Мансуры (неизвестно добровольно или нет), позднее занимавшие видное положение.
Вторая волна крещений случилась после бегства в 1570 году Ибрагима Юсупова со товарищи в Литву - крестилась часть Шейдяковых, Юсуповых и Кошумовых. Оставшиеся мусульманами Юсуповы и Кутумовы, впрочем, не понесли видимых статусных потерь, а среди новокрещенов этой волны лишь двое (Петр и Афанасий Шейдяковы) сделали заметную карьеру.
Следующая волна крещений случилась при Борисе - пресловутый Петр Урусов и проч.
После Смуты крещение стало обязательным условием выезда и мусульманами оставались лишь мурзы старого выезда и их потомки. Часть из них, впрочем, тоже крестилась - как под давлением властей, так и добровольно. В последнем случае крещению нередко способствовали конфликты с мусульманскими родственниками (Тихон Бараевич Кутумов, Федор Еналеевич Шейдяков).
На рубеже 1670 - 1680 годов оставшимся мурзам-мусульманам было предписано креститься под угрозой отписки поместий и большинство из них перешли в православие. Мусульманами осталась только часть Кутумовых, пошедшая ради этого на понижение своего статуса и ухудшение материального положения.
В целом, как видно, большинство ногайских выходцев крестилось вынужденно и ожидать от них христианского благочестия не приходилось. Бежавшие из России ногаи тут же забывали о крещении, судя по сохранившимся в архивах жалобам отнюдь не все оставшиеся вели христианский образ жизни, почти неизвестны монастырские вклады ногайских новокрещенов и т. д. Так, личными вкладами в монастыри отметились лишь Афанасий Шейдяков, Иван Корепович Юсупов, Иван Шейдяков и Дмитрий / Надыр Ханович Шейдяков. Леонтий / Бек Султанашевич Шейдяков в 1627 году возвел по обету церковь в своем нижегородском поместье.
Браки крещеных мурз из статусных семей (Шейдяковы, Юсуповы, Урусовы и проч.) устраивались видимо русскими властями и в жены им подбирали представительниц статусных же русских семей. Некрещенным мурзам из тех же родов, также видимо не без участия властей, устраивались браки со статусными мусульманками - представительницами Чингисидов и проч.
В XVII веке статус русских жен ногаев формально понизился - это были в основном дочери стольников и дворян московских из не самых громких фамилий. Однако, как отмечает автор, фактически это могло быть и не так, поскольку об их родственных связях по женской линии почти ничего не известно.
Менее «честные» ногайские выходцы, как мусульмане, так и крестившиеся, предпочитали в целом заключать браки с представительницами таких же семей других ногайских выходцев.
Как отмечает автор, никакой общей родовой солидарности Эдигеевичи в целом не демонстрировали, разделяясь на отдельные сообщества, друг к другу в общем равнодушные.
О частной жизни, быте и т. п. ногайских выходцев нам почти ничего не известно. Быт и домашняя обстановка крещеных выходцев видимо мало отличались от быта и обстановки русских служилых людей.
Крещеных Эдигеевичей хоронили видимо поблизости от места проживания / смерти или в некрополях родственников их русских жен. О захоронениях оставшихся мусульманами сведений почти нет - в Романове подобный некрополь неизвестен, неизвестны и захоронения Эдигеевичей в Касимове. В Москве их могли хоронить на татарском кладбище за Калужскими воротами. Тело умершего в 1561 году в Москве Юнуса б. Юсуфа отправили за казенный счет в Сарайчик, традиционное место погребения ордынских ханов и ногайских биев, однако других таких случаев не выявлено.
Ногайские вооруженные формирования
скрытый текст
Во второй половине XVI века ногайские отряды (в качестве наемников) регулярно участвовали в русских военных кампаниях. Численность их обычно была невелика. Так, в Полоцком походе 1563 года участвовали ногайский мурза? Бекчюра «с товарыщи 60 человек» (в ертауле) и мурза Тохтар (Тохтар б. Ураз-Али?) с 15 другими мурзами и 244 казаками (среди которых преобладали не ногаи, а некие «крымские выходцы» - возможно ногаи пришедшие из Крыма) в передовом полку. Наиболее значительный ногайский отряд явился на русскую службу в 1564 году - 20 мурз и голов и 1 653 казака.
Ногайские наемники получали корм для лошадей, относительно корма для них самих четких указаний в источниках не имеется. Основной наградой для ногаев был видимо захваченный в походе полон.
В XVII веке к военной службе регулярно привлекались ногаи жившие под Астраханью - юртовские татары (до 2 000 чел. максимум) и едисаны (максимум 900 чел.), с мурзами и табунными головами.
Среди ногаев живших непосредственно в России наиболее многочисленную группу составляли романовские. С. Немоевский в своих записках сообщает, со слов Эля Юсупова, что в 1560-х годах в Романовском уезде имелось до 700 ногайских казаков. Однако автор считает эту цифру завышенной - за самим Элем Юсуповым и Айдаром и Алеем Кутумовыми изначально числилось всего 225 казаков (соответственно 125, 50 и 50), еще 130 казаков бежало в Литву с Ибрагимом Юсуповым и другими четырьмя мурзами в 1570 году (т. е. всего 355) и вряд ли за прочими, менее значительными мурзами, могло иметься еще три с половиной сотни.
Ко времени Смуты в Романовском уезде, по сообщению все того же Немоевского, оставалось уже не более 300 ногаев, однако автор и эту цифру считает завышенной.
На 1577 год в поход выходило от 220 до 250 романовских татар. На 1616 год в списке романовских татар Посольского приказа числился 171 человек - 72 за Сююшем Юсуповым и 99 (делившихся на три статьи - 27,37 и 35 соответственно) за Бараем Кутумовым. Помимо этого, Юсупов и Кутумов выставляли со своих земель даточных (тоже видимо татар) - 15 и 25 человек соответственно (возможно учтены среди всех романовских татар). В уезде имелись также и некие «безмурзные» казаки.
В целом, насколько можно понять, после Смуты на службу должно было выходить примерно 200 романовских казаков - по сто юсуповских и кутумовских. Фактически, в силу разных причин, выходило меньше. Так, в 1620/21 году Барай Кутумов мог выставить лишь 59 человек своей половины (реально вышло на службу лишь 54 человека, из числа недостающих 15 казаков крестились и вышли из подчинения мурзы).
На 1626 и 1627 годы всего имелось 180 романовских казаков, при этом в Смоленскую войну на службу выходило 129 - 134 человека. На 1636 год имелось всего 159 юсуповских и кутумовских казаков, к 1679 году их число сократилось до 121 человека.
На службу в 1661 году выходило 86 романовских татар и новокрещенов (57 и 29 чел. соответственно) - возможно только половина. В 1663 году романовских мурз, новокрещенов и татар, вместе с ярославскими мурзами и новокрещенами на службе числилось 245 человек.
До испомещения романовские татары видимо получали корм в каком-то виде. После испомещения, помимо доходов с земли, они дополнительно получали денежное жалованье - 500 рублей в год на всех, из местных романовских же доходов. За сбор денег отвечали государев приказной человек (позднее воевода), 4 «лучших татарина» романовских мурз и целовальники (5-6 человек). Указанные «романовские доходы» включали, насколько можно понять*, сборы с посада самого Романова, уездных рыбных ловель, кабаков, таможен и перевозов. Помимо этого в зачет указанных 500 рублей шли положенные казне налоговые сборы с поместий самих мурз («данные и оброчные деньги»), т. е. фактически ногаям давали видимо не 500 рублей, а меньше.
Давший в 1606 году жалованную грамоте Элю Юсупову Самозванец этот зачет (доходивший, как выясняется, до 284 рублей) упразднил, однако и общую сумму выдачи из романовских доходов видимо понизил - до 300 рублей. Дополнительное жалованье давалось лишь выходящим на службу.
Михаил Федорович в жалованной грамоте 1613 года, данной уже Сююшу Юсупову, (приводится в приложениях) эти изменения, в целом, подтвердил.
[Согласно грамоте «данные» деньги с сел Сююша в зачет оклада не идут, а прочие (ямские, ямчужные, посоха и пр.) сборы не берутся. К романовским доходам идущим на жалованье самому Сююшу и его казакам отнесены ямские и кабацкие деньги, тамга, мыт, перевоз, наместничий белый корм и проч.].
Русских жителей уезда судил тот же государев приказной человек / воевода, на суде при этом присутствовали те же 4 «лучших татарина» (возможно для контроля за сбором судебных пошлин). Дела между ногаями и русскими разбирались в Посольском приказе. Самих ногаев вероятно судили их мурзы.
Испомещением казаков поначалу фактически руководили их мурзы, определявшие видимо и размер поместий (что открывало, естественно, широкие возможности для злоупотреблений). Кто занимался обработкой земель казаков неясно, возможно это были латыши - захваченные в литовских походах полонянники. В общей сложности на испомещение ногаев в уезде, согласно жалованной грамоте Федора Ивановича (1584 год) отводилось 10 356 четей земли - 4 912 (3589 пашни и 1323 перелога) четей самим мурзам и 5 444 (4161 + 1283) чети в раздачу их казакам.
В 1615/16 году романовских казаков вывели из подчинения мурзам, приказав испоместить и выдать им ввозные грамоты (аналогичные меры были приняты в отношении темниковских татар). В 1620/21 году татар половины Барая Кутумова вернули под начало мурзы (то же вероятно проделали и с татарами юсуповской половины).
На 1627 год за Сююшем Юсуповым в Романовском уезде числилось 2110 четей с осьминой, за Бараем Кутумовым - 3377 четей с осьминой (земли его отца Алея и дяди Айдара), за романовскими татарами (теоретически - 225) - чуть более 7439 четей.
После Смуты романовские казаки начали постепенно креститься. Крещеный казак выходил из подчинения мурзы - вместе со своим поместьем. Появляются также и «безместные» / кормовые казаки, получавшие от своих мурз не поместья, а корм - возможно как реакция на распространявшееся крещение.
На рубеже 1670 - 1680-х годов, как уже отмечалось, оставшимся помещикам-мусульманам Романовского уезда было предписано креститься - под угрозой отписки поместий. Отказывавшихся креститься переводили в кормовые иноземцы. Эта мера привела к окончательной ликвидации корпорации романовских татар.
Общая численность ногаев живших непосредственно в России и несших здесь военную службу, была, таким образом, невелика и заметной роли они не играли.
* Авторский текст, и так, в общем, своеобразный, в этом разделе особенно сложно понять.

Виктор Гурьянов, сообщество «Флешмобы»
Работа.
1. Действительно ли то, чем ты сейчас занимаешься, является тем, что ты всегда хотел делать?
2. Что заставляет тебя чувствовать себя успешным?
3. Как тебе кажется, ты на своем месте? Ты чувствуешь себя нужным?
4. Какие перспективы и возможности развития есть у тебя на твоем настоящем месте работы?
5. Как у тебя отношения с коллегами? Сильно строгий начальник?
6. Ты хочешь кардинально поменять свою специальность и попробовать себя в совершенно новом деле?
7. Ты рискнул бы открыть свое дело?
8. Как ты относишься к служебным романам?
9. Ты любишь больше коллективы или маленькие?
10. Какие необычные случаи у тебя происходили на работе?
11. Где ты работал(а) до этого?
12. Ты хочешь всю жизнь заниматься тем, что делаешь сейчас?

Зелёный бамбуковый лес, блог «Гранатовый»
Отпуск бля
Последний (и первый) раз в жизни я была в отпуске в 2017 году. Потом — тока на бумаге.
Ну и вот у меня отпуск на новой работе, всё по-честному и тд.
Ожидание: я каждый день буду гулять и делать прочие полезные штуки, есть всякое, что может быть лень готовить, сделаю Большую Весеннюю уборку, итагдалие.
Даже попробую с тлфн что-то царапать
Реальность: ещё до отпуска идёт перекос, и после начала отпуска он тебя не отпускает, а размазывает окончательно, лежишь как медуза на солнце, рвота н раз в день, бессилие полнейшее, есть страшно, не есть - всё хуже (кажтс, в какой-то момент пошла закольцовка: как есть, когда тошнит, но ведь и от голода тошнит сильнее), добраться в магаз или аптеку — реально усилие нужно, финишем — скоряк, который аптекари же тебе и вызывают (второй в жизни скоряк со времён сломанной ноги).
Вы итоге я оклемалась уже, но.
Блин, практически половина отпуска — умиральня. Как обидно всё же.
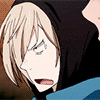
miss_love_sweets, микроблог «мне лучше в полной темноте»
Кукуха держится исключительно за счёт научрука. 🥰
Возможно в этот раз диплом не будут подписывать в день защиты, как это было с первым институтом.