Что почитать: свежие записи из разных блогов
Коллекции: книги

older than dead, блог «мрачный чтец»
× × ×
1. Бертрам Вустер (серия рассказов о Дживсе и Вустере, П.Г. Вудхаус)
Несмотря на то, что Реджинальд наиболее привлекательный персонаж во всех смыслах, мы читаем именно сквозь восприятие Берти и читаем о его злоключениях. Дурачковый представитель английской аристократии со всеми вытекающими его характера, но, тем не менее, остроумный, забавный и добродушный ровно настолько, насколько нужно, чтоб его любить.
2. Виктор Франкенштейн («Франкенштейн или современный Прометей», М.Шелли)
Моя подростковая любовь к этому произведению поутихла, но всё равно остаётся крепкой и нерушимой, во многом из-за трогательного и склонного драматизировать трагизм Виктора.
3. Генри Джекил («Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», Р.Стивенсон)
Опять привет старым знакомым — ничего не могу с собой поделать, никогда не перестану сочувствовать несчастным гениям, которые сами же сваливают адскую лавину на свою голову.
4. Гриффин («Человек-невидимка», Г.Уэллс)
Вот именно.
5. Жан-Батист Гренуй («Парфюмер. История одного убийцы», П.Зюскинд)
Без лишних слов, это чудище завораживает своими способностями, решениями и страстями.
6. Куколка («Неизвестный террорист», Р.Флэнаган)
СпойлерыЖенщина с и без того сложной судьбой оказалась ложно обвинённой в преступлениях, которые не совершала. Трудно не сопереживать настолько сломанному человеку, изо всех сил старавшемуся оставаться сильным.
7. Нокона («Верхом на ветре», Л.Сен-Клер Робсон)
Интригующий не только разум мужчина. Гордый, опасный, прогрессивный для своего окружения, умный, находчивый, любящий Ту-Самую-Единственную. И очень горячий.
8. Ричард III («Ричард III», У.Шекспир)
Коварный интриган, осознанный злодей, трагический персонаж. Я не знаю, зачем вообще объяснять, почему он в этом списке.
9. Смерть (цикл «Плоский мир», Т.Пратчетт)
Я могу сделать отдельный топ-10 персонажей Пратчетта, потому что слишком хороших слишком много. Но Смерть всегда для меня будет самым-самым за его глубину, неожиданную сердечность, за сложность его самой сущности.
10. Элинор Карлайл («Печальный кипарис», А.Кристи)
Удивительной стойкости женщина, поражающая своей холодной элегантностью и поразительным благородством. Я бы могла пойти проще и выбрать ведущих сыщиков (Эркюля или Джейн, например), но я выписала мисс Карлайл, потому что она появляется всего лишь в одном детективе и запоминается, тем не менее, сильнее прочих таких же, как и она, персонажей на одно дело.
Psoj_i_Sysoj, блог «Ad Dracones»
Ad Dracones. Глава 42. Козни дьявола – Ördög ármánya (Эрдёг арманьо)
Левенте
Я ожидал корху с самого раннего утра, едва сдерживая нетерпение, ведь я как никогда ясно понимал, что самый решительный момент настанет именно сегодня: показаний лекаря будет достаточно, чтобы, прибив одну чашу этих весов к самой земле, вознести другую к небесам. Однако, вопреки вчерашней гневной решимости, нынче у Кешё был какой-то растерянный и даже виноватый вид. Поддавшись дурному предчувствию, я поторопил его:
— Что там с Иллё? Почему ты его не привёл?
— Светлейший кенде, лекарь нынче же ночью уехал в Татру, повидать больного родича.
Теперь-то мне стала ясна причина его нерешительности. Еле скрывая досаду я подумал о том, что это вновь усложняет дело — похоже, всему, что касается Онда и Кешё, суждена подобная участь.
читать дальше— Всему виной непредусмотрительность и нерасторопность вашего покорного слуги, — продолжил Кешё. — Если бы я послал за лекарем вечером — но я не стал тревожить его на ночь глядя…
Поджав губы, я смерил пристальным взглядом его открытое смуглое лицо и впервые задумался: правда ли он так простодушен и прямолинеен, каким кажется мне лишь потому, что он на пару лет меня младше? А если я всё это время ошибался в нём?
— Разумеется, я уже послал людей вслед за Иллё, — добавил Кешё. — Если им улыбнётся удача, то вскорости они привезут лекаря в замок…
— И почему с вашим делом всегда так, — процедил я, еле удерживаясь от того, чтобы от души треснуть кулаком по подлокотнику трона. — То один уезжает невесть куда, то непогода не даёт явиться другому — будто сами боги не желают, чтобы оно разрешилось! Остаётся надеяться, что ишпан Коппань не отправится навестить родичей куда-нибудь в Булгарию! — Кешё покаянно молчал, и я отпустил его, напоследок добавив: — Впредь надеюсь на большую расторопность со стороны корхи.
Едва он вышел, как ко мне подошёл мой личный помощник, дожидавшийся за дверями зала.
— Птица вылетела из гнезда на восход, — понизив голос, поведал мне он.
При этих словах я тотчас испытал прилив воодушевления.
— Что же, посмотрим, что она принесёт нам на хвосте, — задумчиво бросил я, утверждаясь в мысли, что Кешё извещает меня отнюдь не обо всех своих соображениях по этому делу.
Леле
Пусть здешняя камера, в противоположность прошлой, достаточно просторна, чтобы стоять во весь рост и расхаживать взад-вперёд – от угла до угла добрая дюжина шагов – в заточении пропадает желание что-либо делать, даже шевелиться. Я сижу, сгорбившись, на койке и гляжу в окно, в котором быстро гаснет свет зимнего дня – и чем тусклее становятся краски, тем ярче встают перед глазами воспоминания.
Даже те, что я почитал давно утерянными, погребёнными под спудом страданий, вновь являются мне, и не бледными тенями, а настолько ясными и живыми образами, что порой я едва не принимаю их за реальность.
Это когда-то объяснял мне наставник Мануил:
– Причина кроется в том, что твоё представление о прошлом, которое ты зовёшь воспоминаниями, основывается на эйдосах [1], Леле – а они, существуя в идеальном мире, никогда не стареют, не выцветают.
– Отчего же люди забывают? – спрашивал я, силясь представить себе эти самые эйдосы, что парят где-то в эфире, словно снежинки в ледяном зимнем воздухе или льдинки в замерзающей воде. Это безжизненное царство составляло столь яркий контраст с задувающим в окно весенним воздухом, что я никак не мог сосредоточиться. – Быть может, эйдосы попросту вылетают из головы, так что потребно усилие, чтобы удержать их?
– Люди теряют не эйдосы, – наставительно возразил наставник, – а путь к ним. Идеи хранятся в разуме вечно, но неорганизованный разум подобен сундуку, набитому всякой всячиной так, что самому владельцу неведомо, что в нём содержится…
Должно быть, у моего учителя были все причины выбранить меня за то, что я, поддавшись обстоятельствам, позволил тьме отчаяния и безумия затопить свой разум – я полагал, что их мутный поток стёр всё, что предшествовало заточению, однако теперь, в тишине и покое, воспоминания понемногу возвращались.
– Вот тебе подарок на прощание.
Хоть я давно знал, что мой учитель не поедет с нами в Эрдей – почтенный возраст не располагал к подобного рода странствиям – я не мог совладать с грустью, когда настала пора прощаться; но даже горечь расставания на мгновение померкла, уступив место любопытству – что же достанется мне от учителя, счастливого обладателя стольких ценных и диковинных вещиц?
Мануил протянул мне камышовое перо – собственноручно изготовленное, ведь никто не умел делать их столь чисто, что на вид они казались сделанными из слоновой кости – и свиток. Развернув его, я с удивлением увидел, что его белая гладкая поверхность пуста.
– Он девственно чист, как и твоя судьба, – с улыбкой поведал учитель. – Так что тебе решать, чем его заполнить: битвами, великими свершениями или тихими радостями мирной жизни.
Само собой, так думал и я сам, искренне веря, что грядущее зависит лишь от меня самого, а значит, мне суждена не менее громкая слава, чем та, коей было покрыто имя отца.
…Когда мы отправились в путь, моё сердце полнилось радужными надеждами. Этому способствовала и погода – на редкость тёплая и солнечная для середины осени. Мне было трудно степенно следовать подле крытой повозки матушки – я то и дело уносился вперёд, радуясь бьющему в лицо ветру, от которого туго заплетённые косы так и хлестали по плечам.
Мне казалось, что золото, усыпавшее склоны гор, принадлежит мне одному – и я с гиканьем пришпоривал своего верного Репюлеша [2], представляя, как веду свой отряд в бой.
Разумеется, я не мог не восхищаться сопровождавшим нас ишпаном Коппанем – бывалым воином, который участвовал в стольких походах на далёкие страны, сколько мне и годов не было. Испытывая перед ним опасливое почтение, я наконец решился обратиться к рослому воину, которому моя макушка едва доставала до плеча.
– А правду ли сказывают, что ты бывал в земле франков?
– Правду, – улыбнулся он в рыжеватые усы.
– Много ли привезли добычи?
– Да уж немало, – приосанился он. – Одной серебряной да золотой утвари – комнату набить, а работа такая, что впору одному кенде – лучшее я ему и преподнёс.
– А вот я умею по-германски говорить, – расхрабрился я. – И по-ромейски складно говорю и пишу – чай, пригожусь в следующем походе?
– Это-то там без надобности, – ухмыльнулся он. – Вот этого языка хватает. – С этими словами он похлопал по рукояти тяжёлой сабли, висевшей у его бока.
Смутившись, я не решился поддерживать беседу, вернувшись к повозке матери, но продолжал не без зависти поглядывать, как Коппань пересмеивается с воинами, пускает по кругу чарку на привале, властно отдаёт распоряжения – и про себя думал: уж я-то точно своего не упущу, будет поход – уйду в первый же, что бы там ни думала моя матушка.
Она и впрямь едва ли одобрила бы подобную прыть: казалось, ей в последнее время всё было не по сердцу. Сперва я думал, что это всколыхнулось горе по смерти батюшки, и пытался утешить её посулами:
– Мы же новые места увидим, новых людей – и позабудешь ты свои слёзы!
– Мне старые были милее, – вздыхала она. – Моя бы воля, никуда бы мы и не уехали.
– Так что ж, сидели бы там одни? – поддразнил её я. – Ты да я, за прядением да шитьём, пока не превратимся в двух старушек? Рать отца вся разъехалась, слуги разошлись – пришлось бы мне самому за соху встать!
– Уж в родных местах родные души… – ещё больше кручинилась матушка.
– Зато в новых местах раздолье, – обещал я. – Буду каждый день тебе по кунице приносить да по соболю! Зверья там – что пескарей в озере!
– То-то и оно, что места там дикие, незнакомые… – хмурилась она.
– Так и что с того, что дикие, коли есть у тебя защитник? – приосанивался я под стать Коппаню, бросая гордый взгляд по сторонам. – Не только от зверя, но и от человека, и от злого духа оборонит!
– Эх, лелкем [3], что правда, то правда – один ты у меня остался, душенька… – шептала мать, и я, уверенный в том, что причин для тревог и впрямь нет, вновь мчал вперёд, не обращая внимания на собирающиеся над горами тучи.
…Помню, как хлестал проливной дождь, когда мы пересекали старый римский мост через Шебеш-Кёрёш [4] – остановившись, я засмотрелся на плывущие по течению листья, не обращая внимания на бьющие по капюшону струи ливня. Кружение красных кленовых листьев так заворожило меня, что я никак не мог отвести от них взгляд, и лишь нетерпеливый окрик замыкающего вывел меня из этого транса.
Я неторопливо покинул мост, вслушиваясь в шум разбивающейся об опоры воды и шелест опадающих листьев под дождём.
Когда я подъехал к повозке матушки, то застал там ишпана Коппаня – склонившись к ней, он спрашивал, не сыро ли, не холодно ли госпоже. При виде меня мать принялась зазывать меня в повозку, под навес. В обычное время я бы отказался – что ж я, ребёнок, чтобы ехать в повозке с женщинами и скарбом? – однако на сей раз в голосе матери мне послышалась такая мольба, что я решил уважить её.
– Дожди будут лить ещё долго, – ухмыльнувшись в густые усы, продолжал Коппань, щурясь на будто прокопчённый небосвод. – Пока не пересечём Бихор, а там, авось, распогодится… Думаю, этой осенью ещё будут погожие деньки, как считает госпожа Илдико [5]?
– Да, да, – тихо отозвалась мать, туго кутаясь в шаль, и её голос подрагивал от озноба.
– Пожалуй, надо бы распорядиться о привале, – забеспокоился я, видя, как озябла мать.
– Нет-нет, ни к чему, посиди лучше со мной, – принялась возражать она.
Капли колотили в плотный промасленный тент, и внезапно меня обуяло тёплое, уютное чувство – как в юрте, когда мать с отцом оба сидели у очага, жалуясь на то, что дождь никак не прекратится и войлок совсем отсырел…
Устремив на неё пристальный взгляд тёмных глаз, Коппань бросил ещё пару фраз, на которые получил столь же краткие ответы, наконец убедившись, что госпожа замёрзла, утомилась и потому не расположена к беседе – он пообещал, что поскорее подыщет хорошее место для отдыха, с чем нас и оставил, а я так и продолжал сидеть бок о бок с матушкой, в кои-то веки не стыдясь того, что как ребёнок радуюсь её близости…
***
Как ни странно, я очень смутно помню тот день, когда умерла мать, а меня заточили – эти два события долгое время никак не могли связаться у меня в сознании, нависая надо мной двумя зловещими пиками, между которыми покоился провал моей жизни.
Всё, что я помню – как стражники просто схватили меня в моих покоях и поволокли в одну из башен – вечно пустующую, так что прежде я там ни разу не бывал – заперли там и удалились восвояси, так и не ответив ни на один из моих вопросов. Поначалу я думал, что попросту чем-то прогневил хозяина, вот он и решил преподать мне урок, но дни шли за днями, и до меня начала доходить страшная правда: меня и впрямь заперли здесь на веки вечные без какой-либо причины, а значит, и вызволения мне не видать.
Я уже успел потерять счёт дням, когда меня вытащили из камеры, представив пред очи Коппаня.
– Почему меня заперли? И где моя мать? – тут же бросил я ему в лицо, поскольку, разумеется, беспокоился о ней с того самого мгновения, как меня заточили.
– Если бы она проявила благоразумие, то ты не оказался бы в подобном положении, – угрюмо бросил Коппань. – Увы, похоже, она не дорожила ни своей жизнью, ни твоей.
– Что ты имеешь в виду? – выкрикнул я, обуреваемый дурными предчувствиями.
– Твоя мать удавилась, – бросил он, тотчас велев стражникам: – Уведите его.
Тут на меня нашёл приступ безудержного гнева, смешанного с отчаянием – я принялся вырываться из державших меня рук с силой, которой и сам в себе не подозревал – к сожалению, этого оказалось недостаточно, ведь на подмогу к тем стражникам пришли другие.
– Твоя мать сама виновата в случившемся! – это было последнее, что я услышал от Коппаня в тот день.
***
Несмотря на то, что моя камера была выгорожена на самом верху башни, в ней было всего одно окно под потолком, да и то узкое, будто бойница. Хоть оно было на уровне глаз, из-за толстой – в руку – стены из него, как ни пытайся, ничего невозможно было разглядеть: лишь крохотный кусочек неба, да изредка – силуэт парящей в нём птицы. К тому же, окно забрали решёткой, так что я был не в силах даже высунуть ладонь наружу, чтобы узнать, идёт ли дождь, и поймать солнечные лучи хотя бы кончиками пальцев.
Потолок же был такой низкий, что я даже в начале своего заточения не мог выпрямиться в полный рост, не задевая о него затылком, а в дальнейшем мне приходилось наклоняться всё ниже и ниже, так что я по большей части сидел прямо на деревянном полу или на высокой лежанке, на которой тоже приходилось сгибаться – или сидеть полулёжа, а когда расхаживал по камере, то не поднимал взгляда от пола.
Сказать по правде, я вообще не могу судить, для чего изначально предназначалось это крохотное – от силы четыре нормальных шага в длину – помещение на самом верху башни: если для дозорных – так как ни старайся, отсюда ничего не разглядишь; жилья – уж больно тесное, даже если убрать гнетущий меня потолок; как ни посмотри, оно годилось разве что для хранения каких-то припасов, но зачем тогда понадобилось разгораживать эту плоскую, словно блин, клетушку стеной из обтесанных брёвен с окованной железом дверью – это уж выше моего понимания.
Против всякого разумения, порой этот вопрос настолько меня занимает, что я, пожалуй, спросил бы об этом Коппаня – да вот только едва ли мне представится такая возможность, ведь нам с ним не по дороге даже в загробном мире.
***
Конечно же, за годы заточения мне не раз приходила в голову мысль покончить с этим тягостным, бессмысленным существованием – ведь если поначалу я ещё надеялся, что правда, быть может, всплывёт наружу, меня выпустят, а Коппань получит справедливое наказание, то позже я перестал на это уповать. В какой-то миг меня осенила мысль, страшная в своей простоте: никому, кроме меня самого, до моего существования и дела нет, так что, раз я сам помочь себе не в силах, то неоткуда и взяться подмоге.
Я отчётливо помню это мгновение: перед этим я мерил своё узилище шагами – но тут сел прямо на пол, у стены, и притих, притянув колени к груди. Что если я так и состарюсь, и умру в этой самой камере – удостоюсь ли я хотя бы приличного погребения, или мои останки просто выкинут во двор, чтобы их обглодали собаки, и моя душа-лел [6] так и будет бродить по этой угрюмой темнице, пока не разрушатся её стены? Стоит ли покоряться столь тягостной участи, подобной тлеющей головёшке сырой промозглой ночью?
Подняв руки, я уставился на них: бледные, бессильные, иссохшие – неужто я и сам превращусь в такую вот тень, развеявший которую, пожалуй, совершит благодеяние? Глядя в пробитое под потолком окошко, рассеянного света от которого едва хватало, чтобы разглядеть стены – но без него я бы, пожалуй, ещё и ослеп – я стал всерьёз думать о том, как погасить упрямую искру жизни, что теплилась у меня внутри.
Это крохотное пятнышко света начало незаметно шириться, распадаясь подобно просвету в облаках, сквозь который парящая в небесах птица видит весь мир – и он открылся передо мной со всеми его горами, реками, долами и морями – и многими тысячами людей, которые живут, торгуют, воюют, женятся и умирают. Умру я, и что же – разве что-нибудь изменится в этом мире? Смахни пылинку – останется след, а по мне и того не будет… Будто не жил в этом мире ни я, ни моя мать, ни мой отец… Как пергамент, который выскабливают начисто, чтобы написать на нём что-то иное – какую-то другую историю человека, живущего на освобождённом мною месте.
Продолжая созерцать внутренним взором кипение жизни, более мне недоступной, я понял, что пока не в силах так вот одним махом стереть историю моего рода – во всяком случае, сейчас.
Элек
Зима всегда была тихим временем, когда можно всласть предаться отдыху, безделью и скуке – последнюю развеивала лишь охота, на которую я мог сорваться в любое время: ведь никаких гостей в такое время ждать не приходится, и уж тем паче, ожидать, что кто-то объявится со стороны Бихора, стражем коего я был поставлен. Однако для доброй охоты требуется, чтобы лёг снег, на котором хорошо отпечатаются следы, а пока он истаивал на второй же день, так что пришлось бы забираться далеко в горы, и я предпочитал выждать до холодов. Тут-то ко мне и пожаловал староста ближней деревни – талтош Дару.
Сказать по правде, он изрядно удивил меня своим появлением: хоть он и прежде не раз являлся нежданным в неурочное время, когда в замке кто-то захворает – при этом столь быстро, что я только диву давался, когда это успели за ним послать – однако сейчас, насколько я знал, все были здоровы, ни одна женщина не готовилась к разрешению от бремени.
– Неужто пришёл порадовать зимней добычей? – бросил я вместо приветствия, улыбаясь в усы. – Или с вестью от духов?
Вопреки обыкновению, староста не сразу решился заговорить, поглядывая то в забранное решеткой окно, то на очаг, где тлели поленья.
– О добыче духов пришёл поведать, – наконец ответил он.
– Что стряслось? – насторожился я. – Неужто в деревне поветрие? Или пожар? – хотя случись последнее, дым донесло бы и до замка – так близко находилось селение.
– Дай-ка я расскажу всё сначала, варнодь [7], – неохотно начал Дару.
– Уж изволь. – Я кивнул на лавку напротив меня, с другой стороны стола, предвидя, что рассказ будет не из коротких, а также кликнул отрока, чтобы принёс пива и лепёшек.
– Какое-то время назад появились в наших краях лихие люди, – повёл речь талтош.
– Разбойники? – тотчас распалился я. – Как давно они появились? Что ж ты меня сразу не известил, старый ты дурень?
– Не очень-то они походили на обычных разбойников, – уклончиво ответил староста.
– Кто ж тогда? – Я так и замер, сдвинув брови. – Куны? Но уж эти-то точно не прошли бы незамеченными…
– Неведомо мне, кто эти люди, но трогать они нашу деревню не стали, а вместо этого засели в лесу. Те, кто к нам заходили, расспросить и за едой, были нашего племени.
– Может, то были простые охотники? – предположил я, чувствуя, как закипает раздражение.
– Вот и мы поначалу так же подумали. – При этих словах Дару вновь устремил взгляд в окно. – Всё выспрашивали про охотничьи тропы…
– Так с чего ж ты взял, будто это лихие люди? – не выдержав, перебил его я.
Будто не замечая моих слов, Дару продолжил:
– …А потом однажды на рассвете один из моих односельчан, услышав шум боя, прибежал ко мне – поспешил я туда, да не поспел – все уж мёртвые лежали.
– Что? – воскликнул я.
– Все порубленные лежали. Мы, ясное дело, похоронили их.
– Что же, хочешь сказать, сами они друг друга перебили?
– Эрдёг их забрал, – невозмутимо заявил талтош.
– И когда ж это было?
– Месяц тому.
– Иштэнэм [8]! – бросил я, не в силах прийти в себя от изумления. – Ты бы ещё позже пришёл, пень ты эдакий! Или духи не велели?
– Страшное может выйти, если им перечить, – кивнул талтош.
– Чертовщина какая-то, – выругался я. – Месяц назад по моей земле шатались какие-то люди, рубились не пойми с кем, а вы их под тихую просто закопали? Видать, духов ты боишься, а суда – нет?
– Есть на свете вещи пострашнее человеческого суда, – ответил Дару.
– Это кто же, эрдёг? – выругался я, хотя обычно старался не поминать злого духа вслух. – Что ж, пусть духи за тебя перед кенде и заступаются, – выплюнул я. – Веди меня туда, где это всё случилось. – И сколько же их было – этих лихих людей?
– Несколько, – уклончиво отозвался Дару.
Чувствуя, что меня так и распирает гнев, я лишь подозвал своего подручного, велев ему собирать людей.
***
Я-то думал, что речь идёт о паре-тройке каких-то незнакомцев, как можно было понять со слов Дару – но когда моим глазам предстал длинный ряд засыпанных могил, то я поначалу потерял дар речи: не говоря о том, что эдакому отряду ничего не стоило бы стереть с лица земли деревню Керитешфалу, да что там, чтобы учинить набег на все окрестные земли!
– Как-как ты сказал, несколько? – еле сдерживаясь, обратился я к Дару.
– Больше двух, – пожал плечами тот, давая понять, что дальше он считать затрудняется.
Пары моих подручных было явно недостаточно, так что пришлось нагнать стражников из крепости, чтобы копаться в мёрзлой земле. Как назло, повалил мокрый снег, переходящий в дождь, и вид у моих людей был такой, что я уж думал, что придётся гнать их кнутом. О том, чтобы привлечь крестьян, нечего было и думать – талтош умудрился так запугать их, что они скорее согласились бы лечь под мою саблю, чем подойти к этому проклятому месту хотя бы на сотню шагов. Мало того, что толку от таких работничков было бы чуть, так они и на моих людей нагнали бы такой жути, что те, чего доброго, начали бы бояться собственной тени.
Разумеется, Дару я не отпустил – отчасти надеясь вытянуть из него хоть что-нибудь под воздействием страха. Однако сам талтош не выказывал ни малейший признаков боязни. К немалому моему удивлению, он сам вызвался показать места, где стояли палатки, где были старательно засыпанные землёй костровища – само собой, толку от этого было немного.
– Уж лучше бы духи сказали тебе, на какое такое зверьё они здесь охотились, – досадливо бросил я, не особенно надеясь на ответ.
– На такое, на которое человеку поднимать руку не след, – только ответил Дару.
– Что же, ты скажешь, то были духи или демоны? – не удержался я от ехидного вопроса, наблюдая за неохотно тычущими лопатами в землю людьми. – Или, может, это был тот самый олень, который вёл Хунора и Магора [9]?
– Олень – попутный ветер в рогах, – задумчиво отозвался Дару. – И заведёт он наш народ ещё далее, чем бывало прежде…
Я плюнул себе под ноги и отошёл – пусть я ничего не понял в словах талтоша, от них меня почему-то пробрала жуть, как бывало, когда я забирался на вершину скалы над рекой и переводил взор с невиданных далей вниз.
Сперва бывший помехой дождь вскоре стал подмогой – земля немного размякла, так что работа пошла спорее. Вскоре мои люди начали натыкаться на не так уж глубоко закопанные тела, выволакивая их наружу.
Я подошёл и, стараясь не морщиться, принялся разглядывать почерневшие тела. Несомненно было одно: это отнюдь не простые грабители. Да и на чужестранцев, которых едва ли кто хватится, они тоже не походили – судя по оружию и броне, это, несомненно, были мои соотечественники, причём не последнего звания.
Мучимый дурным предчувствием, я перешёл к очередному откопанному – моё внимание сразу привлекла его броня и некогда яркие ткани одежды. Присев на корточки, я принялся разглядывать его пояс – и мой взгляд упал на таршой [10], серебряная пластина которого была украшена не затейливым растительным орнаментом, как у большинства, а узором, в котором без труда можно было признать раскинувшего крылья орла.
– Ми о фэне [11]! – воскликнул я, подскочив.
Такой узор на таршое я прежде видел лишь у одного человека – этой осенью он останавливался у меня, сперва – по пути в Гран, затем – оттуда в Эрдей, и всякий раз в большой спешке.
Снова склонившись над трупом, я внимательнее присмотрелся к отливающим рыжиной усам, более тёмным косам, окружающим бритую макушку, к искажённым смертью чертам лица.
Оглянувшись, я сурово вопросил у Дару:
– И ты по-прежнему будешь уверять меня, будто не знаешь, кто это такой?
– Вашей милости виднее, – покорно отозвался талтош, отводя взгляд, и звучащее в его голосе безразличие к собственной участи ещё пуще распалило мой гнев.
Ухватив старосту за ворот тулупа, я подтащил его к телу, швырнув на колени перед разрытой могилой:
– Это – ишпан Коппань, племянник самого мелека. Так я тебя в последний раз спрашиваю – кто его убил?
– Никто из нашей деревни к этому непричастен, – столь же невозмутимо отозвался Дару. – Будете искать виноватых – лишь покараете невинных.
– И что, по-твоему, я должен сказать мелеку, когда он пожелает казнить виновного? – рыкнул я. – Прикажешь и свою голову сложить в довесок к твоей деревне?
– А если не пожелает? – ответил Дару. Когда я воззрился на него в удивлении, он добавил: – Господин говорит – где найти виновника? А что если его уже и в живых-то нет?
При этих словах мы не сговариваясь опустили взгляд на перемазанное в грязи тело в роскошных одеяниях.
Наконец я поднял глаза, сердито бросив:
– Я сыт по горло твоими отговорками. Лучше бы тебе придумать что-нибудь потолковее, прежде чем сюда заявятся люди мелека.
Снедаемый тревогой, на обратном пути я ломал голову: стоит ли немедленно послать к кенде гонца с вестью о случившемся или же разумнее обождать до завтрашнего утра, чтобы как следует всё обдумать?
Мог ли я знать, что, вернувшись в замок, найду там двух гостей – причём не кого иного, как людей верховного судьи…
Примечания:
[1] Эйдос – др.-греч. εἶδος — в пер. означает «вид, облик, образ», в античной философии получило значение «конкретная явленность абстрактного», «вещественная данность в мышлении». Позволяет вещи существовать (восприниматься как образ). В древнегреческой философии практически эквивалентно понятию «идеи».
У Платона – главная суть явления или вещи, её уникальность, формирующий нематериальный мир идей. В результате общения (койнойи) между эйдосом объекта и душой субъекта на душе появляется отпечаток эйдоса – ноэма.
В традиции неоплатоников эйдос интерпретируется как архетипическая основа вещей – их прообраз в мышлении Божьем.
В раннем Средневековье были сильно распространены идеи неоплатонизма, основанные на понятии эйдоса.
[2] Репюлеш – венг. Repülés – в пер. означает «полёт».
[3] Лелкем – венг. Lelkem – в пер. «моя душа».
[4] Шебеш-Кёрёш – венг. Sebes-Körös, рум. Crișul Repede (Кришул-Репеде), нем. Schnelle Kreisch – в пер. означает «Быстрый Кёрёш/Криш» – та самая река, через которую никак не могли переправиться наши путешественники.
[5] Илдико – венг. Ildikó – так звали последнюю жену Аттилы.
[6] Душа-лел – согласно традиционным представлениям хантов и манси, у человека есть две составляющих духа: душа-тень – илт – которая уходит в загробный мир, и душа-лел, которая отлетает в момент смерти с макушки – воины снимали скальпы с врагов, чтобы не дать ей улететь, а чтобы облегчить ей путь, родственники подвешивали тело в люльке на дереве (берёзе).
Заслуживает внимания сходство венгерского слова lélek – душа – со словом «лел» и élet – жить – со словом «илт».
[7] Варнодь – венг. Várnagy – «управляющий замком».
[8] Иштэнэм! – венг. Istenem – эмоциональное восклицание «О мой Иштен» – как вы помните, верховное божество венгерского пантеона, сейчас переводится как «О господи!»
[9] Хунор (венг. Hunor) и Магор (венг. Magor) – братья или сыновья библейского Менрота (венг. Ménrót) (Нимрода), построившего Вавилонскую башню. Охотясь в степи, они увидели чудесного оленя и, погнавшись за ним, вышли к плодородной равнине, на которую переселились со своими людьми. В дальнейшем Гунор и Магор стали прародителями гуннов и венгров соответственно.
[10] Таршой – венг. társoly – плоская кожаная сумочка, часто украшенная серебряной пластиной с узором, в которой лежало огниво и другие мелкие предметы. Являлся знаком высокого положения владельца.
Позднее с распространением гусарства этот элемент снаряжения также распространился по Европе, в частности, в России, под названием «ташка» (от венг. táska – сумка); в частности, от этого слова происходит «ягдташ» – охотничья сумка.
[11] Ми о фэне – венг. Mi a fene – в букв. пер. с венг. «Что за фэне?», то бишь «Какого чёрта?»
Fene – дух, насылающий болезни, а также «пекло» (см. комментарий к предыдущей главе).
Следующая глава

Kentigerna, блог «книгофрения»
* * *
У моей парадной растет дерево, а на дерево это сердобольные старушки подвесили кормушку для птиц. Не знаю, часто ли птички там столуются, но сегодня наблюдала, как наглый черный котяра устроил засаду на крыше кормушки, разлегся и с прищуром наблюдал, как пичуги нервно перескакивают с ветки на ветку. Красивый такой кот, с желтыми глазищами.
Вот вам добрый знак номер два.
* * *
Любовь, любить велящая любимым.
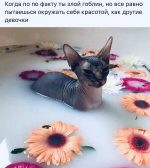
Kentigerna, блог «книгофрения»
* * *
смотретьPlease, let him be soft.
I know you made him
with gunmetal bones
and wolf’s teeth.
I know you made him to be
a warrior
a soldier
a hero.
But even gunmetal can warp
and even wolf’s teeth can dull
and I do not want to see him break
the way old and worn and overused things do.
I do not want to see him go up in flames
the way all heroes end up martyrs.
I know that you will tell me
that the world needs him.
The world needs his heart
and his faith
and his courage
and his strength
and his bones and his teeth and his blood and his voice and his–
The world needs anything he will give them.
Damn the world,
and damn you too.
Damn anyone that ever asked anything of him,
damn anyone that ever took anything from him,
damn anyone that ever prayed to his name.
You know that he will give them everything
until there is nothing left of him
but the imprint of dust
where his feet оnce trod.
You know that he will bear the world like Atlas
until his shoulders collapse
and his knees buckle
and he is crushed by all he used to carry.
Dear God,
you have already made an Atlas.
You have already made an Achilles and an Icarus and a Hercules.
You have already made so many heroes,
and you can make another again.
You can have your pick of heroes.
So please, I beg you–
he is all that I have,
and you have so many heroes
and the world has so many more.
Let him be soft,
and let him be mine.
—Please, let him be happy ( j.p. )

Kentigerna, блог «книгофрения»
* * *
Сегодня я пришла из молчания, вышла из серых сумерек чтобы побыть знаком свыше (если вы в них, конечно, верите). Ну, или хотя бы просто напоминанием о том, что рано или поздно все исправится.
Самая плохая неделя - всего лишь неделя. Самый плохой месяц никак не сможет длиться больше тридцати одного дня.
Psoj_i_Sysoj, блог «Ad Dracones»
Ad Dracones. Глава 41. Как песок сквозь пальцы – Mint a homok az ujjain (Минт о хомок оз уййоин)
Левенте
Даже спустя пять лет тень той битвы, в которой погибли отец и братья, до сих пор нависает надо мной. Хоть меня тогда не было с ними, я то и дело вижу сон, что всё это происходит со мной — засада, отступление, бойня, из которой лишь немногим удалось спастись бегством, воды реки, окрасившиеся то ли закатом, то ли кровью. В ушах до сих пор звучат слова будто постаревшего на десятки лет дюлы Шоша [1]: «Второго такого поражения наш народ не переживёт».
читать дальшеЯ не хочу верить в то, что он прав — в жизни нашего народа бывали и более страшные поражения, после которых мы вновь поднимались, будто трава на пепелище; но я отлично сознаю, какой лакомый кусок являет собой наша земля для алчных соседей. Она была дарована нам богами — неужто нам суждено потерять её, вновь став бесприютными скитальцами, которым негде пустить корни, которых, будто перекати-поле, отовсюду сдувают злые ветра?
Тем, кто ропщет на то, что прервались странствия в чужие земли за несметной добычей, неведомо о том, какое тяжкое предчувствие терзает меня неустанно, мучая при пробуждении и при отходе ко сну. Наша страна представляется мне зажатой между железным молотом саксов и огнём кочевников, выжигающим всё и вся. Возможно, те, кто распускает толки о том, что их король слаб и труслив, не так уж и неправы — в моём сердце и впрямь поселился страх, с того самого судьбоносного дня на реке Лех [2].
Однако вместо того, чтобы сплотиться в жажде выжить, сохранить эту выстраданную землю, мои подданные продолжают враждовать друг с другом за славу, власть, богатство — но сейчас мне не по силам вразумить их, ведь мало кто ко мне прислушается. Они подобны псам, которые, сцепившись из-за куска мяса, не замечают приближения волчьей стаи.
Быть может, мне удастся постепенно добиться воплощения моей воли, тем более, что дюла отнюдь не противится соображениям о судьбе страны, которые я при нём высказываю – как многоопытный человек, немало повидавший на своём веку, он, в отличие от многих людей своего поколения, признаёт, что нам придётся так или иначе приспосабливаться к окружающему нас новому миру, даже если это означает, что нам и самим придётся перемениться до неузнаваемости.
Но, увы, большинство влиятельных людей моего королевства противится любым переменам, считая, что, поступившись обычаями предков, они тем самым откажутся от родовой гордости. Возможно, мне удалось бы заручиться поддержкой многих из них, не возглавляй их самый влиятельный из людей королевства после дюлы – да, обладающий куда большей силой, чем я сам – мой наместник, мелек Онд.
Не сказать, чтобы он когда-либо противился моим решениям – Онд был мне не менее верным подданным, чем моему отцу, и всё же, не возражая, он и не поддерживал их, тем самым подавая пример остальным. Он возвышался на моём пути, будто скала на горной тропе, которую не сдвинешь с места, не обойдёшь, не перелезешь. Мне оставалось лишь довольствоваться ролью ключа, который, сочась в щели, пытается найти в монолите слабое место, чтобы расколоть эту скалу.
Когда умер старый корха Тетине, который служил ещё моему деду, то дюла, почитая за долг наставлять своего малоопытного воспитанника, сразу стал убеждать меня, что место верховного судьи непременно должен занять мудрый и опытный человек, осторожный в делах и суждениях, и предложил мне на эту должность нескольких достойных людей. Хоть я и привык во многом полагаться на его мнение, я не мог не понимать, что этих несомненно почтенных и сведущих господ объединяло одно: все они привыкли действовать с оглядкой на могущественного мелека.
Я понимал, что, если и дальше продолжу окружать себя людьми, которых советует мне дюла, то ни на шаг не продвинусь в воплощении своих чаяний, оставив своим сыновьям страну такой же, какой она перешла мне – если к тому времени будет что оставлять. Увы, я со всей ясностью сознавал, что не могу позволить себе дожидаться, пока старое поколение уйдёт само собой – ведь чужеземные враги уж точно ждать не станут.
Потому-то я начал искать замену Тетине в своём окружении. Назначая Кешё на пост корхи, я тем самым воспротивился желанию дюлы. Помнится, предостерегая меня от этого решения он говорил: «Конечно, Кешё — человек молодой, разумный и полный сил, но уж больно порывист в связи с юными летами и, что ещё хуже, хоть он в родстве с мелеком Ондом, у них там не всё гладко — нужны ли тебе два петуха в одном курятнике?»
Разумеется, я понимал, о чём толкует дюла: хоть Кешё и Онд были связаны через Дёзё, кровного родства между ними не было, поскольку Онд был братом первой жены Илта, отца Дёзё, в то время как Кешё – сыном второй жены. Между двумя ветвями этой семьи существовало негласное соперничество, в котором, впрочем, явную победу одерживала родня со стороны первой жены – разумеется, за счёт авторитета мелека.
Когда погиб Дёзё, все ожидали, что бывшие под его управлением обширные земли перейдут под власть его младшего брата, однако мелек, сославшись на юные годы Кешё, без труда убедил старого кенде в том, что куда лучше управится с этим до совершеннолетия сына ишпана, которому после передаст управление. Несмотря на то, что семейство Кешё было возмущено этим решением, они тогда не осмелились выступить против могущественного родича, тем более, что самому несостоявшемуся наследнику, казалось, не было до этого никакого дела.
Таким образом, когда я назначил Кешё корхой, между ним и Ондом не было открытой вражды, а о тяжбе с землями покойного ишпана ещё и речи не шло – и всё-таки дюла Шош будто предчувствовал этот назревающий нарыв. Я же, бросив это семя в расщелину скалы, выжидал: вдруг проклюнувшемуся из него ростку удастся разбить камень, как не раз уже бывало?
Когда Кешё взялся за это дело со всем свойственным ему рвением, Шош вновь твердил мне: «Я же тебя предостерегал — видишь теперь, как всё повернулось…» Тогда я отвечал ему: «Разве Кешё не вправе добиваться справедливости и для себя? Можешь ты мне сказать положа руку на сердце, что он неправ в своих притязаниях?» Дюла лишь хмурился, отвечая, что семейная вражда — что спутанная кудель: никаких концов не отыщешь.
Время рассудило, что он был прозорливее меня: поначалу казавшееся простым дело безнадёжно завязло, будто кто-то нарочно чинил препятствия: молодой господин Леле не мог приехать в столицу из-за слабости здоровья и тяжести предстоящей дороги, а у корхи всегда находились дела, не позволяющие ему отлучиться от двора. Само собой, оба участника тяжбы напропалую обвиняли друг друга в любой проволочке; я же начал осознавать, что, поступив вопреки желанию дюлы, и впрямь не добился ничего, кроме распрей при дворе, которые ставили под угрозу все мои замыслы.
И в такое-то время явился этот человек – он стал камнем, который со всей силы швырнули в тихий лесной пруд: только что всё было спокойно, и тут по поверхности воды побежали волны, всплыли цепочки зловонных пузырей, прыснули во все стороны рыбы и гады. Сознавая, столько бед может принести поднятый им шум, сколько волнений и затруднений, в глубине моей души звучал иной голос: возможно, этому незнакомцу суждено стать тем самым клином, который при неблагоприятном стечении обстоятельств может обрушить всю гору на голову незадачливому путнику, пытающемуся с его помощью убрать с дороги камень…
Является ли он самозванцем, на чём настаивает мелек Онд, или в самом деле неправедно обиженным сыном ишпана? По правде говоря, тем вечером после закрытия королевского суда меня куда сильнее занимало другое: как отнесётся к этому мелек? И, надо сказать, мои ожидания оправдались – был ли он повинен в том, что возлагал на него тот горбун, или в чём-то ином, на миг я заметил в его лице панику попавшего в силки зверя.
При взгляде на Кешё у меня в памяти невольно всплыло старинное предание, где два могучих витязя встретились на узкой тропе – каждому из них остаётся лишь расправиться с врагом или, промахнувшись, пасть от его руки. Обратного пути для них уже нет, ведь после подобного обвинения Онд больше не станет мириться с близостью противника, который приставил меч к его горлу.
Оставалось выяснить одно – кто выковал этот меч?
***
Когда я после этого утомительного дня отдыхал в обществе моей жены, наслаждаясь её беспечным стрекотом с лёгким чужеземным оттенком, и весёлым звоном подвесок, когда она подливала мне вино, слуга доложил, что пожаловал начальник стражи.
Видя лёгкую досаду на моём лице, Шаролт [3] и сама сдвинула брови:
— Отошли его прочь, кенде. Он берёт слишком много воли, заявляясь к тебе в час отдыха.
Я с улыбкой провёл большим пальцем по её переносице, разглаживая морщинку:
— Я сам за ним послал. Не убирай со стола, хочу ещё посидеть с тобой перед сном.
С этими словами я тяжело поднялся на ноги с подушек, опираясь на низкий стол.
— Что изволит приказать светлейший кенде? — согнувшись в поклоне, спросил начальник стражи Тевел.
— В какую камеру поместили узника? — отозвался я, устраиваясь на резном деревянном троне.
— Как приказал кенде, в самую надёжную, куда не сможет проникнуть даже искусный лазутчик, страже у дверей велено не смыкать глаз, во дворе, куда выходит окно, также круглосуточный дозор.
— Вот и славно, — кивнул я. — И прикажите стражникам, чтобы к нему никого не пускали без сопровождения — ни мелека, ни корху.
— Даже самого корху? — опешил Тевел.
— Это необычный узник, так что допустивший просчёт разделит его участь. — Кивком я дал понять, что аудиенция закончена, но начальник стражи медлил.
— У тебя есть что сказать? — поторопил его я.
— Светлейший кенде, дозволено ли применять к узнику допрос с пристрастием, дабы получить признание?
— В этом нет нужды, — нахмурился я. — Пока мне не будет представлено доказательств его вины, твоя задача — чтобы он пребывал в добром здравии, так что вели, чтобы не скупились на еду и питьё, — добавил я, припомнив, каким истощённым и изнурённым болезнью выглядел этот человек.
Вернувшись, я застал жену с нашим младшим сыном на руках, которому недавно сравнялось два года — она играла с ним, напевая какую-то песенку на родном языке и подкидывая его на коленях, отчего тот смеялся, крича: «Хэй! Хэй!»
Завидя меня, Шаролт хотела отдать мальчика служанке, чтобы тот не мешал мне отдыхать, но я велел оставить его — сейчас эта бесхитростная возня как нельзя лучше помогала мне отрешиться от обуревавших меня забот.
Леле
Меня самого порой поражает, как мало я помню из своего детства — казалось бы, мне было уже немало лет, и я не забыл ничего из того, чему успел научиться, но вот события, лица, места — все стёрлось, расплылось, словно в помутневшем зеркале. Я вовсе не помню лица отца, и совсем смутно — матери; когда я пытаюсь его воскресить, перед глазами вместо этого встает её силуэт у входа в летнюю юрту в платье с широкими рукавами, а за ней виднеется бескрайнее зелёное поле, залитое солнцем. Я не могу поручиться, что это — моя мать; даже в том, что это не плод моей фантазии, я не уверен. За годы сидения в застенках всё так причудливо перемешалось в моей голове, что порой я начинал всерьёз сомневаться, кто же я такой — быть может, вовсе не сын ишпана Дёзё, а какой-нибудь полоумный тать, который вбил себе в голову, будто за всю свою жизнь не сделал ничего, достойного наказания. Возможно, со временем я окончательно утвердился бы в этой мысли, если бы не тихий голос, окликающий меня из темноты раз в столетие — или в месяц — а может, и по нескольку раз в день — как я мог судить?
— Господин Леле, — вещал он. — Господин Леле!
Я цеплялся за этот голос, поспешно засыпая его вопросами, словно проплывающий мимо пустынного берега странник в лодке без весел и кормила:
— Кто ты? Который сейчас год? Кто сейчас правит? За что меня здесь держат?
Я не очень-то рассчитывал на ответы — а их поначалу и не было — для меня куда важнее было слышать звук собственного голоса, осознавая, что я ещё не потерял способность изъясняться человеческим языком — а порой мне так и казалось, когда, открывая рот, я не мог извлечь из него ни звука, лишь тонкий хрип, подобный зову летучей мыши. Порой я обращался к нему на других языках — ромейском или саксонском — не знаю уж, что он думал на этот счет, возможно, считал, что я, окончательно рехнувшись, перехожу на бессвязный лепет. То, что пищу мне тогда приносил один и тот же тюремщик, я знал по тому, что никто другой не обратился бы ко мне так — «господин Леле». Коппань так и вовсе именовал меня не церемонясь: «пёсье семя». Выгоняя меня на свет, он потешался:
— Не иначе, твоя мать спуталась с бесом — а то откуда бы взяться столь уродливому потомству? — За волосы подтаскивая меня к бронзовому зеркалу, он тыкал меня в него лицом, повторяя: — Полюбуйся на себя — с такой статью ты был бы первым парнем у карликов в пещерах! А быть может, они к тебе и наведываются, чтобы повеселиться — то-то у тебя такой усталый вид!
Я старался сносить всё молча, потому как знал: стоит мне издать хоть звук, хоть на мгновение перемениться в лице, и издевательства затянутся надолго. А так ему быстро наскучивало моё общество — разочарованно бросив:
— Уберите, не желаю больше видеть эту образину, — он, казалось, забывал о моём существовании на месяцы, если не на годы. Так всё это и тянулось — яркий свет, боль от побоев, а затем — темнота и сырость, да время от времени зов: «Господин Леле!»
Еда была скудной, но отнюдь не столь ужасной, каковая обычно достается узникам — заплесневелый хлеб я видел крайне редко, да и вода всегда была свежей, а порой, по праздникам, перепадала горячая лепёшка с мясом — только так я и мог судить о ходе времени. Однако чаще всего это была обыкновенная мясная похлебка или каша с лепёшками — я проглатывал всё, не успевая даже распробовать пищу. По крайней мере, это освобождало меня от необходимости охотиться на крыс, которые шуршали и пищали по углам, словно возмущаясь моей скупостью.
Отчего-то именно после еды, когда, казалось бы, человек должен испытывать довольство, на меня накатывали приступы беспричинного отчаяния — стискивая миску в одной руке и ложку — в другой, я принимался сперва поскуливать, а затем выть в голос, то прижимаясь лбом к коленям, то запрокидывая голову к потолку. Давясь гневом и болью, я бесчисленное количество раз повторял: «Матушка, матушка…» или «отец, отец…», сам не зная, что вкладываю в эти слова — жалобы на судьбу, призыв вступиться за меня там, в загробном мире, или же это был просто зов, подобный плачу грудного младенца — чтобы хоть кто-нибудь, небезразличный к моей судьбе, явился и избавил меня от этой тягостной доли.
Как-то раз, когда я вновь предавался этим бессмысленным причитаниям, из темноты донеслось повторное: «Господин Леле!» Я тотчас притих, прислушиваясь, и почти уверился, что чувства меня обманывают, когда к этому прибавилось: «Не кручиньтесь так!»
— Кто ты? — принялся я за свои обычные расспросы, кинувшись к двери, но в ответ услышал лишь:
— Ишпан Коппань не велел, — и шаги, на сей раз окончательно затихающие в глубине подземелья.
Я прижался к двери, против всех разумных соображений ожидая, что он, быть может, вернется — но время шло, и до меня не доносилось ничего, кроме приглушённых звуков, которые только мой обострившийся слух и мог разобрать: где-то хлопали двери, слышался топот ног по каменному полу, еле слышное ржание, кто-то причитал; казалось бы, люди жили совсем рядом — только руку протяни, но на поверку я мог кричать хоть до хрипоты — никто так ни разу и не отозвался, чтобы хотя бы велеть мне заткнуться. И всё же, несмотря на то, что моё одиночество ничуть не умалилось, отчего-то сдавливавшие горло тиски отчаяния ослабли, чёрная тоска словно бы впиталась в каменный пол, и без неё дышать стало куда легче.
В следующий раз, когда тюремщик окликнул меня, я вместо обычных вопросов, однообразных, словно осенний дождь, бросил:
— Обо мне справлялся кто-нибудь из родни? Хоть кто-то вспоминает обо мне?
— Да вы ж сам знаете, нет у вас никого на свете, — с явной неохотой отвечал тюремщик. — Живёте на иждивении ишпана Коппаня — радуйтесь и этому.
Я знал, что это не может быть правдой — оставался дядя отца Онд, по милости которого мы с матерью были сосланы сюда, и дядя Кешё — младший брат отца, которого я помнил лишь по тому, как когда-то безмерно давно он подсаживал меня на лошадь — мои ноги тогда ещё не то что не доставали до стремян, но еле могли обхватить её бока. Были и более отдалённые родственники, но сейчас суть была отнюдь не в этом, и потому я вместо того, чтобы взять миску с похлёбкой, ударил кулаком по двери:
— Зачем ты лжёшь! Они ведь думают, что я мёртв, так ведь?
— Как знаете, — равнодушно отозвался он, удаляясь, а я ещё долго колотил по стенам, повторяя: «Неправда! Неправда!», пока не вымотался вконец — руки саднило не на шутку, но на душе, как ни странно, вновь полегчало.
Так и пошло, что помимо «господина Леле» мне всякий раз удавалось вырвать у стражника хотя бы несколько слов — пусть даже это было бесстрастное «как знаете»; порой, вопреки запрету, он даже обменивался со мной парой фраз, вроде: «Может, весна, а может, и лето; вам-то какая разница?», и тогда я чувствовал ничем не обоснованную гордость, словно рыбак, вытащивший из воды особенно крупную рыбину. Против воли я начал дожидаться этих кратких, будто вспышка молнии, бесед, словно цветы — первых лучей солнца; едва ли когда-нибудь влюблённый ждал свою избранницу с тем же нетерпением, с которым я — этого еле слышного: «Господин Леле!», способного вырвать меня из самого глубокого сна.
***
На следующий день я проснулся от скрежета засова на двери. Не соображая со сна, что происходит, я поднялся с лежанки, осоловело глядя на двух вошедших в камеру мужчин. Один из них, с факелом, приблизился вплотную ко мне, так что я вынужден был заслонить глаза, по которым резанул свет; второй же застыл посреди камеры, оставаясь тёмным силуэтом. Поскольку они безмолвствовали, я тоже молчал, хоть сердце невольно сжималось от мысли, что стало целью этого визита: меня сейчас будут допрашивать, пытать, а быть может, и вовсе прикончат, избавляясь тем самым от докучливой проблемы? Наконец тот, что остановился поодаль, заговорил, и по голосу я узнал корху Кешё:
— Как ты оказался здесь?
— Крепость Ших разрушили соседи ишпана Коппаня, — ответил я, решив, что рано или поздно это всё равно станет известно. — И мне при этом удалось бежать.
— Как ты добирался сюда из Эрдея? — уточнил он, отходя к светящемуся дымным слюдяным светом окошку.
— Через Бихор, мимо Варода [4]. Мне удалось преодолеть перевал Подкова до холодов.
— Кто тебя сопровождал?
— Я присоединился к группе странников, направлявшихся в Гран.
Какое-то время Кешё молчал, затем приблизился ко мне, забрав факел у сопровождающего — тот отступил на пару шагов, застыв безмолвной тенью.
Отсветы огня легли на смуглое лицо с тёмными усами и тяжёлыми веками, обрамлённое выбившимися из кос кудрявыми прядями.
— Как я могу тебе верить, если ты утаиваешь от меня правду? — тихо спросил он.
— А я могу вам верить? — переспросил я, выдержав его взгляд.
Установив факел в кольцо на стене, он сделал несколько кругов по камере, после чего спросил:
— Почему по прибытии в Гран ты сразу не отправился ко мне? Тем самым ты избавил бы и себя, и меня от многих затруднений.
— Так вы всё-таки верите мне? — невозмутимо переспросил я.
Вместо ответа он бросил:
— Сколько бы я ни размышлял, я так и не нашёл ни единой причины, по которой подобный тебе самозванец мог бы попытаться выдать себя за сына Дёзё — ведь очевидно, что ему никто не поверит. Окажись на твоём месте кто-то здоровый и хотя бы отдалённо похожий на Леле — вот тут у меня были бы причины для подозрений.
Я молчал, понимая, что тем самым он бросил мне в лицо, что в пользу моей правоты свидетельствует лишь вопиющее безумие моей затеи.
— Во всяком случае, тебе стоило позаботиться о доказательствах, прежде чем заявляться на королевский суд, — с немалой долей раздражения добавил Кешё. — Теперь же мне не остаётся ничего другого, как ждать, что по приезде дюлы Онд спляшет на твоих костях мне назло. Ты ведь не мог не понимать, что навлёк на свою голову недовольство кенде тем, что заявился прилюдно, даровав всем отличный повод для пересудов?
— Мы с матушкой прежде доверились милости одного родича, — начал я, отлично сознавая, что он может воспринять это как оскорбление. — Однако оказалось, что родственные узы — не чета личной выгоде. Можно ли винить меня в том, что я не слишком доверяю им нынче?
— Ты прав, не мне тебя судить, — после продолжительной паузы заключил Кешё, тряхнув кудрями. — В конце концов, ставка в этой игре — твоя жизнь, а не моя. — Направившись к двери, он остановился: — И всё же, если ты решишь, что готов что-то мне поведать — немедля дай мне знать, будь это полдень или полночь.
Иллё
Разумеется, до меня тотчас дошли слухи о том, что случилось на королевском суде: сплетников меж нашими во все времена хватало, а тех, кто желает под это дело пожаловаться на свои недуги, надеясь, что я сотворю чудо, посоветовав какое-нибудь чудодейственное средство — и того пуще. Вот и сейчас — едва стемнело, прибежал ко мне вприпрыжку мой сосед, почтенный Хуба, даром что жалуется на ноющие колени, и принялся взахлёб вещать с таким видом, что я уж было подумал, что он сам подавал прошение на суде. Однако едва заслышав, о чём там шла речь, я пропустил мимо ушей всё остальное, под конец бездумно велев ему делать припарки и пить молоко кобылицы как укрепляющее.
Хуба давно ушёл, а я всё продолжал раздумывать над его рассказом. По правде, мне давненько не приходила на ум та моя поездка, слишком много с тех пор случилось куда более значительных и грозных событий.
Как сейчас помню: в тот день я порядком утомился в пути, ведь уже тогда года давали о себе знать, а с поручением самого кенде медлить нельзя, так что до того я почти сутки не слезал с седла. По счастью, меня ждал тёплый приём: ишпан Коппань, будто только меня и поджидал, тотчас устроил знатный пир, на котором не было недостатка ни в угощениях, ни в выпивке, что было весьма кстати для моих озябших костей.
По правде, мне хотелось поскорее покончить с этим делом, поэтому я опасался, что ишпан станет тянуть, уговаривая меня остаться хотя бы на неделю — мне ли не знать этих обосновавшихся в диких местах господ, которые на всё готовы, лишь бы залучить к себе гостя, тем паче лекаря — однако же тот, услышав, что я тороплюсь, предложил мне немедля осмотреть хворого молодого господина, чтобы вскорости я мог пуститься в обратный путь, и, немного отяжелев от угощения, я последовал за ним.
Ишпан Коппань предложил мне пока оставаться за резной ширмой, предупредив, что на молодого господина порой находят приступы буйства. Однако, когда я увидел его воочию, он показался мне апатичным и отупевшим — стоял, свесив голову, будто не понимая, где находится. Но больше всего меня поразило, как изъела его болезнь: совсем молодой парень — тогда ему едва сравнялось семнадцать — выглядел дряхлым стариком. Ссутулив спину, он едва держался на немощных ногах и, казалось, у него нет сил даже поднять голову. Из-за царивших в зале сумерек я не сразу понял, что его подстриженные волосы полностью седы. Хоть одежда на нём была чистая и опрятная, меня не оставляло ощущение, будто нищего нарядили в обновки по случаю праздника — а ведь передо мной был один из знатнейших молодых господ нашей страны.
Ишпан Коппань тихо обратился к нему с каким-то вопросом — как мне показалось, он и не надеялся услышать ответ, делая это скорее для меня. Вместо того, чтобы ответить, молодой господин внезапно вскинулся, уставив на него сверкнувшие дикой злобой глаза, и заорал:
— Чтоб твои кости обглодали демоны нижнего мира! Чтоб твоё потомство изъела чума, а душа твоя не нашла покоя, блудливый пёс! — при этом, если бы его не удержали воины ишпана, он наверняка бросился бы на родственника. Коппань кинул в мою сторону мимолётный извиняющийся взгляд: мол, насчёт этого я вас и предостерегал — и громко велел стражникам:
— Вы же видите — молодой господин утомился, уведите его в палаты.
И впрямь более похожий на какое-то исчадье дьявола, чем на человека, Леле вырывался, изрыгая проклятия как на нашем языке, так и на латыни и вовсе непонятном наречии — видимо, то, что нашёптывали ему злые духи.
Иных подтверждений мне не требовалось, да и подходить ближе я не видел нужды: когда в человека вселяется злой дух, лишая его рассудка, тут надобен не лекарь, а талтош. К нему я и посоветовал обратиться молодому ишпану, однако, судя по тому, как он скривил губы в ответ на мои слова, он едва ли последовал моему совету.
Вернувшись, я уведомил мелека Онда и кенде, что молодой господин Леле и впрямь сошёл с ума.
И вот теперь, как охотно поведал мне сосед, объявился какой-то проходимец, который выдаёт себя за Леле — страшный, будто бубуш [5], и горбатый в придачу — куда уж ему сойти за молодого красавца, коим должен быть сын славного ишпана Дёзё! Пусть я не прерывал его, в голове билось одно: видел бы ты своими глазами этого ясна сокола, как я пару лет назад! Горбатый и седой… Тогда я не слишком распространялся об увиденном, не желая отягощать слух молодого кенде — всю правду о горестном состоянии, в коем пребывает его племянник, я рассказал лишь мелеку. Выходит, что тот, кто выдаёт себя за него, должен обладать сведениями, которые возможно добыть лишь от окружения ишпана Коппаня — в противном случае, безусловно, очам кенде предстал бы складный парень в полном расцвете сил с прямой как молодой ясень спиной и смоляными волосами. Вот только мог ли это быть сам Леле? У меня не было ответа — ведь мне доводилось слышать о случаях, когда одержимые и безумцы внезапно исцелялись — порой такое происходило при обращении к христианским святыням, порой им помогали шаманы и волхвы, а иной раз это случалось само собой — злой дух попросту выходил из их тела, будто в поисках иного убежища.
Качая головой, я встал, чтобы затеплить свечу, когда в дверь постучали. Досадуя на то, что, похоже, мне вновь предстоит бессонная ночь — право, в моём возрасте пора бы переложить эту ношу на сына, когда тот закончит обучение — я двинулся к двери, бормоча под нос: «Кого там ещё эрдёг принёс?»
— Да, сударь! — с благостной улыбкой, бросил я, открывая дверь, однако стоявший за ней слуга, вместо того, чтобы тотчас тащить меня к своему господину или госпоже, лишь с поклоном протянул мне свёрнутую льняную тряпицу, после чего удалился, не дожидаясь ответа — будто немой, право слово.
Недоумевая, что могло быть внутри, я развернул тряпицу — и обнаружил, что она испещрена палочками и полукружиями. Хмыкнув, я зажёг свечу и расстелил её на столе — давненько мне не доводилось получать написанное секейскими рунами [6], которые более подходят для того, чтобы тесать их на камне или вырезать на дереве, чем для таких вот посланий.
«Брат мой Иллё, твоя невестка совсем плоха. Приезжай в Кэйкфалу, на тебя одна надежда».
Вот и всё — всего-то несколько слов, будто разбросанные по тряпице паучьи лапки. В Кэйкфалу, в Татре [7], проживал с семьёй мой младший брат Боньха, но, сказать по правде, я так давно не получал от него вестей, что уж и не знал, жив ли он. Я немало удивился тому, что он решил обратиться ко мне — видать, дело и впрямь серьёзное.
Охая и кряхтя, я двинулся в соседнюю комнату, чтобы разбудить жену: будучи куда моложе, она в отличие от меня могла похвастаться отменно крепким сном.
— Семейные дела требуют моего отъезда, — поведал я ей.
— Какие семейные дела? С сыном что? — спросила она, испуганно хлопая со сна глазами. Я лишь махнул рукой: — Да брат мой, Боньха — пишет, что жена занемогла, совсем плоха. Если не помогу — так хоть поддержу в трудную минуту.
— Какой ещё брат? — ещё не до конца проснувшись, тотчас возмутилась жена. — Я его в глаза-то не видала — а ты когда его видел в последний раз?
— Ладно тебе, — примирительно бросил я, махая на неё рукой, — всё ж родная кровь… Как знать, может, в последний раз его увижу…
— А то что я, быть может, тоже в последний раз тебя вижу — это ничего? — усевшись на постели, жена сердито упёрла руки в боки. — Чего удумал — в ночь к чёрту на рога! Да по льду! Если уж себя не жалко, пожалей хотя бы меня!
Не слушая её причитаний, я пошёл будить слугу — однако жена не отстала и тут: одеваясь на ходу, продолжала честить то меня, то моего несчастного брата, то Могоша [8] — который, проснувшись среди ночи, был и сам изрядно сбит этим с толку, так что пользы от него было немного. По счастью, жена за бранью весьма сноровисто собрала всё потребное в дороге — ничего не забыла, тут я мог быть уверен.
— Кто спросит — скажи, что вернусь через неделю, — велел я ей напоследок. — А задержусь — пришлю весточку.
Прихватив с собой, помимо целебных снадобий, кошель с деньгами — не приедешь же к брату, которого пару десятков лет не видел, совсем без гостинцев — я вместе со слугой выехал за ворота в ночь, как не раз делал за годы службы при королевском дворе.
Мы быстро достигли реки, лёд которой в это время был достаточно крепок, чтобы ехать по нему без опаски, и всё же мы со слугой спешились: не стоит недооценивать коварства речных духов. Мы успели миновать стремнину, когда слева, из-за изгиба реки, послышался приглушённый зов:
— Помогите! Помогите!
Вглядываясь во тьму, я бросил:
— Слышишь, кто-то кричит?
— Небось кто-то под лёд провалился, — опасливо предположил Могош. — Течение там у излучины коварное, слыхал, не так давно целую повозку под лёд затянуло…
— Так пойдём подсобим? — предложил я, влекомый привычкой спасать людей.
— Нет, не ходите, господин! — заартачился слуга. — Быть может, это водяной балуется — склави сказывают, они зимой скучают, вот и заманивают путников раков кормить…
Однако я лишь отмахнулся от его причитаний, медленно двинувшись на зов.
— Или, может, то грабители — заманят нас да и кошель долой, а то и голову… — нехотя тащась за мной, твердил Могош.
Казалось, с каждым шагом стылая тьма сгущается всё сильнее, а в ушах стоял отчаянный зов:
— Помогите, помогите!
Кешё
Разговор с пленником заставил меня призадуматься не на шутку: после этого я поднялся на замковую стену, да так и ходил туда-сюда, пока не поднялось над дальними горами солнце, осветив и город, и скованную льдом Дуну [9] — увы, в отличие от озарённого утренними лучами мира, в моём сознании царил всё тот же беспросветный мрак, мысль металась от сомнения к неверию. Наконец, вспомнив про королевский указ, я поспешил к своим подручным, которым ещё с вечера велел на рассвете привести лекаря в замок.
— Нет его, — развёл руками Енё, старший из них.
— Как нет? — нахмурился я. Поначалу это ничуть меня не встревожило, так что я как ни в чём не бывало спросил: — Вызвал кто по лекарскому делу? Так что ж вы не отправились туда, куда он пошёл, и не дождались его там?
— Так он к брату уехал, — неуверенно пожал плечами Енё — будто поёжился.
— К какому такому брату? — в сознании шевельнулся холодный язычок беспокойства, но пока я не придал этому значения. — Вы расспросили, куда, зачем?
— В Татру. — При этих словах Енё покосился на побелевшую реку, которую, несмотря на ранний час, испещряла не одна цепочка следов. — Жена говорит, весточку получил — и умчал на неделю.
— А. — У меня малость отлегло от сердца, но я тут же вспомнил: король требовал лекаря пред свои очи немедля — мне ли не знать, что он скажет, когда я попрошу его обождать с недельку? — Скачите за ним! — велел я подручным. — Без роздыху, и уповайте на богов, что догоните! Да не мешкайте! — поторопил я, видя, что они не спешат выполнять мой приказ. — Стойте, когда лекарь уехал? — бросил я им в спину.
— Так сегодня, затемно ещё, — робко отозвался Силард — тот, что помоложе, который прежде не проронил ни единого слова.
— О фенэйбе [к чёрту] [10]!!! — выругался я, едва они скрылись из вида. — Фенэйбе, фенэйбе! — с каждым выкриком я бил по заснеженным камням замка, не заботясь о том, что на руке останутся ссадины. Мой гнев был направлен отнюдь не на удалившихся подручных: я отлично понимал, что случившееся — целиком и полностью мой просчёт: разве я мог позволить себе коротать драгоценное время в праздных размышлениях, когда иные медлить не станут?
Я оставался на стене до тех пор, пока на льду не показались двое моих помощников — из предосторожности они спешились. Поглядев, как они медленно переходят реку, я развернулся и сам отправился в дом лекаря, что должен был по уму сделать ещё вчера.
От его супруги и впрямь было мало толку: я не узнал от неё почти ничего кроме того, как невысоко она ставит мужнину родню. Мол, да, получил письмо среди ночи, а кто, как доставил, где само письмо — откуда ж, мол, ей знать? Так что мне оставалось надеяться лишь на расторопность моих подручных, которые, дай-то боги, застигнут лекаря раньше, чем он доберётся до предгорий.
На обратной дороге в голове у меня стучало одно: нельзя медлить, пока последние надежды доискаться до правды не истают, словно восставший в горячем воздухе степи мираж.
Вернувшись в замок, я первым делом отыскал Акоша [11] — самого опытного из моих помощников, который служил прежнему корхе — в отличие от своих бывших сотоварищей, он остался при мне, хоть нередко поглядывал на меня с неодобрением, а то и выказывал его открыто, давая понять, что я не чета его прежнему начальнику.
Как ни противно моей воле было признаваться этому бывалому воину, в прищуре которого мне всегда чудилась насмешка, в том, что я оплошал, зря потеряв драгоценное время, я, стиснув зубы, поведал ему про Иллё — равно как и про то, что уже выслал за ним.
— Если всё пойдёт как намечено, то к вечеру они вернутся с лекарем, — закончил я.
— Если, конечно, он в самом деле направился к брату, а не сбежал, — бросил Акош, устремив проницательный взгляд вдаль.
— Я понимаю, что такая возможность есть, — ответил я, едва скрывая раздражение.
Акош еле заметно пожал плечами: мол, раз господин такой умный, к чему тогда его помощь?
— В любом случае, кенде требует его к себе немедленно, — продолжил я, — так что нам необходимо срочно его найти, хоть из-под земли достать.
— Поиски могут занять немало времени, — бросил Акош, возводя очи горе, что было красноречивее невысказанных слов: мол, если бы вы с самого начала поручили это дело мне, такого бы не случилось. — Пусть я и не могу обещать, что они увенчаются успехом, я сделаю всё, что от меня…
— Этим займутся другие, — не в силах сдержаться, оборвал его я. — А от тебя я хочу иного: возьми Цинеге [12] и езжай с ним в Варод.
Акош молча воззрился на меня в ожидании разъяснений.
— И по дороге туда порасспрашивайте, не видел ли кто горбуна, похожего на нашего самозванца. Он уверяет, что явился с Бихора — по мне, так это следует проверить.
Мой помощник медленно кивнул, при этом я словно воочию видел, о чём он думает: уж не желаю ли я попросту спровадить его куда подальше, чтобы не маячил перед глазами?
— Ишпан Элек, господин Варода, — произнёс он, вперив в меня взгляд, — мой давний знакомец.
— Вот и славно, — с облегчением бросил я: по правде, потаённое желание хоть ненадолго избавиться от этого ходячего укора тоже имело место.
Примечания:
[1] Шош — венг. Sas — в пер. с венг. «орёл».
[2] Река Лех (венг. и нем. Lech) — альпийская река на территории Германии и Австрии. Название реки связывают с кельтским племенем ликатов, от которых происходит её латинское название Ликиос (Likios или Likias). Это название также связывают с валлийским llech (каменная плита) и бретонским lec’h — «могильный камень».
Описываемые здесь события — отсылка к сражению на реке Лех в 955 году, в котором войско венгров потерпело сокрушительное поражение от саксов.
[3] Шаролт — вент. Sarolt — это старое венгерское имя предположительно происходит от тюркского «ласка» или «горностай».
[4] Бихор — венг. Bihar — часть Западно-Румынских гор на границе Трансильвании.
Варод — венг. Várad — соврем. Орадя (рум. Oradea) — город на границе Румынии и Венгрии. Впервые Орадя упоминается под латинским названием Варадинум (латин. Varadinum) в 1113 году. Крепость Оради, руины которой сохранились по сей день, впервые упоминалась в 1241 году в связи с приготовлениями к обороне от монголо-татар.
[5] Бубуш — венг. bubus — пещерный дух, маленькое создание, живущее в пещере.
[6] Секейские (или венгерские) руны — венг. rovás írás — в букв. пер. «руническое (резьблённое) письмо – руническая письменность, которой пользовались венгры до начала XI в., до введения латиницы, происходят от древне-тюркской письменности (возможно, от аварских рун). Написанное ими читается справа налево. Интересно, что в Венгрии эти руны используются и в настоящее время: в частности, ими часто дублируются дорожные указатели.
[7] Кэйкфалу — венг. Kékfalu — название переводится как «синяя деревня».
Татра — венг. Tátra (Татро) — венгерское название Татр.
[8] Могош — венг. Magas — в пер. означает «высокий».
[9] Дуна — венг. Duna — р. Дунай.
[10] О фенэйбе — венг. a fenébe — в совр. венг. языке fene означает «чёрт», а также «ад». Это слово восходит к финно-угорскому корню, согласно венгерскому народному лексикону fene – демон, вызывающий болезни, так называли язвенные и сыпные раны, которые «пожирают тело».
[11] Акош — венг. Ákos — возможно, имя тюркского происхождения, означает «белый сокол».
[12] Цинеге — венг. Cinege — в пер. означает «синица» (также Cinke - Цинке).
Следующая глава

older than dead, блог «мрачный чтец»
но пшеница — это не просто пшеница.
Можно подумать, мои новые коллеги прошли тот же путь эмоционального отторжения от меня, что и отец, только уложились не в тридцать два года, как он, а в стандартный астрономический месяц.

