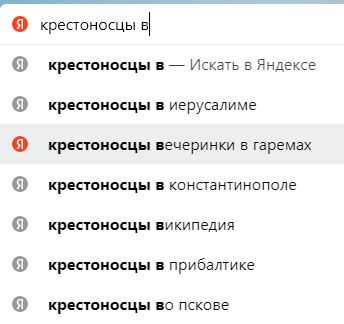Что почитать: свежие записи из разных блогов
Записи с тэгом #из истории человечества из разных блогов

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
"Айвенго"
Одного из реконструкторов, которых я смотрю, как-то спросили на стриме, можно ли считать "Айвенго" достоверной реконструкцией нравов и обычаев Англии высокого средневековья? Он сказал, что нельзя, ибо эти самые нравы и обычаи там сильно идеализированы, особенно рыцарские. Хороших книг о средневековье в принципе немного, подумала я, а тут все же мировая классика - и посмотрела фильм (1982 года, британский). Он мне так понравился, что я заинтересовалась этой историей и за пару недель прослушала роман и посмотрела все четыре его экранизации.
Скажу честно, даже несмотря на некоторую идеализацию нравов и обычаев, особенно саксонских, книга сохраняет дух эпохи, а это главное достоинство любого исторического романа. Но, конечно, я никогда не увлеклась бы этой историей, не будь в ней милых моему сердцу персонажей.
Интересно, если кто-то читал эту книгу, кого вы там любили? Айвенго? Буагильбера? Судя по Фикбуку, общий любимец - это Буагильбер, и мне он тоже нравится. Пока я не прочла книгу, а только посмотрела британский и советский фильмы, это был мой любимый герой. Но книга на то и книга, что раскрывает мир и героев полнее любой экранизации. И в романе Скотта я неожиданно для себя (хотя подождите...) нашла другого любимца. Это Морис де Браси, командир наемной дружины. Среди всех героев романа он более остальных походит на реального средневекового рыцаря - отважного и гордого, знакомого с понятиями чести и добродетели, верующего, но при этом легкомысленного, распущенного, невежественного авантюриста. Однако более прочих его качеств, хороших и не очень, меня восхитило отсутствие жестокости и некая разборчивость в средствах. Судите сами: восьмой сын восьмого сына, нищеброд-наемник, получивший в наследство не папкин замок и мамкины земли, а коня, оружие и пинок под зад. Сколько таких младших сыновей небогатых баронов вынуждены были с мечом в руках добывать себе доли - мало кто сохранял милосердие, выбивая место под солнцем. Сколько человек теряли всякую жалость к ближнему, готовы были идти по головам, не выбирая средств. И то, что герой, вынужденный сам ковать свое благополучие, готов ради этого не на все, не могло не тронуть меня. Скажу честно, сердце мое тронулось и обратилось к нему тогда, когда его смутили слезы Ровены и он почувствовал, что готов даже отказаться от насильственного сватовства, похоронив и все свои надежды на удачный брак, и уважение товарищей.
«Если, - думал он, - я позволю себе растрогаться слезами этой девицы, как я возмещу себе утрату всех блестящих надежд, ради которых я пошел на такой риск? Вдобавок, будут смеяться принц Джон и его веселые приспешники. Но я чувствую, что не гожусь для взятой на себя роли. Не могу равнодушно смотреть на это прелестное лицо, искаженное страданием, на чудесные глаза, утопающие в слезах. Уж лучше бы она продолжала держаться все так же высокомерно, или я имел бы побольше той выдержки и жестокости, что у барона Фрон де Бефа».
Вот после этого, наверное, я его и полюбила, а затем все более уверялась, что не ошиблась. Среди троицы похитителей он милосерднее прочих, к нему я не боялась бы попасть в плен и обратиться с просьбой о пощаде.
Что до экранизаций, то лучшей из них я считаю тот самый британский фильм 1982 года, который посмотрела первым. Это апофеоз адекватности. Никаких "средневековых фильтров" - удивительно красивый визуальный ряд, яркие краски, адекватные персонажи, близкие к каноничным образам. Невероятно красивая Ребекка. Никакой лишней жести.
На втором месте советская экранизация - за потрясающий образ Буагильбера. Ему там лет пятьдесят, но такого горячего мужика еще поискать!
На последнем месте - сериал 1997 года и фильм 1952 года. Сериал полон жестокости и грязи, которой ужаснулись бы и средневековые люди, а фильм... несколько глуповат. Хотя Ровена там удивительно красива - пожалуй, ближе прочих к образу в моей голове.

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
* * *
Котята, я сегодня прочитала очень милую статью о крестовых походах американского историка Томаса Мэддена, и как же мне нравится мягкий стиль его изложения - как будто писала моя душа.
Профессор Мэдден жил себе скучной профессорской жизнью до тех пор, пока не случился теракт 11 сентября. Вот тогда его стали осаждать репортеры, и крестовые походы внезапно сделались всем интересны, ибо на них ссылался бен Ладен, обвиняя Запад в войне против ислама.
В крестоносцев сейчас не плюнул только ленивый, даже европейцы как будто стремаются говорить о них что-то доброе. но автор отмечает, что это, во-первых, вина массовой культуры, где фильмы, выставляющие их алчными ушлепками, мало общего имеют с историей, зато под пиво и чипсики заходят на ура, а во-вторых, "легко рассматривать Европу в свете того, чем она стала, а не того, чем она была". Средневековая Европа - это нищебродские задворки тогдашнего мира. А вот исламская цивилизация - это мощь, передовые технологии, несчислимые богатства. И вплоть до 16 века, когда Сулейман Великолепный осаждал Вену (!), перед европейцами стояла во весь рост зримая угроза лишиться всего, что было ими создано. Посему автор рассматривает крестовые походы как отчаянные попытки отодвинуть экспансию ислама.
"Христиане XI века вовсе не были фанатичными параноиками. Мусульманская угроза была реальностью. Хотя мусульмане могут быть и миролюбивы, ислам родился в огне войны, и войною же развивался. Со времен Мухаммеда средством распространения мусульманства был меч. Исламская мысль делит мир на две сферы: Обитель ислама и Обитель войны. Христианству — равно как, собственно, и любой другой немусульманской религии — места на карте не отводится. Христиан и иудеев можно терпеть в исламском государстве под исламской властью. Но традиционный ислам учит, что христианские и иудейские государства надлежит разрушить, а земли их — завоевать".
Однако победы на поле боя были для европейцев редкостью: все крестовые походы, кроме первого, оказались, по большому счету, провальными, и христианский мир все более сокращался. Но "хотя христианская Европа и находилась на волосок от гибели, в ней назревало нечто новое, не имеющее себе прецедентов в истории человечества. Ренессанс, родившийся из странной смеси древнеримских ценностей, средневекового благочестия и уникального внимания к коммерции и предпринимательству, стал основой для таких подвижек, как появление гуманизма, научная революция и эпоха великих открытий <...> Нейтрализация исламской угрозы была достигнута экономическим путем. Чем сильнее и богаче делалась Европа, тем более отсталыми и жалкими казались ей некогда грозные, непостижимые турки".
И, конечно, не могу не процитировать послесловие, которое касается любых воинов и любой войны в каком бы то ни было веке.
"Глядя на крестоносцев с безопасного расстояния в несколько сот лет, легко презрительно морщиться. В конце концов, теперь религия не стоит и гроша, не то что войны. Но надо помнить, что наши средневековые предки точно так же питали бы отвращение к нашим войнам — куда более разрушительным — разжигаемым во имя политических идеологий. Но все же и средневековый, и теперешний солдат сражается, в конечном счете, за свой мир и то, что это мир создает. Оба они готовы претерпеть огромные страдания, принести жертвы ради служения тому, что им дорого, тому, что больше них самих".

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
Где сокровище ваше
Господа котята, я могла бы тут офигительно долго рефлексировать, но это никому не интересно, поэтому просто скажу: я дописала историю о крестоносцах Четвертого похода и их заложнице. Прочитать можно на Фикбуке или на АвторТудей.
Аннотация: Константинополь, 1203 год. Юная Софья отвергла ухаживания логофета императорской канцелярии, и с тех пор он не упускал случая расстроить ее жизнь. Когда крестоносцы возвращают трон Исааку Ангелу, логофет советует ему выдать Софью за царевну и отдать латинянам в залог исполнения его обязательств.
Почему это историческая повесть, а не псевдоисторическая, как обычно: потому что в этот раз мне хотелось описать не только атмосферу прошлого, а конкретное событие, конкретные народы и конкретных людей. Поэтому большая часть этой кулстори - реальные исторические эпизоды, а большая часть действующих лиц - реальные люди. И, конечно, я не избежала истерики на тему "как же мне писать о реальных людях свои тупые фички, это будет оскорбление их памяти, а если я шо не так скажу, как я им в глаза посмотрю на том свете". Но в итоге решила, что восьмиклассницы же пишут фанфики о своих любимых певцах и актерах, еще и похлеще моего, и им ничего не жмет, так отчего я парюсь.

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
* * *
Продолжаю слушать "Баудолино", и вообще говоря, это очень специфическая книга. Когда закончу, в двух словах напишу общее впечатление, а пока хочу поделиться тамошними пассажами о тамплиерах. Понятно, что это стереотипы, которые не имеют с реальностью стопроцентного совпадения, но по сравнению с тем трэшем - иначе не скажешь - который о тамплиерах снимает Голливуд, эти стереотипы весьма... человечны.
Когда пал Иерусалим, в наших краях стали появляться беженцы, редкие удачники, кому выпало уцелеть на той войне. При дворе побывали семеро рыцарей-храмовников, спасшихся от мести Саладина. Вид они имели скверный, но не знаю, знаешь ли ты, что это вполне обыкновенно для тамплиеров. Они пьянчуги и развратники, и охотно поступятся родной сестрой, если взамен ты дашь им потискать твою <...> В общем, я их кормил, поил и изрядно поводил по местным заведениям. Поэтому вышло правдоподобно, когда я поведал императору Фридриху, что эти бесстыжие святокупцы прятали священную Братину, которую им удалось умыкнуть из Иерусалима. <...> какой-то придворный предатель смог украсть реликвию у Иоанна, а потом продать ее рыцарям-тамплиерам, доскакавшим в погоне за наживой даже до пределов пресвитеровой страны, натурально, без понятия, куда занесло их.
Разве не прелесть?

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
Мы строили, строили и наконец...
Нет, не достроили.
Но наконец-то, спустя более месяца с тех пор как мне пришло в голову написать о Четвертом крестовом походе, я придумала нормальную экспозицию - вполне органичную для эпохи, но вместе с тем позволяющую мне развернуться и вместить все, что я захочу сказать. Следите за руками. Обычный текст - реальные исторические события, оффтопик - мое ответвление.
Взяв Константинополь в первый раз, крестоносцы освобождают пленного императора Исаака и просят его подтвердить обещания сына. Исаак понятия не имеет, как он будет эти обещания исполнять, о чем прямо сообщает крестоносцам, но все же подтверждает их. Затем говорит примерно следующее: ребята, спасибо, конечно, что помогли мне и сынуле, но из города я бы вас все-таки попросил. Кому приятно, когда тебе мозолит глаза армия, которая тебя еще недавно осаждала. Переселитесь лучше в пригород, чтобы тут никого не раздражать.
Крестоносцы соглашаются, но в обмен просят императора разобрать кусок стены, обращенный к пригороду - чтобы им было все время видно, что против них ничего не затевается (д - доверие). Так вот, в реальном прошлом Исаак согласился и стену разобрали. А у меня Исаак говорит: пацаны, вы слышали вообще, что я сказал? Вы тут всех бесите, и если я велю разобрать стену, меня забьют арматурой. Я дам вам гарантию лучше этой - свою младшую дочку! Естественно, никакой младшей дочки у Исаака нет, ее забирают у распорядителя императорской казны. Взять совсем уж простолюдинку нельзя - крестоносцы не идиоты. Да и распорядитель будет мотивирован усерднее изыскивать бабло для выплат крестоносцам.
По нашим временам звучит дико - ведь сегодня заложников можно только брать насильно, но никак не давать добровольно. Однако в средние века это была обычная практика. Давать в залог исполнения обязательства какого-нибудь знатного или просто близкого человека было в порядке вещей. В одной только истории крестовых походов я навскидку помню три таких случая, а их явно было гораздо больше. Поэтому, думаю, девочку напрягало не столько положение заложницы (хотя оно и вносило некую тревожную неопределенность), сколько необходимость жить в окружении латинских варваров и поддерживать чужую ложь.

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
Die Welt der Ritter (2014)
Запишу отдельные мысли, которые у меня появились по ходу просмотра.
читать дальше

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
* * *
Джонатан Филипс, "Четвертый крестовый поход"
Таки шо я имею сказать:
1. Когда думаешь о головных уборах средневековой Европы, на ум приходит что угодно, только не меховые шапки. О, сколько нам открытий чудных...
2. Интересно, откуда Хониат знал такие интимные подробности. Он сопровождал Императора на тусовки? Или сопровождали другие люди с очень длинными языками?
3. На месте Алексея я бы являлась к крестоносцам без короны, чтобы у них не было искушения по приколу ее примерить. Игра, конечно, невинная, но символичная. Доигрались.
4. Немного личного.

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
* * *
Говорят, с пленными крестоносцами мусульмане могли поступить четырьмя способами:
а) уговорить принять ислам;
б) убить;
в) посадить в темницу и назначить выкуп;
г) продать в рабство.
И вот в последнем случае мне интересно: кто их покупал? Нет, серьезно. В античной Европе, например, такие рабы спросом не пользовались. Раб, бывший некогда свободным, а тем более воином - вещь в хозяйстве бесполезная и мало к чему пригодная. Такой будет думать лишь о побеге, неважно, к какому хозяину попадет. Доверишь ему корабль - он на нем от тебя учешет. Дашь кирку - он ею тебя и кокнет. На органы тогда людей вроде не продавали. Нипанятна.
Так много вопросов, так мало ответов.

Нуремхет, блог «Семь чудовищ Медного берега»
Четвертый крестовый поход
И знаете, чем больше читаю или слушаю, тем больше я на стороне крестоносцев. Не потому что за ними историческая правда. И не потому что я не люблю византийцев (они супер). А потому что конкретно в этом противостоянии крестоносцы ведут себя в тысячу раз адекватнее противника. Если мое знакомство с темой началось с мнения о том, что Константинополь разграбили исключительно из алчности (и к такому выводу нас пытается подвести вступление, написанное издательством), то чем больше я погружалась в тему, тем больше понимала, как же все непросто.
читать дальше