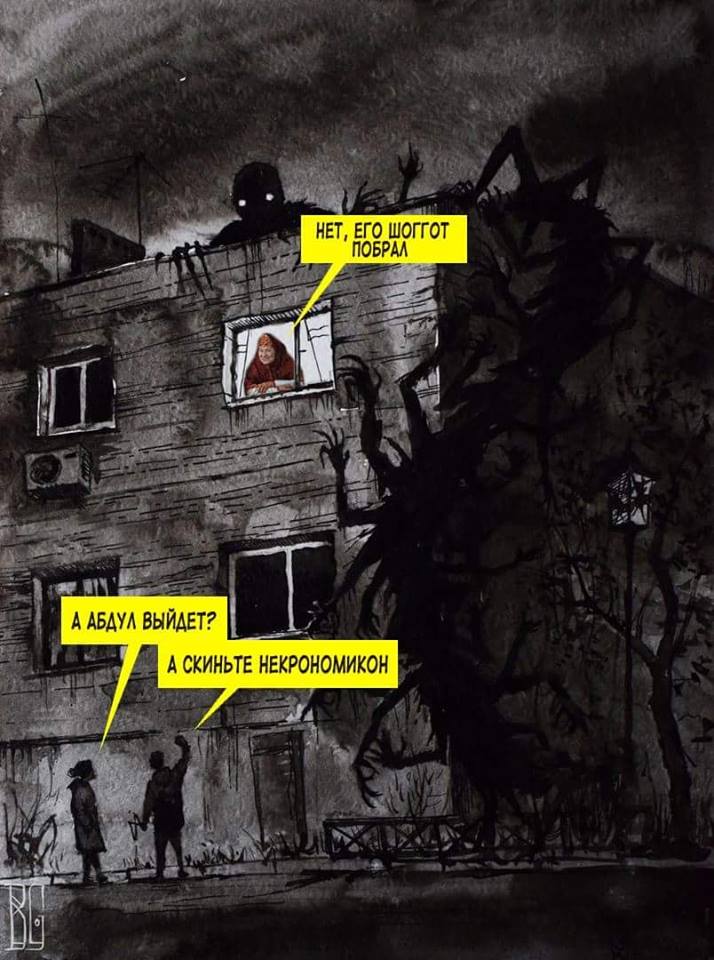Что почитать: свежие записи из разных блогов
Записи с тэгом #Крипи из разных блогов
Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Лешка
Лёшка
Написано для fandom Bloodsuckers 2018
драббл, джен, Р
бета ksandria
Написано для fandom Bloodsuckers 2018
драббл, джен, Р
бета ksandria
Лёшка вбежал в комнату – как всегда, оживленный на свой сумрачный лад. Андрей с удовольствием проводил его взглядом.
Когда-то Андрей и сам был таким же мальчишкой. Только вместо прозрачной бледности его загорелое пацанье лицо покрывал румянец. И глаза у него были обычные, не обведенные темными кругами.
А потом – он почти не помнил, что потом. Визг тормозов, резкая боль, запах лекарств. Плачущая мама.
Потом ушел отец. Он ни разу не навестил Андрея, даже не связался по вотсаппу. Коляску оплатил, и на том спасибо. А вот мама совсем извелась…
скрытый текстИногда Андрей гадал, сколько ему лет. Лёшка сначала бывал у них, а потом и жил с ними уже целую пятилетку, но за это время нисколько не вырос. Ему было не больше двенадцати на вид – этакий бледный кукленыш с черными кудрями. «Тебе надо больше бывать на воздухе, Леша, – говорила ему мама, – иди покушай, Леша, я купила витаминов, у тебя анемия, Леша, вот таблетка…» Мама приняла Лёшку как второго сына. Здорового и сильного, несмотря на бледность, – такого, каким должен был стать Андрей.
Лёшка пробежал мимо дивана и зеркала. В зеркале по-прежнему отражались пустая комната и диван, по которому не прошло и намека на Лёшкину тень.
Мама сготовила обед, который Лёшка и притаранил на подносе, – кашу и маленький кусочек курятины. Еще она взяла ему книжки в библиотеке. Андрей предпочел бы читалку, но на читалку не было денег.
Лёшкины руки приподняли Андрея. Как всегда – «утка», подмывание. Андрей и сам бы это делал, но тело почти не двигалось.
– Спасибо, – сказал Андрей, когда Лёшка закончил его вытирать и натянул на него чистые треники.
– Спасибо не булькает, – усмехнулся Лёшка.
Усмешка у него была неживая – глаза не улыбались, как и всегда; и легким запахом земли, как всегда, повеяло, когда Лёшка прижал к себе Андрея. Андрей ждал этого момента.
– На, – он протянул руку. Лёшка провел по этой руке языком. Нежно провел, ласково, – он всегда все делал очень деликатно. Нащупал языком вену, прижал ее… Андрей вздрогнул, когда резцы Лёшки впились в его руку, прокусывая кожу.
А потом наступила слабость.
Когда Андрей откинул голову на подголовник кресла, он будто уплывал куда-то далеко, за горизонт, за синюю туманную даль, и вдруг услышал собственный голос:
– Лех, а где ты живешь?
– Как – где? Здесь, – удивился Лёшка. – Я всегда здесь жил.
– Не звени, – возразил Андрей, – здесь мы жили. А ты появился, когда тебе было уже лет десять минимум.
– Одиннадцать, – поправил Лёшка. – Мне одиннадцать.
– Было?
– И есть. Мне всегда одиннадцать. Ну бывай, я за стеной, надо будет – позови.
Да, так и было. Сперва он появлялся робко и от случая к случаю, и всегда в комнате Андрея. Мама никогда не замечала, когда же он приходит. Но она была настолько измотанной – Андрея тогда мучили адские боли – что не встревожилась, что у чужого мальчика есть ключ от их квартиры. А теперь находился тут постоянно.
В его словах было что-то странное. Но если вдуматься, то Лёшка вообще был странным, – однако Андрей все равно радовался, что он есть.
Крови он выпивал совсем немного. По ощущениям Андрея – меньше десяти кубиков, потому что когда у него брали десять в больнице, он чувствовал себя куда хуже. Если Андрею было плохо, Лёшку поила мама. И все всё принимали как должное.
Ночью Андрея разбудили приглушенные рыдания. Мама снова плакала на кухне – усталая, измученная, без всякой надежды на выздоровление сына. Андрею захотелось ее утешить, он сполз с кровати, чтобы добраться до коляски…
Упал.
…Пришел в себя Андрей через несколько минут. Мама по-прежнему плакала на кухне, болел затылок – должно быть, Андрей ударился. И перед глазами с пронзительной ясностью встал тот самый день.
Тогда отец и мама опять поссорились.
– Да мне плевать на твою квартиру! – орал отец. – Это твоя квартира, это ты все устроила! Хотела приймака? Получай приймака! Я в этом сарае делать ничего не буду!
– Сарай он именно потому, что ты не делаешь! – не уступала мама. – Ты тут живешь, забыл? Смотри, вон обои отстали! Не хочешь новые клеить – не смей тогда говорить, что у нас уюта нет!
– Ах, обои? Да это твоя штукатурка… – и отец что было силы ударил по отставшим обоям. Пересохшая обоина отпала, отвалилась, за ней посыпалась штукатурка, пахнуло тяжелым смрадом…
Сколько Андрей себя помнил, у них в квартире… воняло. Пованивало. Слегка, особенно заметно – в дождь, и неприятный запах был неистребимым. А теперь он воочию увидел, почему.
За отставшей штукатуркой был распят на стене маленький труп. Ссохшееся личико с открытыми глазами, давно потерявшими блеск – они теперь были того же цвета, что и кожа, синюшно-коричневого. Взгляд Андрея метался, как прикованный, пытаясь оторваться от трупа – и не мог, выхватывая детали по отдельности. Скрюченные и сморщенные пальчики, будто они сначала опухли – и опали, кожа обвисла вокруг ногтей и засохла. Губы вокруг рта сгнили, и казалось, что труп то ли пытается крикнуть, то ли разевает рот в последнем судорожном вдохе. Футболка, когда-то синяя, с выгнившими дырами. Живот под ней тоже выгнил, внутренности выпали – они-то и смердели даже спустя годы, превращенные в бесформенное месиво. Под слоем штукатурки они подсохли, почернели и сморщились, и висели над ремешком обвисших джинсов. Под трупом натекло – жизненные жидкости вылились из него, засохли и теперь коробились многослойной толстой пленкой.
С минуту труп неподвижно смотрел на людей высохшими глазами. А потом подался вперед – и упал. Медленно, будто по частям. Закостеневшие руки опустились вдоль тела, пальцы отвалились один за другим. Ребра ссыпались в прогнивший и прорванный живот. Андрей думал, что кости белые, но нет, они были желтыми, с черными ошметками засохшего гнилого мяса. А потом труп упал…
Прямо к ногам Андрея. Кверху проломленным затылком, и в черепе виднелось что-то черное и спекшееся.
За спиной дико кричали.
Андрей окончательно вспомнил, как бежал по скользкой мокрой дороге, как выбежал прямо под колеса…
Визг тормозов.
Плачущая мама.
Лёшка наклонился над Андреем, затаскивая его на кровать.
– Упал? – спросил он. – Воды принести?
– Не, – мотнул головой Андрей, – ты лучше пойди маму успокой, а то плачет.
– Ага, – серьезно кивнул Лёшка. Помолчал. – У тебя кровь.
– Слижи. Ты же от нее живее становишься, да?
– Ага…
– Тебя кто?
– Отец.
– Суки они все…
– Точняк. Зато мы такими не станем. Ну, я пошел к маме. Тебе точно не надо воды?
Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Вендиго в ленту
Таежная легенда
мини, джен, хоррор, NC-21
рассказ отчасти основан на реальных событиях (история охотника Свифта Раннера) и на американской легенде о вендиго. Шок-контент.
мини, джен, хоррор, NC-21
рассказ отчасти основан на реальных событиях (история охотника Свифта Раннера) и на американской легенде о вендиго. Шок-контент.
– Джим, – окликнула мужа Мэгги, – скажи парням, что ужин уже на столе.
– О’кей, – согласился Джеймс Смит, флегматичный рослый человек лет сорока, с веснушчатым лицом, заросшим рыжей бородой. Он неспешно поднялся и перед тем, как выйти из хижины, бросил полный любви взгляд на Мэгги – пухленькую и юркую, жизнерадостную женщину, вот уже семнадцать лет скрашивавшую его жизнь и родившую ему четверых сыновей.
Завтра он планировал отправиться на охоту ради оленины. Склад с припасами отстоял от хижины Смитов миль на двадцать пять по прямой, и тащиться в такую даль Джеймсу было лениво. То ли дело отмахать вдвое, а то и втрое больше через заснеженный лес, преследуя карибу! Боб и Чарли, конечно, пойдут вместе с ним, они уже заслужили право называться охотниками. Может быть, и Адам увяжется. Адаму только тринадцать, но он тоже неплохо управляется с ружьем… Взять его, что ли?
скрытый текстДжеймс Смит родился в семье охотников, всю жизнь промышлял пушного зверя в лесах Альберты и не представлял себе иной судьбы. Мэгги, конечно, другое дело, она из городских; Джеймс не раз ломал голову над тем, что она в нем нашла, и приходил к единственно возможному выводу: Мэгги родилась, чтобы стать женой охотника и матерью будущих охотников, настоящих Смитов. А он, Джеймс, родился, чтобы стать мужем такой шикарной цыпочки, как его милая Мэгги.
– Эй, парни, – крикнул Джеймс, – Боб! Том! Адам! Чарли!
Разнобой мальчишеских голосов – от совсем детских и до ломающихся юношеских басков – ответил ему одно и то же «иду, папа». Джеймс прислушался.
– Чарли, – повторил он. – Иди к ужину, не заставляй мать ждать! Чарли!
– Чарли увидел зайца, – сказал Том, самый младший из Смитов. – Схватил ружье – и за ним…
– Зайца, – хмыкнул в бороду Джеймс. – О’кей, тогда его можно не ждать. Придет с зайцем – разогреем ему ужин.
– А если без зайца? – уточнил Том.
– Дадим нагоняй и разогреем ужин, – включилась в беседу Мэгги.
Джеймс обстоятельно, как и все, что он делал, произнес молитву, не забыв попросить Бога, чтобы Чарли успешно поохотился и поскорее вернулся, и вся семья приступила к ужину. Готовила Мэгги просто замечательно.
К концу ужина у Джеймса что-то заскребло на душе. Он присматривался к Мэгги и понимал, что она волнуется. А его жена, привычная к лесным будням, зря волноваться не станет.
Пошел снег. Он шел и шел, рассыпая сумерки в хлопья, и густел на глазах.
Чарли, весьма неглупый, рассудительный и довольно опытный юноша, должен был вернуться. Он был подвержен охотничьему азарту, как и любой мужчина, которому в руки попалось ружье, а перед глазами очутился заяц или иная дичь. Но не настолько, чтобы забыть обо всем и разгуливать по лесу в снегопад на ночь глядя! Да и заяц, если он не бешеный, уже давно забился под куст на ночлег…
Джеймс ощутил, как под ложечку закрадывается холодок беспокойства.
– Выйду, поищу его, – бросил он, надевая видавшую виды меховую парку. Боб и Адам вскочили:
– Мы с тобой!
– Останься, Боб, и охраняй мать с Томом, – велел Джеймс. Боб – старший из его сыновей – недавно ушиб ногу на охоте. Да и ему, Джеймсу, будет спокойнее, если Боб присмотрит за Мэгги с Томом…
Хижина была сложена из прочных дубовых бревен, а Мэгги отменно управлялась с ружьем и славилась как меткий стрелок среди охотников, но Джеймс все равно не любил оставлять жену без защиты. Мэгги была слишком дорога ему. И Том. И остальные дети тоже.
Адам поднял над головой мощный галогеновый фонарь. Второй такой же фонарь светил в руках Джеймса. Яркие оранжевые снопы света пролегли через лес, вспугнув какую-то пичугу. Снежинки в этих снопах казались горящими.
Джеймс знал, что Адам обожает включать фонарь в снегопад и любоваться «горящими» снежинками, но сейчас им обоим было не до того. Чарли отправился в лес без всякого фонаря.
– Чарли! Чарли! – звали они.
Чарли не отзывался.
Джеймс вскинул ружье и выстрелил в воздух. На выстрел Чарли должен был обратить внимание.
Ему показалось, что между деревьев мелькает чей-то силуэт. Джеймс обрадованно обернулся, крикнул еще раз «Чарли», но никого не увидел.
– Адам, – отрывисто произнес он, – держись рядом со мной.
– Ага, па, – отозвался мальчик.
То и дело в чаще леса кто-то мелькал, но кто – рассмотреть не удавалось. Уж конечно, не Чарли: Чарли был не такой большой, и двигался не так быстро. Медведь, холодея, подумал Джеймс. Еще не хватало нарваться на огромного хищника среди ночи! Голодный шатун… такая встреча не сулила Чарли ничего хорошего, да и им с Адамом тоже.
Но Чарли был вооружен, и к тому же умел и отважен. А они не слышали ни криков, ни выстрелов – только потрескивание веток под чьими-то лапами и то ли шелест ветра, то ли свист.
– Чааааарлииии! – заорал, надсаживая легкие, Адам.
Молчание.
– Ча-арли-и! – зыкнул Джеймс.
Молчание. Только далекий свист. Видать, ветер задувал в какой-то сучок или расщелину дерева, отчего получался такой странный звук.
– Чарли! – заорали оба хором. Джеймс опять выстрелил.
И снова мелькнул чей-то силуэт вдалеке – удивительно быстро. Джеймсу показалось, что медведь, если это был медведь, шел на задних лапах.
Джеймс не боялся ничего и никого. Он привык выходить победителем из очень непростых положений, недаром же он охотился с младых ногтей. Но тут ему стало очень не по себе; он боялся не столько за себя, сколько за Чарли, да и об Адаме начинал тревожиться.
Прямо по курсу полыхнули красноватые огоньки глаз. Волк? Нет, у волка золотистые. Рысь? Пума? Пумы редко забредали так далеко на север…
– Чарли! – снова позвал Адам.
Джеймсу показалось, что откуда-то повеяло мертвечиной. Это было как-то странно, чтобы дохлятиной воняло в такой мороз. Да и снег шел не первый и не десятый раз за зиму – мертвого зверя давно бы присыпало.
Они кружили уже не первый час по лесу, сорвали голоса, расстреляли пол-обоймы, но Чарли не отзывался. Батареи в фонарях начинали садиться. Джеймс не зря пользовался репутацией превосходного следопыта, но нигде ни разу не заметил ничего даже отдаленно напоминающего человеческие следы.
– Пошли домой, сын, – сказал он. – Чарли, может, уже и вернулся, пока нас не было.
Адам промолчал.
Джеймс брел по лесу. Вот и его гостеприимная хижина – Мэгги, умница, не потушила ни одной лампы, чтобы Джеймс с Адамом могли увидеть свет издалека. Настоящий лесной маяк!
Шаги Адама за спиной подхлестывали Джеймса. Не оборачиваясь, он произнес назидательно:
– Видишь, как важно не увлекаться и не бежать за первой попавшейся дичью? В лесу легко заблудиться. Особенно на ночь глядя!
Кто-то протяжно просвистел прямо над ухом, и запах мертвечины усилился.
«Да что это со мной? Вонь какая-то чудится, – подумал Джеймс. – Не иначе, геморрой… не, гайморит! При гайморите такое. Но насморка вроде же нет…»
– Джеймс! – закричала Мэгги, высунувшись из дверей. – Скорей домой!
Джеймс припустил бегом, на ходу бросив сыну «Адам, живее!», влетел в двери, едва не сбив с ног Мэгги, и двери захлопнулись.
– Чарли дома? – спросил он.
– А где Адам? – спросила одновременно с ним Мэгги.
Они уставились друг на друга.
Том давно спал, а Боб вышел из спальни и хмуро взглянул на родителей.
– Па, за тобой кто-то шел, но это был не Адам, – сказал он. – Высокий, тощий, вроде как лысый.
– Лысый? Без шапки? В такую пого… – начал говорить Джеймс, наконец, вдумался в услышанное. – Боб, ты точно его видел? Тебе не показалось?
Боб задумался.
– Показалось, – сказал он неуверенно. – Он если и был, то очень быстро исчез.
Мэгги заплакала.
Утром Джеймс собрался, взял ружье, запасные патроны и на лыжах помчался по лесу.
Чарли и Адам были тепло одеты. Они не могли замерзнуть насмерть, думал он.
На Адама он наткнулся почти сразу. Меховая курка Адама была разорвана в клочья – кто-то с яростью, не поддающейся пониманию, растерзал куртку так, что клочья меха висели на всех окрестных кустах. А ближе к телу Адама на кустах висело что-то другое. Какие-то синевато-розовые – или красновато-синие – скользкие змеи или веревки, от которых шел запах свежемороженого мяса, перебивавшийся вонью застарелой мертвечины. Джеймс не мог, не хотел верить в увиденное, он не желал понимать, что это за веревки и почему его сын лежит на снегу, отвернувшись, и не шевелится. Он просто упал. Ушибся. Надо ему помочь. Сейчас, сынок, сейчас…
Он повернул необыкновенно легкое – пустое – тело и хрипло застонал.
Тело мальчика было полностью выпотрошено, грудина взломана, и изнутри кто-то выгреб и сердце, и легкие взмахом когтистой лапы. Мясо с бедра, плеча, предплечий – объедено, обглодано, и тонкие юношеские кости оказались переломаны под могучими зубами. Джеймс повернул лицо Адама к себе, в какой-то жалкой надежде, что может быть, это не Адам…
Сохранившаяся половина лица принадлежала Адаму. Его чистая щека с двумя коричневыми бархатными родинками, его слабые веснушки на остатках носа, его серый глаз, одинокий, пустой и безумный. Его чуть вьющиеся волосы, слипшиеся от крови.
А вторую половину снесло начисто – укусом огромной пасти.
Медведь бы такое не сделал, отрешенно думал Джеймс. Медведи так не убивают. Я видел людей, которых заломал медведь, они выглядели совсем не так. И если бы это был медведь, Адам бы сопротивлялся, была бы медвежья шерсть, кровь…
Ружье Адама валялось поодаль, переломанное. Кто-то нарочно взял его и переломал об колено. По-человечески поступил. Вот только никакой человек не смог бы так растерзать рослого и крепкого подростка…
Внутри все закаменело. Медленно, точно в дурном сне, Джеймс начал собирать с кустов и сугробов кишки сына и складывать обратно ему в живот, приговаривая «спи, сынок, больше не будет холодно, больше не будет больно, спи, спи…»
Сзади послышались шаги. Джеймс обернулся, готовый встретиться лицом к лицу с убийцей, но это был Боб. Он подошел ближе, часто задышал, охнул, пробормотал «нельзя, чтобы это видели мама и Том», но Джеймс покачал головой. Том – ладно, а от Мэгги скрыть, как умер ее сын, не удастся.
Джеймс не подумал о том, что сразу пришло в голову Бобу.
– Боже, па, эта тварь, которая сожрала Адама, – она же шла за тобой!
Джеймс вспомнил, как разговаривал с Адамом – думал, что с Адамом, а на самом деле с чудовищем, и его затошнило…
В следующие несколько дней Джеймс и Боб прочесывали весь лес. На то, что Чарли найдется живым и здоровым, надежды не было уже ни у кого. Разве что маленький Том то и дело спрашивал, когда же вернется братик Чарли, а Мэгги, враз постаревшая и серая, будто присыпанная пеплом, глухо отвечала «скоро, милый, погоди еще немного, Чарли на охоте».
Джеймс благодарил Бога за то, что у них родилось сразу трое сыновей-погодков – а спустя восемь лет и Том. Только забота о нем сейчас удерживала Мэгги от полного безумия. Джеймс не мог забыть, какой он увидел Мэгги в первые часы после того, как он принес домой Адама: ее остановившийся взгляд, ее непослушные губы, и то, как она целовала лоб и уцелевшую щеку Адама, шепча ему что-то нежное, как в далеком детстве…
– Папа! – крикнул Боб.
В небольшом распадке снег оказался утоптанным; кто-то натащил сюда веток и еловых лап. Это явно было чье-то логово. Сугробы вокруг логова выглядели разрытыми, рыхлыми, и из одного сугроба проступало что-то очень похожее на кости.
Джеймс приблизился к распадку и поморщился. Смрад стоял невыносимый – тяжелый, липкий, сладковатый, так пахнет застарелая мертвечина. Вокруг тела Адама стоял тот же запах – труп Адама не мог так пахнуть, он был свежим.
Так пахла тварь, убившая Адама и Чарли.
Вдвоем они с Бобом выкопали скелет из снега. Сомневаться, что это Чарли, уже не приходилось. Скелет не был обглодан полностью: тварь методично пожирала Чарли, начиная с руки и ноги, но часть трупа оставила, будто впрок. Это не удивило Джеймса: он знал, что многие хищники заготавливают впрок добытые туши, прикапывая их в земле или в снегу. Удивил, как и раньше, с Адамом, способ убийства.
Вскрыть грудину.
Взломать ребра.
Вырвать внутренности.
Внутренности тварь почти не жрала. Кишки выбрасывала, кровеносные сосуды – тоже. Обыскав снег, Джеймс и Боб выкопали желчный пузырь, разорванный желудок… А вот легкие, сердце, почки, видимо, считались у твари деликатесом.
И снова – пол-лица… У Чарли тварь прогрызла череп и выела мозг.
На обглоданной шее остался серебряный крестик. Мэгги подарила его Чарли на прошлое Рождество.
– Поторопимся, – сказал Джеймс. – Эта сволочь может вернуться в любой момент.
– Я его убью, – свирепо произнес Боб.
– Оставь. Я сказал, пошли! – рыкнул Джеймс на сына.
Он собирался убить тварь сам.
Мэгги, увидев то, что осталось от Чарли, забилась, зарыдала, заколотилась головой об пол… Джеймс подхватил ее на руки, прижал к себе, но не успокаивал. Понимал: она должна выплакаться, выкричать горе.
Джеймс вместе с Бобом навертели из еловых лап и красной шелковой тесьмы венков, положили на могилы. Две могилки сразу… Теперь Боб по требованию отца постоянно оставался вместе с Мэгги и Томом. А Джеймс что ни день выходил с ружьем, чтобы отыскать проклятого хищника.
Джеймсу Смиту не раз и не два приходилось видеть людей, сожранных хищниками. Его старого друга Дилана заели волки. А молодой Джипси – Джеймс так и не узнал, имя это было или прозвище – не пережил свидание с рысью. Но никогда Джеймс не испытывал к животным ненависти. Звери есть звери, они нападают, когда голодны, когда защищают детенышей или когда вынуждены обороняться. Охота есть охота, тут – кто кого.
Но это…
Свист. Запах мертвечины. Крадущиеся за спиной шаги. И вырванные внутренности…
Внезапно откуда-то издалека раздались выстрелы. Джеймсу не пришлось напрягать слух – он и так знал, что стреляют возле его хижины. Кто-то напал на Мэгги и детей.
Резко развернувшись, Джеймс заскользил по слежавшемуся снегу.
Он несся и несся, не останавливаясь, не замечая, что мимо мелькает чей-то силуэт, – ветер свистел в ушах, и Джеймс не сразу понял, что слышит уже знакомый свист.
Возле хижины уже ничего не было. Только кровь – брызги свежей, еще не успевшей замерзнуть крови, запах мертвечины и маленькая варежка.
Том.
Боб и Мэгги Джеймс обнаружил в хижине. Мэгги все еще рыдала и время от времени начинала вырываться, но сын держал ее крепко.
Спрашивать, что случилось, Джеймс не стал.
Они с Бобом потом, когда сумели как-то успокоить Мэгги и хорошенько накачать ее виски, сели обсуждать, как быть дальше.
– Нельзя всю жизнь прятаться, – говорил Боб. – Мы должны убить его. Он уже сожрал троих из нас. Па, не спорь, я все продумал. Будем ловить на живца. Я подежурю возле дома, а ты спрячься, и, когда оно появится, стреляй.
Джеймс спорил, не соглашался, наконец, стукнул кулаком по столу:
– Дежурить будем по очереди, понял?
И наутро вышел первым на дежурство.
Он топтался вокруг хижины, собирал хворост, рубил дрова, подправлял плетень, смазывал петли на ставнях, прогуливался, молился на коленях у могил сыновей. Двух могил, к которым должна была скоро добавиться третья. Джеймс знал, в каком виде найдет Тома, если найдет, и это было особенно больно.
Потом его сменил Боб.
Потом – опять Джеймс.
Уже смеркалось, и Джеймс увидел вдалеке два красноватых глаза, которые мигнули и потухли. «Ну же, мразь, давай», зло подумал он.
– Па, моя очередь, – заявил Боб, показавшись в дверях.
– Сиди дома, – рявкнул Джеймс на него.
– Нет, ты уже отдежурил свое, – настаивал Боб.
Внезапно красные глаза очутились рядом, совсем рядом… Джеймс едва не потерял сознание от трупной вони. Тварь двигалась с необычайной стремительностью, и все же Джеймсу удалось заметить, что она высокая, но очень тощая: брюхо запало, ребра торчали сквозь свалявшуюся шерсть, и передвигается на задних лапах, как человек. Но рожа! Джеймс не успел отвернуться и понял, что эта рожа будет всю жизнь преследовать его в ночных кошмарах: пергаментное, ссохшееся лицо, похожее на человеческое, только мертвое, серое, с желтыми клыками, выбегавшими из оскаленного черного безгубого рта, – длинного, как у лягушки.
Руки сами собой вскинули ружье к плечу, палец нажал на курок…
Выстрел! В упор! Еще! Разрывными пулями, – раньше Джеймс бил такими пулями медведей…
Свистнув прямо в лицо Джеймсу и обдав его зловонием, тварь ухватила Боба поперек туловища и мгновенно исчезла в сумерках.
Джеймс схватил лыжи, наскоро пристегнул их и помчался за ними.
Скорость чудовища было невероятной – Джеймс не мог угнаться за ним даже на лыжах. Боб орал и колотил тварь, но та будто не чувствовала этого, зато Джеймс мог идти на крик.
Но не стрелять: он боялся попасть в Боба.
Боб как почувствовал это и крикнул:
– Стреляй, па! Стреляй! Убей его!
– Сейчас, сынок, сейчас, – Джеймс взвел курок и прицелился.
Все-таки он опасался ранить сына…
– Убей меня! Не хочу, чтобы он меня жрал, – крикнул Боб снова.
Промешкав несколько секунд, Джеймс потерял их из виду – не надолго, но этих минут хватило, чтобы оказалось поздно спасать Боба. Отчаянный крик «Па-а-а-апа!» разнесся над лесом.
И тогда Джеймс выстрелил.
Он стрелял ожесточенно, почти не целясь и отлично зная, что его пули находят цель. Джеймс не мог бежать так быстро, как тварь, но стрелял он быстрее, чем тварь двигалась, всаживая пулю за пулей в скелетообразную, мерзкую тушу…
Наконец, долговязая фигура за деревьями осела на снег. Джеймс видел черные дыры в груди, черные струйки – днем они были бы красными, но подходить не стал. Он спешил к Бобу.
Боб еще дышал, но с первого взгляда Джеймс понял, что ему не помочь. Когти твари располосовали ему горло так, что видна была трубка, по которой в грудь проходил воздух. С окровавленных губ сорвался какой-то хрип.
– Ничего, ничего, сынок, я сейчас, я тебе помогу, – зашептал Джеймс, баюкая Боба. Больше ничего он сделать не мог – только прижимал сына к груди, целуя влажный от испарины лоб. И вдруг из-за спины снова пахнуло мертвечиной.
Джеймс, не помня себя, выхватил тяжелый охотничий нож, развернулся и всадил клинок до самой рукояти во впалый живот твари, провернул там, потом дернул нож вниз, вспарывая живот до самого паха…
Рядом в последний раз вздохнул Боб.
Джеймс выпрямился. Они были рядом с тем распадком, где неделю назад нашли останки Чарли. И вдруг что-то заставило Джеймса присмотреться. Что-то на кусте… или рядом с кустом…
Тельце Тома, окоченевшее, но почти целое, было насажено на тонкий стволик дерева, специально сломанного и грубо обкусанного, чтобы получилось нечто вроде кола. По стволику сбежала и запеклась кровь – Том был еще жив, когда тварь сделала с ним это.
Впервые за все время из глаз Джеймса покатились слезы. Они обжигали обветрившееся лицо, терялись в бороде, бежали по носу, и Джеймс не мог успокоиться. Он потерял всех своих сыновей, – всю свою жизнь, свое счастье, свою надежду, весь смысл своего существования.
Мэгги, вспомнил он. У меня осталась только Мэгги. Как же быть с Мэгги-то?
Джеймс перевел дух.
Согласится ли она родить еще одного ребенка после всего?
Должна, решил Джеймс. Это единственный способ для нее – пережить смерть наших детей. Наших старших детей. Кто знает, вдруг родится дочка. Доченька. Мэгги так хотела дочку.
– Твою сестричку, Том, – втолковывал он мертвому сыну, держа его на руках.
Наломал еловых лап, – резать их тем самым ножом, которым рубил тушу твари, он уже не мог, связал их ремнем, уложил оба тела и поволок, на ходу приговаривая:
– Мамаша наша, – пускай она родит вам сестренку. Наконец-то у меня будет дочь. Я уж ей расскажу, какими вы были, пусть знает, какие у нее были братцы…
Джеймс не заметил, что тварь, казалось бы, надежно убитая им, снова приподнимается и пристально смотрит ему вслед, и на сером, уродливо-человеческом лице тлеет улыбка.
Вернувшись домой, он замешкался. Он не знал, как сказать Мэгги, что и Боба больше нет, но понимал, что скрывать это от нее нельзя, поэтому неловко топтался у двери.
В памяти всплыло странное словцо «вендиго». Хищник, когда-то бывший человеком, но отведавший однажды человечины – и превратившийся в чудовище. Вечно голодное, одержимое злобой.
Говорят, тот, кто убьет вендиго, сам станет вендиго. Вот уж глупости, подумал Джеймс. Как это я могу стать вендиго? Я – человек! Христианин. Я люблю Мэгги. Моя Мэгги! Она такая славная…
Такая пухленькая…
Такая аппетитная…
Вот она идет – я слышу ее шаги, вкусный запах просачивается сквозь дверь. Я слышу биение жилки на ее шее, чувствую, как вздымается ее грудь. Хрупкая грудь, ее ребра взломать будет не в пример легче, чем у мальчишек. Сейчас я возьму ее… А этих мальчиков оставлю на потом, все равно они уже закоченели…
Джеймс ужаснулся, пытаясь отогнать невесть откуда взявшиеся страшные мысли, но они возвращались и возвращались, и Джеймс не мог двинуться с места.
– Мэгги, – прохрипел он, увидев, как жена открывает дверь и шагает навстречу, – беги!
Мэгги широко распахнула глаза, увидела тянущуюся к ней когтистую лапу – и закричала.
Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Пора
Пора
драббл, джен, крипипаста
драббл, джен, крипипаста
Друг, я расскажу тебе. Ты только не перебивай и не говори, что так не бывает, о’кей?
Мне было лет восемь. А жили мы с родаками и бабулей в обкомовском доме. Так-то дом был обыкновенный. Просто туда заселили товарищей из кабинетов вместе с семьями. Шло время, товарищи уходили на пенсию, а потом и умирали один за другим; оставались их бодрые вдовушки. Распался Союз, потом грянули лихие 90-е, дефолт, Чечня… А вдовушки, седенькие и все такие же бодрые, восседали на своих лавочках и мыли, мыли, мыли косточки новым соседям.
скрытый текстНовых соседей было мало, и детей у них тоже было – раз-два, и обчелся. У нас в подъезде жила еще одна девочка и мелкий – ему вообще было годика три. И еще одна девчонка из второго подъезда, она иногда гуляла с «нашей». В соседних домах – «хрущевках», битком набитых пролетариями – обитало несколько пацанов, но с ними мне и самому дружить не хотелось. Не надо думать, что все пацаны только и мечтают, что материться, таскать бродячих котов за хвост и кидаться камнями, а в отрыве от этой полезной деятельности зависать над приставкой. Мне это было скучно. Так что я по большей части сидел дома или в секции, куда меня записала мама, играл на компе, читал, смотрел «Энимал Планет» – мы как раз «тарелку» поставили – и томился от одиночества.
В конце концов я дождался, пока родаки уйдут и не возьмут с собой ключи, и удрал.
Мне тогда категорически запрещалось выходить на улицу, если родаков не было дома. А хотелось! И тут – такой подарок судьбы, елы-палы.
Я прошел мимо соседней «хрущобы», и еще мимо одной, и пробрался в конец двора. Детей не было, только на спортплощадке гоняли мяч какие-то пацаны постарше, уже лет по восемнадцать, и я хотел было повернуть домой. Как гляну – дом. Тихий, из выщербленного такого, копченого от времени кирпича, красноватый, низенький. Окна стрельчатые, то-се. В окна я заглянул – а они занавешены плотнее некуда. Дверь закрыта на висячий замок. Везде запустение, пыль, на крыльце полно старой опавшей листвы, В общем, обычный старый дом под снос, но красивый. Я погулял вокруг него, пофантазировал, кто там раньше жил и почему уехал, целую сказочку выдумал. А тут смеркаться стало. Я спохватился, что пора домой бежать, пока предки меня не застукали в самоволке, вдруг смотрю – бац! В окнах свет!
Это сейчас я бы подумал, что туда бомжи влезли. А тогда... В общем, интересно мне стало. Подошел я, стал перед крыльцом, смотрю – дверь приоткрывается, полоска света ложится мне под ноги. Тут я шагнул вперед и говорю: «Здрасте, а можно к вам в гости?»
А в дверях стоит тетка. Приятная вроде, пока я ей в лицо не заглянул. Глаза у нее не двигались, не блестели и не смотрели – неживые. Юбка длинная, кофта с оборками... Стоит и улыбается. А за ее спиной – еще какие-то люди.
Я помню, что тогда я совсем не боялся. Любопытно было, весело, будто в какое-то супер-пупер-прикольное приключение попал.
– В гости? Малыш, тебе еще рано ходить к нам в гости. Приходи, когда почувствуешь, что пора, – сказала эта тетка с мертвыми глазами и отступила. Дверь закрылась, свет в окнах погас, но перед этим…
Перед этим, дружище, я увидел рожи тех, кто был у тетки за спиной. Как их всех перекосило! Один, тот, что за левым плечом, превратился в настоящий череп, второй – с какой-то собачьей харей, третий вообще со свиным рылом, и злобные такие… Не знаю я, что это было, не спрашивай. Я тогда заорал и кинулся бежать сломя голову.
Родаки мои как раз в подъезд заходили. Я с ревом подлетел к ним, что-то нес, какую-то пургу, уж не помню, что именно… В общем, больше меня одного не выпускали из дому лет до четырнадцати, и постоянно шептались о моей тонкой душевной организации.
Фигня, да, дружище? Ну, какая у меня душевная организация? Да еще тонкая? Глянь – я здоровый мужик, работаю за троих, жру за пятерых, и если Валька на меня покрикивает, так она же жена, где это видано, чтобы жена – и мужа не попилила хоть изредка. Мне даже ничего не снилось после этого. Ни кошмаров, ничего. Я про тот дом и забыл.
А почему я тебе про это рассказываю? Потому что ты мой лучший друг. Ты не станешь стебаться и все поймешь правильно.
Когда я немного вырвался из-под родительского недреманного ока, я пошел поискать тот дом. Ну… да, не забыл. Но решил, что мне все показалось. В общем, не было такого дома нигде, хотя я очень хорошо запомнил, где он стоял. На его месте торчала какая-то древняя общага, рядом росли деревья в три обхвата – то есть это не то, что старый дом снесли и новый выстроили, того дома там просто никогда не было. Вот так-то.
Не-ет, погоди. Да не перебивай, я, может, в последний раз с тобой разговариваю!
Нынче вечером я возвращался с работы и вспомнил, что Валька просила зайти за хлебом. Ну, и зашел. Ближайший магазин – как раз мимо той общаги. В общем, иду я с хлебом, вдруг смотрю – дом. Тот самый. Все такой же запустелый, с прошлогодней листвой на крыльце и занавешенными окнами. И как только я поравнялся с ним, в окнах зажегся свет и дверь приоткрылась. Я так и застыл.
На крыльце показалась тетка с мертвыми глазами. Она по-прежнему улыбалась, и кружева на кофте, и все такое… и рыла у нее за спиной…
Я развернулся и полетел от них, как сумасшедший. Но одно слово я успел расслышать – то, которое она сказала.
Она произнесла: «Пора».
Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Дом над Обводным каналом
Редкость для меня - полностью реалистичная вещь.
Но тоже крипотная.
Дом над Обводным каналом
джен, мини
Мое окно выходит на Обводный канал. По совести, смотреть особо не на что. Промышленная зона, облезлые стены и заборы, мосты, которые далеко не так красивы, как Аничков или Египетский, — да к ним туристов и не водят. Мутные нечистые воды, из которых каким-то непостижимым образом высовываются блеклые кубышки. Как только выросли-то?
Глаза у моих сопалатниц похожи на воду в Обводнике. Такие же мутные и мертвые, и то, что в них пробивается от былой жизни, блеклое и безрадостное. Безжизненные, безысходные глаза.
У моих сопалатниц — бесцветные лица, давно не знавшие ни солнца, ни ветра, ни вечного питерского дождя.
Моих сопалатниц ежедневно выводят на прогулку. Они сидят под навесом во дворе, курят дешевые сигареты, о чем-то разговаривают. О том же, о чем и в палате.
скрытый текстМеня иногда отпускают погулять с мамой. Но за час прогулки далеко не уйдешь, и мы гуляем по набережной все того же осточертевшего Обводника, а потом мама заводит меня в какую-нибудь подворотню. Раньше я ненавидела питерские подворотни с их сырым зловонным сквозняком и похабными надписями на стенах, но теперь мне в качестве куска жизни годится и это. Если повезет, подворотня приведет во внутренний дворик, где стоят обшарпанные лавочки, и тогда мама достанет термос и баночку с едой и даст мне. Я буду поспешно заглатывать то, что она привезла, а мама будет досказывать мне начатое — про папу, про Ленку и ее учебу, про то, что звонила Лина…
Лина. Зеленые глаза, россыпь веснушек, привычка рисовать все подряд и где попало.
Я смирилась с тем, что мы с Линой даже не подруги.
И, как всегда, мы опоздаем, и последствия будут зависеть от того, кто нынче дежурная санитарка. Если Петровна — будет вздыхать с пониманием, а если Аня — закатит истерику, тщетно пытаясь подбавить в голос начальственного пафоса. Я не Вика, для меня Аня — не начальство, и заискивать перед ней я не собираюсь.
А потом я возвращаюсь в свою палату напротив сестринской. Не понимаю, на кой черт держать нас здесь, если мои припадки все равно проходят незамеченными. Они тихие. Вот Юлины — да, эти трудно не заметить, где бы она ни лежала. Юлю мне очень жалко. Она кроткая, милая, добрая, если бы не эпилептическое слабоумие во все поля, была бы чудесная женщина. А у Вики и припадков-то не было за все время. Она и поступила сюда не с припадками, а после неудачного суицида. Муженек довел. Вика — тоже слабоумная, только в другом ключе: нестерпимо болтливая, сексуально озабоченная, готовая жить хоть с уголовником, хоть с шизофреником. Кто-то из них бил ее так, что она не выдержала и перерезала себе вены.
А у меня нет слабоумия, хотя тоже вторая группа. У меня — болевой синдром чудовищной интенсивности. Сегодня меня как раз накрыло, и я с утра лежала, не двигаясь, под аккомпанемент беспрерывного Викиного трепа. Никто и не заметил… Только Петровна зашла спросить, с чего это я не вышла на обед. На обед, Карл…
Анальгетиков тут, сколько ни проси, не дадут. «Доктор не велел» — и хоть ты тресни. Мама передает мне тайком темпалгин и цитрамон, но десять таблеток с утра — это, по-моему, перебор, а легче не становится.
Но после обеда в больничной скуке наметилось некоторое оживление. Унылое жужжание больных прервалось отчаянными криками.
Я сползла с кровати и пошла посмотреть, кто это орет.
Санитарки с видимым усилием тащили девушку лет восемнадцати-девятнадцати. Она вырывалась и кричала, кричала, кричала... Еще одна санитарка, самая заморенная, тащилась сзади и что-то истерично втолковывала новенькой, размахивая перед ее лицом игрушками. Тигренок и обезьянка, что ли. Плюшевые. Наконец, девушка обессилела и обмякла, ее втащили в палату. Я тихонько, держась за стенку, прошла к ней.
Ее уже привязывали, а заморенная старуха баба Валя надевала на нее памперс.
— Не хочу! — ныла девушка. — Буду мокренькая!
— Не надо быть мокренькой, — увещевала ее баба Валя. — Смотри, вот твоя обезьянка… вот твой тигренок…
— Дайте, — взвизгнула девушка. Ей в руки вложили игрушки, тогда девушка мгновенно успокоилась, прижала к лицу игрушки и задремала.
У нее было замечательное лицо. Тонкое, изысканно вырезанное, с аристократичным носиком и чудесно очерченным ртом. Длинные-предлинные ресницы лежали на щеках, отбрасывая густую тень. Прядка темных волос прилипла к высокому лбу. И руки, которыми она судорожно сжимала игрушки, тоже были замечательными — в хиромантии такие называются «психическими», узкие, необычайно изящные руки.
Я смотрела на нее не отрываясь.
— Галя, а ты что здесь делаешь? Ну-ка, быстро в свою палату! — шикнула на меня Петровна.
— Галина Сергеевна, — сквозь зубы поправила я, но ушла.
С ними спорить — себе дороже.
— А сестра у меня дура, б-дь, — тараторила тем временем Вика, обращаясь не то к сонной и бледной Юле — видимо, ей тоже с утра нездоровилось, не то сама к себе, — дура, б-дь, моя сестра, такая дура, что ужас какая дура, б-дь! Она вообще, б-дь, дура конченная!
— Сколько можно? — раздраженно перебила я. — Здесь нет б-дей, кроме тебя! Ты что, без этого слова не можешь разговаривать?
Вика опешила. Но ненадолго.
— Привычка, — как ни в чем не бывало заявила она и продолжала: — Моя сестра конченная дура. Ее и отец солдатским ремнем лупил, дуру такую, и мама, а она все равно дура. По сравнению со мной — вообще дура, б-дь!
Я прикусила язык. Вика не виновата, что она такая. Она классический эпилептик, что поделать.
По признанию Вики, она занималась проституцией. Однако свою сестру и одну из больных — здесь, в этом отделении, все друг друга знают — называет «проститутищей» и осуждает за то, что трахается со всеми подряд. А вот своей подружкой, тоже из числа больных, восхищается. За то, что «находит себе на каждом углу».
Вика не виновата…
Если б еще как-то ее заткнуть!
Я легла на свою койку — черт бы ее побрал, Рахметову бы ее подсунуть вкупе с драным гнилым матрацем и почерневшими рваными простынями! — прикрыла глаза и предалась мечтам. Как обниму эту девушку с игрушками и потискаю. А если повезет, то и поцелую. Она такая славная. Может быть, ей тут помогут, и она сможет назвать свое имя и даже рассказать, что с ней происходит… А может быть, она чувствует себя ребенком, и мы с ней поиграем ее игрушками. Чего не может быть — полной безнадежности этой девушки. У нее живые ясные глаза, чистое прекрасное лицо, полное жизни гибкое тело. Она может улыбаться, я не сомневалась в этом.
Надо будет сказать маме, чтобы притащила пару-тройку моих старых плюшиков.
Из сестринской донесся аромат курительных палочек. Это медсестра Ольга Ивановна не выдерживает здешнего запаха. А чего она ожидала? Дверей на туалетах нет, и амбре оттуда сами знаете какое. Да и от больных запашок еще тот. Раз в неделю — помывка, плюс есть душевая, в которую нас водят под присмотром, и многие санитарки разрешают только подмыться. Но половина аборигенок вообще ни черта не соображают, а кто-то хочет, чтобы они мылись.
Я-то моюсь каждый день, а то и дважды в день. Мне становится легче от душа.
Мне еще становится легче от кофе, но кофе тут нельзя. Мама проносит его мне контрабандой, но личное свидание — раз в два дня. Катастрофически мало…
— Вот Копченый был такой хороший, — пробилось сквозь мои мысли бухтение Вики. — Мы с ним жили, он такой хороший был. Мама говорила, он сидел, значит, плохой, а он такой хороший!
— Чего ж расстались? — вяло полюбопытствовала я.
— А он «белку» поймал, — охотно сообщила Вика. — После того, как отсидел, бухал сильно.
— А за что сидел?
— За изнасилование, — легко ответила Вика. — Ну, ему там еще убийство шили, но он на дурку закосил. И молодец! Он очень хороший был.
«Такой хороший парень, всего два взыскания: одно за убийство, второе за изнасилование…»
— А чо такова? — удивилась Вика. Удивилась искренне. — Меня и группой насиловали. Ну и что? Я их потом на бабки развела, а потом мы с одним подружились… Я ж говорю, я проституировала, а потом меня группой насиловали, — вернулась она к своим рассказам.
— А потом ты связалась с шизофреником, — напомнила я.
— Ага. Он меня бил, уж так бил. И я его. Я чего, думаешь, такая худая? Это все от нервов, это он виноват, с-сучара!
Материлась Вика однообразно и скучно, зато долго. Я спаслась бегством.
Бежать тут некуда. Можно поглазеть в окно. Киносеанс «Обводник» начинается. Можно посидеть в холле и посмотреть древний телек. Смотреть нам разрешают только кулинарные шоу и какую-то передачу со сплетнями из жизни «звезд». Можно погулять по коридору, что я и сделала.
Из палаты девушки с игрушками донесся ее голос.
— Не хочу, не хочу, не хочу, — жалобно повторяла она. Санитарка что-то рычала в ответ. Я расслышала, как она называла имя — Алина.
Значит, эту девушку зовут Алина.
Мимо меня пробежала Ирка. Толстая, обрюзглая, она знавала лучшие времена. Узкие щиколотки, красивые руки, да и очертания капризных губ и тонкого носа намекали на это… Ирка с силой хлопнула по стене.
— Я тебе покажу, сволочь! — крикнула она стене, повернулась и побежала дальше.
Сперва я ее боялась и шарахалась, потом привыкла. С внешним миром Ирка вообще не связывается, кроме как в столовой. Там она ходит и пристает: «Не угостишь сочком? Не угостишь булочкой?» Кормят в больнице из рук вон плохо: мерзкое месиво под названием «ячневая каша» или «горох», «вегетарианский борщ», похожий на помои, выблеванные свиньями, и чай, по вкусу сравнимый с мочой молодого поросенка. Я не ем тут ничего. Но многие больные жрут по четыре-пять порций. Больница — единственное место, где женщины хотят поправиться, потому что многие из них попали сюда с энной степенью дистрофии.
Здесь принято клянчить еду, да и не только еду. Я не могу злиться на Ирку, потому что она сошла с ума после группового изнасилования: не все такие, как Вика. Но на остальных — прямо-таки взрываюсь.
Оля берет меня под руку.
— Как самочувствие? — спрашиваю я.
— Лучше, — Оля несмело улыбается. Когда ее сюда привезли, она только спала или плакала. Муж ее не навещает: у него панические атаки. Сама Оля по его настоянию решила не работать, а вести хозяйство, и в результате превратилась в законченного хикки. Страх перед людьми, перед улицей, перед жизнью превратил ее в трясущееся, как кисель, существо. Сейчас это у нее мало-помалу проходит, но до выздоровления еще далеко.
Нас догоняет Наташка.
— Мне плохо, — жалуется она. — У меня палец болит. А я от этого не умру?
Вот кто уж бесит так бесит!
Слава Богу, хоть Таню выписали. Таня уверяла, что у нее «украли душу». Ох, и заколебала…
Думаю, у всех них была причина, чтобы свихнуться. Наташка — из очень религиозной семьи, с кучей предрассудков, и тут ее парень затащил в постель, а потом бросил… Таня же элементарно не справлялась с уходом за своим новорожденным сыном. Но, елки, при чем тут мы? Эта парочка же изводит все отделение своими причитаниями!
Перед сном я все-таки захожу к Алине.
Она дремлет. Лицо ее бледно, но не обычной для больницы жабьей, мертвой, а красивой бледностью — как у героини готического романа. Игрушки лежат рядом с Алиной, такие уютные и трогательные, и вся она такая милая, такая одухотворенная…
— Спокойной ночи, — шепчу я, хотя Алина меня не слышит.
Утром снова переполох: возвращается Инна. Ее только позавчера выписали. Врач ей советовал еще побыть в больнице, но кто же согласится по доброй воле тут сидеть еще неделю? Но зря она не послушалась. С ней случился сильный нервный припадок, она рыдает. Мы сбежались к ней и утешаем ее. Она благодарит — видно, что не ожидала от нас участия и очень тронута. Инна нормальна в том смысле, что разумно и последовательно мыслит, здраво себя ведет, а сюда попала из-за повторяющихся нервных припадков. По-моему, она просто боится своего отца.
К обеду возвращается Алёна.
Ей за сорок, но она потрясающе красивая, жгучая, влекущая брюнетка. Хорошая, добрая женщина, вот только приступы непонятной агрессии мешают ей жить. Из-за диагноза она не смогла работать воспитательницей, как хотела. Нашла другую работу по душе — почтальоном — оказалось, и там ей нельзя работать… Ее выписали со «стойкой ремиссией», в тот же вечер отец напился и закатил ей скандал. Алёна даже не расстроена, что вернулась в больницу.
Она подсаживается ко мне в холле.
— Ты в курсе, что Катьку Рыбакову утопили? — без обиняков спрашивает.
— Утопили? Это точно не несчастный случай? — зачем-то переспрашиваю я.
— А хрен ее знает... Это ж Катька. Она могла так оскорбить, обидеть… вот и утопили, — с грустью констатирует Алёна.
— Жалко…
Мужчин как раз вывели на прогулку, и толстушка Оля, высовываясь из приоткрытой фрамуги, кричит им: «Тестостерончики! Ау!» Сейчас мне не хочется смеяться над ее выходками.
Мне правда жалко Катьку. И другую Катьку тоже жалко — она только что поступила и сейчас буровит где-то в конце коридора. Потоки мата и оскорблений прерываются булькающими звуками, и кто-то из санитарок летит, как на крыльях, за сменой постельного белья — свое Катька заблевала.
— Идиотка, — возмущаются санитарки. — Ей же нельзя пить! Это все ее мама виновата, почему допустила?
Я знаю назубок, что будет дальше.
Живая Катька со всеми перескандалит, всех обматерит. Потом начнет ломать цветы в холле, или опрокидывать телевизор, или швыряться тапками в окно. У нас-то решетки, но они снаружи. И все силы санитарок окажутся брошенными на Катьку. Ее привяжут к постели, вкатят лошадиную дозу успокоительного — нам никогда не говорят, какие препараты нам дают…
А я тем временем навещу Алину.
И вот живая Катька начинает безобразничать — выбегает полуголая из палаты, тряся обвисшими грудями, хватает стул, бросает в диван, хорошо, что на диване никто не сидит… Ее ловят. Раньше я радовалась своей проницательности, теперь надоело.
Я прохожу к Алине.
Она лежит, по-прежнему привязанная к кровати, глаза ее лихорадочно блестят, на щеках играет нездоровый румянец. Губы слишком красные — она их кусала, вон, видно, что прокусила до крови.
— Привет, — говорю я. — Как дела? Какие у тебя классные игрушки. Ты каких зверьков больше любишь? Чебурашки тебе нравятся? А мишки?
— Чебурашка, — Алина успокаивается от моего ласкового тона и вздыхает. — Чебурашечка.
— Галя, что вы тут делаете? Ей нужен покой, — Петровна выпроваживает меня за локоть. Я выхожу из палаты, но все-таки спрашиваю:
— А что с ней такое?
— Изнасиловали в детстве, — опасливо оглянувшись, шепчет Петровна. — Вот она и такая… Так, все, вперед в свою палату!
Потом в палату ко мне приходят Мила и Кира. Мои, можно сказать, подружки, хотя цена этой дружбе — ноль. Но здесь, в больнице, мы не прочь вместе погулять по коридору или поболтать.
Кира уже немного поправилась. Когда она поступила в больницу, ее ребра прощупывались сквозь толстую больничную пижаму. Она постоянно дрожала и все бормотала, что ее бывший муж подбросил ей радиоактивный излучатель в квартиру. К счастью, сейчас она уже почти в норме, через пару недель ее должны выписать. А Миле еще долго лежать. Ее диагноз — родовая травма. Мать-крановщица упала с трехметровой высоты, будучи беременной. Папаша, услышав, что ребенок родился инвалидом, тут же подал на развод…
Я начинаю подумывать о том, что человеку проще жить одному. Почти все мои товарки по несчастью оказались здесь, в этой больнице, или по вине своих «родных и любимых», или при их прямом содействии, или в силу того, что бедняг, уже больных, оставили без помощи и поддержки.
Мне хочется с кем-нибудь поговорить об Алине.
Но что-то мешает, словно в этом будет что-то нецеломудренное. Мои чувства к Алине должны быть только моими.
И все-таки я передаю маме записку с просьбой принести моего старого Чебурашку.
По ночам в соседней палате кто-то разговаривает. Дверей на палатах нет, так что все прекрасно слышно. Большинство больных — под снотворными препаратами, и им эта болтовня нисколько не мешает. Им, но не мне. Признаться, я думала, что это такие же полуночники переговариваются между собой. А потом санитарка зашла и — «С кем ты разговариваешь?» — «С сыном!» Сын этой старухи давно умер…
И вдруг пронзительный вопль разрывает вязкую тишину. Разрубает узел тяжелых сновидений, вспарывает мертвый зловонный воздух, взламывает навеянный лекарствами сон. Я вскочила и поспешила в коридор. Санитарки и дежурная медсестра уже неслись в палату, туда же спешил и дежурный врач — добродушный старичок, мы все его любим. Откуда-то я знала, что это кричит Алина.
— А-а-а-а-а! — кричала она. Крик у нее тоже необычный: живой, настоящий, отчаянный. Другие больные кричат на одной ноте, и в их тоскливом вое нет ничего человеческого, а Алина кричала, как испуганный ребенок. Я подошла к ней.
— Галя! Ты что тут делаешь? А ну-ка, марш в палату! — шикнула на меня Аня.
— Галина Сергеевна, — громко и резко осадила ее я. — Любопытствую.
— Идите спать, Галочка, — попросила меня баба Валя. — Видите, ей плохо…
Алина извивалась и кричала, пока ей делали укол и меняли памперс. Смотреть на нее было нехорошо, но я все же бросила последний взгляд.
У нее была такая тонкая талия. И плоский живот. Ее развернули на живот — на пояснице у нее были трогательные ямочки.
Алина, девушка с игрушками…
Утром у Вики случился припадок. Первый за все время пребывания в больнице.
— У-тю-тю, — визжала она, выгибаясь и деревенея. — Ой, дядька! Дядька! У-тю-тю-тю-тю!
Она сучила ногами, колотилась, руки ее мучительно сжимали и рвали край пододеяльника. Мы с Юлей хотели ей помочь, но Вика вырвалась и упала на пол.
Вбежали санитары, подняли ее, удерживали на кровати, пока подошла медсестра и сделала ей какой-то укол, потом пришел наш эпилептолог, — в общем, переполох… Улучив минутку, я спросила у бабы Вали:
— Как там Алина?
— Спит, — так же шепотом ответила та.
Наконец все успокоилось, санитарки вернулись на свой «пост» у телевизора. Считается, что они пашут до кровавых мозолей. На самом деле полы моют больные — за сигареты, а дежурят санитарки вполглаза, когда они нужны, их вечно звать приходится. Но мне сейчас это было на руку: я прокралась к Алине в палату.
Кроме нее, там были еще две женщины. Одна из них разгадывала простенький кроссворд, вторая похрапывала: тут многие спят целыми сутками. Я подошла к кровати Алины.
Она лежала тихо-тихо, совсем неподвижно, и руки безвольно вытянулись вдоль тела. Одна из игрушек упала на пол. Лицо Алины было очень белым, а губы — синеватыми. Прядка каштановых волос лежала рядом с точеным носиком и не шевелилась. Я наклонилась к ней — и не уловила дыхания.
Аня вломилась в палату — как всегда, агрессивная, вечно всем недовольная.
— Галина… Сергевна, блин, — рявкнула она. — Что вам тут, медом намазано? Идите к себе!
— Тихо, — сказала я. — Т-с-с-с! Разве вы не видите? Она спит. Вы довольно ее беспокоили, не тревожьте ее хоть сейчас.
Но тоже крипотная.
Дом над Обводным каналом
джен, мини
Мое окно выходит на Обводный канал. По совести, смотреть особо не на что. Промышленная зона, облезлые стены и заборы, мосты, которые далеко не так красивы, как Аничков или Египетский, — да к ним туристов и не водят. Мутные нечистые воды, из которых каким-то непостижимым образом высовываются блеклые кубышки. Как только выросли-то?
Глаза у моих сопалатниц похожи на воду в Обводнике. Такие же мутные и мертвые, и то, что в них пробивается от былой жизни, блеклое и безрадостное. Безжизненные, безысходные глаза.
У моих сопалатниц — бесцветные лица, давно не знавшие ни солнца, ни ветра, ни вечного питерского дождя.
Моих сопалатниц ежедневно выводят на прогулку. Они сидят под навесом во дворе, курят дешевые сигареты, о чем-то разговаривают. О том же, о чем и в палате.
скрытый текстМеня иногда отпускают погулять с мамой. Но за час прогулки далеко не уйдешь, и мы гуляем по набережной все того же осточертевшего Обводника, а потом мама заводит меня в какую-нибудь подворотню. Раньше я ненавидела питерские подворотни с их сырым зловонным сквозняком и похабными надписями на стенах, но теперь мне в качестве куска жизни годится и это. Если повезет, подворотня приведет во внутренний дворик, где стоят обшарпанные лавочки, и тогда мама достанет термос и баночку с едой и даст мне. Я буду поспешно заглатывать то, что она привезла, а мама будет досказывать мне начатое — про папу, про Ленку и ее учебу, про то, что звонила Лина…
Лина. Зеленые глаза, россыпь веснушек, привычка рисовать все подряд и где попало.
Я смирилась с тем, что мы с Линой даже не подруги.
И, как всегда, мы опоздаем, и последствия будут зависеть от того, кто нынче дежурная санитарка. Если Петровна — будет вздыхать с пониманием, а если Аня — закатит истерику, тщетно пытаясь подбавить в голос начальственного пафоса. Я не Вика, для меня Аня — не начальство, и заискивать перед ней я не собираюсь.
А потом я возвращаюсь в свою палату напротив сестринской. Не понимаю, на кой черт держать нас здесь, если мои припадки все равно проходят незамеченными. Они тихие. Вот Юлины — да, эти трудно не заметить, где бы она ни лежала. Юлю мне очень жалко. Она кроткая, милая, добрая, если бы не эпилептическое слабоумие во все поля, была бы чудесная женщина. А у Вики и припадков-то не было за все время. Она и поступила сюда не с припадками, а после неудачного суицида. Муженек довел. Вика — тоже слабоумная, только в другом ключе: нестерпимо болтливая, сексуально озабоченная, готовая жить хоть с уголовником, хоть с шизофреником. Кто-то из них бил ее так, что она не выдержала и перерезала себе вены.
А у меня нет слабоумия, хотя тоже вторая группа. У меня — болевой синдром чудовищной интенсивности. Сегодня меня как раз накрыло, и я с утра лежала, не двигаясь, под аккомпанемент беспрерывного Викиного трепа. Никто и не заметил… Только Петровна зашла спросить, с чего это я не вышла на обед. На обед, Карл…
Анальгетиков тут, сколько ни проси, не дадут. «Доктор не велел» — и хоть ты тресни. Мама передает мне тайком темпалгин и цитрамон, но десять таблеток с утра — это, по-моему, перебор, а легче не становится.
Но после обеда в больничной скуке наметилось некоторое оживление. Унылое жужжание больных прервалось отчаянными криками.
Я сползла с кровати и пошла посмотреть, кто это орет.
Санитарки с видимым усилием тащили девушку лет восемнадцати-девятнадцати. Она вырывалась и кричала, кричала, кричала... Еще одна санитарка, самая заморенная, тащилась сзади и что-то истерично втолковывала новенькой, размахивая перед ее лицом игрушками. Тигренок и обезьянка, что ли. Плюшевые. Наконец, девушка обессилела и обмякла, ее втащили в палату. Я тихонько, держась за стенку, прошла к ней.
Ее уже привязывали, а заморенная старуха баба Валя надевала на нее памперс.
— Не хочу! — ныла девушка. — Буду мокренькая!
— Не надо быть мокренькой, — увещевала ее баба Валя. — Смотри, вот твоя обезьянка… вот твой тигренок…
— Дайте, — взвизгнула девушка. Ей в руки вложили игрушки, тогда девушка мгновенно успокоилась, прижала к лицу игрушки и задремала.
У нее было замечательное лицо. Тонкое, изысканно вырезанное, с аристократичным носиком и чудесно очерченным ртом. Длинные-предлинные ресницы лежали на щеках, отбрасывая густую тень. Прядка темных волос прилипла к высокому лбу. И руки, которыми она судорожно сжимала игрушки, тоже были замечательными — в хиромантии такие называются «психическими», узкие, необычайно изящные руки.
Я смотрела на нее не отрываясь.
— Галя, а ты что здесь делаешь? Ну-ка, быстро в свою палату! — шикнула на меня Петровна.
— Галина Сергеевна, — сквозь зубы поправила я, но ушла.
С ними спорить — себе дороже.
— А сестра у меня дура, б-дь, — тараторила тем временем Вика, обращаясь не то к сонной и бледной Юле — видимо, ей тоже с утра нездоровилось, не то сама к себе, — дура, б-дь, моя сестра, такая дура, что ужас какая дура, б-дь! Она вообще, б-дь, дура конченная!
— Сколько можно? — раздраженно перебила я. — Здесь нет б-дей, кроме тебя! Ты что, без этого слова не можешь разговаривать?
Вика опешила. Но ненадолго.
— Привычка, — как ни в чем не бывало заявила она и продолжала: — Моя сестра конченная дура. Ее и отец солдатским ремнем лупил, дуру такую, и мама, а она все равно дура. По сравнению со мной — вообще дура, б-дь!
Я прикусила язык. Вика не виновата, что она такая. Она классический эпилептик, что поделать.
По признанию Вики, она занималась проституцией. Однако свою сестру и одну из больных — здесь, в этом отделении, все друг друга знают — называет «проститутищей» и осуждает за то, что трахается со всеми подряд. А вот своей подружкой, тоже из числа больных, восхищается. За то, что «находит себе на каждом углу».
Вика не виновата…
Если б еще как-то ее заткнуть!
Я легла на свою койку — черт бы ее побрал, Рахметову бы ее подсунуть вкупе с драным гнилым матрацем и почерневшими рваными простынями! — прикрыла глаза и предалась мечтам. Как обниму эту девушку с игрушками и потискаю. А если повезет, то и поцелую. Она такая славная. Может быть, ей тут помогут, и она сможет назвать свое имя и даже рассказать, что с ней происходит… А может быть, она чувствует себя ребенком, и мы с ней поиграем ее игрушками. Чего не может быть — полной безнадежности этой девушки. У нее живые ясные глаза, чистое прекрасное лицо, полное жизни гибкое тело. Она может улыбаться, я не сомневалась в этом.
Надо будет сказать маме, чтобы притащила пару-тройку моих старых плюшиков.
Из сестринской донесся аромат курительных палочек. Это медсестра Ольга Ивановна не выдерживает здешнего запаха. А чего она ожидала? Дверей на туалетах нет, и амбре оттуда сами знаете какое. Да и от больных запашок еще тот. Раз в неделю — помывка, плюс есть душевая, в которую нас водят под присмотром, и многие санитарки разрешают только подмыться. Но половина аборигенок вообще ни черта не соображают, а кто-то хочет, чтобы они мылись.
Я-то моюсь каждый день, а то и дважды в день. Мне становится легче от душа.
Мне еще становится легче от кофе, но кофе тут нельзя. Мама проносит его мне контрабандой, но личное свидание — раз в два дня. Катастрофически мало…
— Вот Копченый был такой хороший, — пробилось сквозь мои мысли бухтение Вики. — Мы с ним жили, он такой хороший был. Мама говорила, он сидел, значит, плохой, а он такой хороший!
— Чего ж расстались? — вяло полюбопытствовала я.
— А он «белку» поймал, — охотно сообщила Вика. — После того, как отсидел, бухал сильно.
— А за что сидел?
— За изнасилование, — легко ответила Вика. — Ну, ему там еще убийство шили, но он на дурку закосил. И молодец! Он очень хороший был.
«Такой хороший парень, всего два взыскания: одно за убийство, второе за изнасилование…»
— А чо такова? — удивилась Вика. Удивилась искренне. — Меня и группой насиловали. Ну и что? Я их потом на бабки развела, а потом мы с одним подружились… Я ж говорю, я проституировала, а потом меня группой насиловали, — вернулась она к своим рассказам.
— А потом ты связалась с шизофреником, — напомнила я.
— Ага. Он меня бил, уж так бил. И я его. Я чего, думаешь, такая худая? Это все от нервов, это он виноват, с-сучара!
Материлась Вика однообразно и скучно, зато долго. Я спаслась бегством.
Бежать тут некуда. Можно поглазеть в окно. Киносеанс «Обводник» начинается. Можно посидеть в холле и посмотреть древний телек. Смотреть нам разрешают только кулинарные шоу и какую-то передачу со сплетнями из жизни «звезд». Можно погулять по коридору, что я и сделала.
Из палаты девушки с игрушками донесся ее голос.
— Не хочу, не хочу, не хочу, — жалобно повторяла она. Санитарка что-то рычала в ответ. Я расслышала, как она называла имя — Алина.
Значит, эту девушку зовут Алина.
Мимо меня пробежала Ирка. Толстая, обрюзглая, она знавала лучшие времена. Узкие щиколотки, красивые руки, да и очертания капризных губ и тонкого носа намекали на это… Ирка с силой хлопнула по стене.
— Я тебе покажу, сволочь! — крикнула она стене, повернулась и побежала дальше.
Сперва я ее боялась и шарахалась, потом привыкла. С внешним миром Ирка вообще не связывается, кроме как в столовой. Там она ходит и пристает: «Не угостишь сочком? Не угостишь булочкой?» Кормят в больнице из рук вон плохо: мерзкое месиво под названием «ячневая каша» или «горох», «вегетарианский борщ», похожий на помои, выблеванные свиньями, и чай, по вкусу сравнимый с мочой молодого поросенка. Я не ем тут ничего. Но многие больные жрут по четыре-пять порций. Больница — единственное место, где женщины хотят поправиться, потому что многие из них попали сюда с энной степенью дистрофии.
Здесь принято клянчить еду, да и не только еду. Я не могу злиться на Ирку, потому что она сошла с ума после группового изнасилования: не все такие, как Вика. Но на остальных — прямо-таки взрываюсь.
Оля берет меня под руку.
— Как самочувствие? — спрашиваю я.
— Лучше, — Оля несмело улыбается. Когда ее сюда привезли, она только спала или плакала. Муж ее не навещает: у него панические атаки. Сама Оля по его настоянию решила не работать, а вести хозяйство, и в результате превратилась в законченного хикки. Страх перед людьми, перед улицей, перед жизнью превратил ее в трясущееся, как кисель, существо. Сейчас это у нее мало-помалу проходит, но до выздоровления еще далеко.
Нас догоняет Наташка.
— Мне плохо, — жалуется она. — У меня палец болит. А я от этого не умру?
Вот кто уж бесит так бесит!
Слава Богу, хоть Таню выписали. Таня уверяла, что у нее «украли душу». Ох, и заколебала…
Думаю, у всех них была причина, чтобы свихнуться. Наташка — из очень религиозной семьи, с кучей предрассудков, и тут ее парень затащил в постель, а потом бросил… Таня же элементарно не справлялась с уходом за своим новорожденным сыном. Но, елки, при чем тут мы? Эта парочка же изводит все отделение своими причитаниями!
Перед сном я все-таки захожу к Алине.
Она дремлет. Лицо ее бледно, но не обычной для больницы жабьей, мертвой, а красивой бледностью — как у героини готического романа. Игрушки лежат рядом с Алиной, такие уютные и трогательные, и вся она такая милая, такая одухотворенная…
— Спокойной ночи, — шепчу я, хотя Алина меня не слышит.
Утром снова переполох: возвращается Инна. Ее только позавчера выписали. Врач ей советовал еще побыть в больнице, но кто же согласится по доброй воле тут сидеть еще неделю? Но зря она не послушалась. С ней случился сильный нервный припадок, она рыдает. Мы сбежались к ней и утешаем ее. Она благодарит — видно, что не ожидала от нас участия и очень тронута. Инна нормальна в том смысле, что разумно и последовательно мыслит, здраво себя ведет, а сюда попала из-за повторяющихся нервных припадков. По-моему, она просто боится своего отца.
К обеду возвращается Алёна.
Ей за сорок, но она потрясающе красивая, жгучая, влекущая брюнетка. Хорошая, добрая женщина, вот только приступы непонятной агрессии мешают ей жить. Из-за диагноза она не смогла работать воспитательницей, как хотела. Нашла другую работу по душе — почтальоном — оказалось, и там ей нельзя работать… Ее выписали со «стойкой ремиссией», в тот же вечер отец напился и закатил ей скандал. Алёна даже не расстроена, что вернулась в больницу.
Она подсаживается ко мне в холле.
— Ты в курсе, что Катьку Рыбакову утопили? — без обиняков спрашивает.
— Утопили? Это точно не несчастный случай? — зачем-то переспрашиваю я.
— А хрен ее знает... Это ж Катька. Она могла так оскорбить, обидеть… вот и утопили, — с грустью констатирует Алёна.
— Жалко…
Мужчин как раз вывели на прогулку, и толстушка Оля, высовываясь из приоткрытой фрамуги, кричит им: «Тестостерончики! Ау!» Сейчас мне не хочется смеяться над ее выходками.
Мне правда жалко Катьку. И другую Катьку тоже жалко — она только что поступила и сейчас буровит где-то в конце коридора. Потоки мата и оскорблений прерываются булькающими звуками, и кто-то из санитарок летит, как на крыльях, за сменой постельного белья — свое Катька заблевала.
— Идиотка, — возмущаются санитарки. — Ей же нельзя пить! Это все ее мама виновата, почему допустила?
Я знаю назубок, что будет дальше.
Живая Катька со всеми перескандалит, всех обматерит. Потом начнет ломать цветы в холле, или опрокидывать телевизор, или швыряться тапками в окно. У нас-то решетки, но они снаружи. И все силы санитарок окажутся брошенными на Катьку. Ее привяжут к постели, вкатят лошадиную дозу успокоительного — нам никогда не говорят, какие препараты нам дают…
А я тем временем навещу Алину.
И вот живая Катька начинает безобразничать — выбегает полуголая из палаты, тряся обвисшими грудями, хватает стул, бросает в диван, хорошо, что на диване никто не сидит… Ее ловят. Раньше я радовалась своей проницательности, теперь надоело.
Я прохожу к Алине.
Она лежит, по-прежнему привязанная к кровати, глаза ее лихорадочно блестят, на щеках играет нездоровый румянец. Губы слишком красные — она их кусала, вон, видно, что прокусила до крови.
— Привет, — говорю я. — Как дела? Какие у тебя классные игрушки. Ты каких зверьков больше любишь? Чебурашки тебе нравятся? А мишки?
— Чебурашка, — Алина успокаивается от моего ласкового тона и вздыхает. — Чебурашечка.
— Галя, что вы тут делаете? Ей нужен покой, — Петровна выпроваживает меня за локоть. Я выхожу из палаты, но все-таки спрашиваю:
— А что с ней такое?
— Изнасиловали в детстве, — опасливо оглянувшись, шепчет Петровна. — Вот она и такая… Так, все, вперед в свою палату!
Потом в палату ко мне приходят Мила и Кира. Мои, можно сказать, подружки, хотя цена этой дружбе — ноль. Но здесь, в больнице, мы не прочь вместе погулять по коридору или поболтать.
Кира уже немного поправилась. Когда она поступила в больницу, ее ребра прощупывались сквозь толстую больничную пижаму. Она постоянно дрожала и все бормотала, что ее бывший муж подбросил ей радиоактивный излучатель в квартиру. К счастью, сейчас она уже почти в норме, через пару недель ее должны выписать. А Миле еще долго лежать. Ее диагноз — родовая травма. Мать-крановщица упала с трехметровой высоты, будучи беременной. Папаша, услышав, что ребенок родился инвалидом, тут же подал на развод…
Я начинаю подумывать о том, что человеку проще жить одному. Почти все мои товарки по несчастью оказались здесь, в этой больнице, или по вине своих «родных и любимых», или при их прямом содействии, или в силу того, что бедняг, уже больных, оставили без помощи и поддержки.
Мне хочется с кем-нибудь поговорить об Алине.
Но что-то мешает, словно в этом будет что-то нецеломудренное. Мои чувства к Алине должны быть только моими.
И все-таки я передаю маме записку с просьбой принести моего старого Чебурашку.
По ночам в соседней палате кто-то разговаривает. Дверей на палатах нет, так что все прекрасно слышно. Большинство больных — под снотворными препаратами, и им эта болтовня нисколько не мешает. Им, но не мне. Признаться, я думала, что это такие же полуночники переговариваются между собой. А потом санитарка зашла и — «С кем ты разговариваешь?» — «С сыном!» Сын этой старухи давно умер…
И вдруг пронзительный вопль разрывает вязкую тишину. Разрубает узел тяжелых сновидений, вспарывает мертвый зловонный воздух, взламывает навеянный лекарствами сон. Я вскочила и поспешила в коридор. Санитарки и дежурная медсестра уже неслись в палату, туда же спешил и дежурный врач — добродушный старичок, мы все его любим. Откуда-то я знала, что это кричит Алина.
— А-а-а-а-а! — кричала она. Крик у нее тоже необычный: живой, настоящий, отчаянный. Другие больные кричат на одной ноте, и в их тоскливом вое нет ничего человеческого, а Алина кричала, как испуганный ребенок. Я подошла к ней.
— Галя! Ты что тут делаешь? А ну-ка, марш в палату! — шикнула на меня Аня.
— Галина Сергеевна, — громко и резко осадила ее я. — Любопытствую.
— Идите спать, Галочка, — попросила меня баба Валя. — Видите, ей плохо…
Алина извивалась и кричала, пока ей делали укол и меняли памперс. Смотреть на нее было нехорошо, но я все же бросила последний взгляд.
У нее была такая тонкая талия. И плоский живот. Ее развернули на живот — на пояснице у нее были трогательные ямочки.
Алина, девушка с игрушками…
Утром у Вики случился припадок. Первый за все время пребывания в больнице.
— У-тю-тю, — визжала она, выгибаясь и деревенея. — Ой, дядька! Дядька! У-тю-тю-тю-тю!
Она сучила ногами, колотилась, руки ее мучительно сжимали и рвали край пододеяльника. Мы с Юлей хотели ей помочь, но Вика вырвалась и упала на пол.
Вбежали санитары, подняли ее, удерживали на кровати, пока подошла медсестра и сделала ей какой-то укол, потом пришел наш эпилептолог, — в общем, переполох… Улучив минутку, я спросила у бабы Вали:
— Как там Алина?
— Спит, — так же шепотом ответила та.
Наконец все успокоилось, санитарки вернулись на свой «пост» у телевизора. Считается, что они пашут до кровавых мозолей. На самом деле полы моют больные — за сигареты, а дежурят санитарки вполглаза, когда они нужны, их вечно звать приходится. Но мне сейчас это было на руку: я прокралась к Алине в палату.
Кроме нее, там были еще две женщины. Одна из них разгадывала простенький кроссворд, вторая похрапывала: тут многие спят целыми сутками. Я подошла к кровати Алины.
Она лежала тихо-тихо, совсем неподвижно, и руки безвольно вытянулись вдоль тела. Одна из игрушек упала на пол. Лицо Алины было очень белым, а губы — синеватыми. Прядка каштановых волос лежала рядом с точеным носиком и не шевелилась. Я наклонилась к ней — и не уловила дыхания.
Аня вломилась в палату — как всегда, агрессивная, вечно всем недовольная.
— Галина… Сергевна, блин, — рявкнула она. — Что вам тут, медом намазано? Идите к себе!
— Тихо, — сказала я. — Т-с-с-с! Разве вы не видите? Она спит. Вы довольно ее беспокоили, не тревожьте ее хоть сейчас.
Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Железная бабочка
Железная бабочка
джен, крипи, мини
джен, крипи, мини
Комар зудел и зудел — надсадно, точно бездарное юное дарование на районном конкурсе самодеятельности, и с той же назойливостью вился вокруг Марины. Марина как раз набрала кучу работы на дом, и отвлекающие маневры комара ее не грели ну совершенно — тем более, что укусы этих насекомых она переносила болезненно.
скрытый текстМарине было тридцать семь, она была умна и успешна, любила свою работу и пятилетнюю дочь Лену. Насчет Лены, правда, беспокоиться не стоило — в детской чадили сразу два фумигатора, и на всякий случай Марина еще сбрызнула малышку репеллентом. А вот в кабинете… В конце концов, осатанев, Марина выбрызгала остатки репеллента на себя, однако ноги уже гудели от невыносимого зуда.
В детстве Марина с мамой каждый вечер собирали комаров пылесосом. Их было много, никому это, естественно, не нравилось, но все понимали, что лето без гнуса и комарья — не лето. Однако сейчас!
— Да что за черт, — процедила Марина сквозь зубы — тихо, чтобы не разбудить Лену. — Во всем городе нет комаров, и только в нашем доме их как грязи!
Успехами своими Марина во многом была обязана четкому планированию, учету любых последствий и любых факторов, а также умению проконтролировать ход событий. Поэтому комары, окопавшиеся в сыром подвале, взбесили ее до кровавых чертиков в глазах.
Они оказались той самой незапланированной и крайне досадной мелочью, с которой невозможно было справиться своими силами. Они зудели, отвлекали, выводили из себя, доставляли невыносимо неприятные ощущения, в конце концов, они укусили Леночку за веко так, что она целую неделю ходила с опухшим глазом. Это было еще хуже, чем нашествие тараканов десять лет назад, когда никакие карандаши и дихлофосы не действовали, так как новые и новые полчища мерзких насекомых лезли из квартиры спившихся соседей. Тараканы хотя бы не кусались…
На следующий день после работы Марина пошла на переговоры с соседями по подъезду.
Она была готова к трудным разговорам ни о чем, а также о ценах, о Путине, о гейропе, об олигархах и опять о ценах, но собиралась побить логику соседей своей, незамысловатой: комары — опасные и вредные существа, в подвале дома им не место, значит, надо вызывать дезинсекцию. Но не учла одного: соседи готовы были терпеть упырей и посерьезнее комаров из экономии…
Дом, в котором жила Марина, когда-то назывался «обкомовским». Едва завершив строительство, ключи от новых квартир вручили партаппаратчикам и функционерам. Надменные супруги восседали на лавочках, чинно перемывая друг другу косточки, а за их мужьями в одинаковых серых костюмах заезжали ведомственные автомобили… Но шли годы, супруги превращались во вдов, и их становилось все меньше. Три подъезда в доме были уже полны новых хозяев жизни, молодых, резвых, циничных и зубастых, не желающих мириться с неудобствами, если их можно было устранить с помощью денег. Еще в двух подъездах жили и новички, и наследники первых хозяев. А подъезд Марины оставался вотчиной старушенций — реликтов ушедшей эпохи. Модные костюмы сменились ситцевыми платьями и халатами, шпильки — тапочками, с трудом налезавшими на косточки, а пенсии союзного значения — жалкими подачками от нового государства. И отрывать от этих подачек энную сумму еще и на вызов дезинсекции старушенции дружно отказывались.
— Хорошо, — наконец вспылила Марина, — я сама вызову эту дезинсекцию! Но не смейте потом приставать ко мне со всякими сборами на благоустройство! А то ишь, какие — как дворничихой недовольны или крышу чинить, так «Мариночка, позвони», а как по двадцать рублей скинуться, так жлобитесь!
Старушенции склонялись к тому, чтобы согласиться. Анна Андреевна с первого этажа, самая активная и сварливая из соседок, однако, сомневалась. Она сразу прикинула, что мало ли какая еще помощь понадобится — а единственным молодым и энергичным человеком на весь подъезд остается Марина, не стоило бы плевать в колодец.
И вдруг все разрешилось, как показалось Анне Андреевне и ее закадычной подружке Марье Филипповне, наилучшим образом. В дверь Марьи Филипповны подсунули рекламный буклетик с нарисованными на нем тараканами, крысами и комарами в алых кружках и текстом «Железная бабочка. Избавим от паразитов. Недорого». Расценки у «Железной бабочки» оказались почти втрое ниже, чем в дезинсекционной службе облСЭС. «Недорого» — это слово производило на старушенций магическое действие!
Единственным, кто заартачился, была Марина. Она-то, искушенная в современных реалиях, отлично понимала, что «недорого» почти наверняка «плохо». В лучшем случае, размышляла Марина, эти «Железные бабочки» там чего-то побрызгают, и через месяц, а то и через неделю комарье вернется. В худшем — возьмут деньги и пропадут с концами. Знаем мы их, уже не раз через это прошли… Однако разубедить соседей ей не удалось.
Специалистов из «Железной бабочки» вызвала Анна Андреевна.
Спустя несколько дней, рано утром, к дому прибыли какие-то люди в форменной серой одежде с шевроном в виде бабочки. Марина видела их из окна. Почему-то ей стало не по себе от этой формы — длинные глухие плащи с капюшоном, от больших очков, закрывавших глаза пришельцев, от оборудования, упакованного в черные ящики. Она быстро собрала Лену в садик, пообещала, что придет за ней сегодня попозже, зато после садика сводит ее в «Диксиленд» — маленький комплекс развлечений неподалеку от дома и обязательно угостит мороженым. Вести ребенка домой ей не очень хотелось. Судя по форме сотрудников, «Железная бабочка» использовала какие-то очень токсичные репелленты, дешевые и уже хотя бы поэтому небезопасные для людей. «Хоть бы мы сами от их репеллентов не отравились», — подумала Марина, ловя себя на совсем уж несуразной и недостойной интеллигентного человека мысли, что Анну Андреевну, пожалуй, и надо бы травануть. Ну ладно, не до смерти, но чтобы хватило на три дня поноса — и не меньше!
В дверь позвонили.
— Фирма «Железная бабочка», — представился человек в очках и плаще. Низенький и тощий, на голову меньше Марины, он говорил неприятным глухим гудящим голосом, и это окончательно настроило Марину против фирмы, ее методов и особенно Анны Андреевны. — Мы провели дезинсекцию подвала. Возьмите вот этот препарат и обработайте им свою квартиру, чтобы исключить возвращение насекомых к исходному состоянию.
Марина поблагодарила, взяв большой флакон спрея со странным запахом, поставила его в прихожей — и забыла о нем в тот же момент.
Вероятно, если бы хоть один комар зажужжал сегодня вечером в квартире, Марина живо бы обработала спреем каждый миллиметр жилища. Но нет, — надолго или не очень, Марина наконец-то получила желанную тишину и возможность поработать на дому, а Лена легла спать без ежедневной церемонии со спреем-репеллентом. Впрочем, фумигаторы Марина все равно включила, отчасти по привычке, отчасти потому что не особо доверяла «Железной бабочке».
Недели через две — Марина к тому времени уже и думать забыла о комарах, занятая куда более насущными и важными делами — ее остановила еще одна старушенция из подъезда, с третьего этажа, по имени Галина Петровна.
— Мариночка, — начала она, — вы Марью Филипповну не видели?
— Нет, — коротко ответила Марина, весьма довольная тем, что редко пересекается с соседями вообще и с Марьей Филипповной в частности. Но говорить «не видела и не хочу» было как-то невежливо.
— Я беспокоюсь, — сказала Галина Петровна. — Марья Филипповна не выходит, она даже не звонит Анне Андреевне. Уж не заболела ли?
И опять-таки говорить, что в возрасте Марьи Филипповны случиться может всякое, было невежливо, поэтому Марина пожала плечами и спросила:
— А вы к ней домой заходили? Звонили?
— Не открывает, — старушенция развела руками.
Марина вздохнула. Галину Петровну она уважала за серьезность, добропорядочность и неизменную благожелательность. Поэтому для очистки совести, спустившись на этаж вниз, она позвонила в квартиру Марьи Филипповны.
Из квартиры доносился едва уловимый, но явственный запах — ни с чем не сравнимая вонь тухлого мяса, сразу сказавшая Марине все, и странный аромат. Он не был явно химическим, но органическое происхождение запаха тоже вызывало сомнения. Так не пахнут ни животные, ни растения. Марина еще раз принюхалась. «Насекомый какой-то запах», — с отвращением подумала она.
— Охохо, — сказала она Галине Петровне. — Давайте вызовем милицию, наверное. Боюсь, с Марьей Филипповной беда.
Ломать дверь она, конечно, не собиралась — просто нажала на нее ладонью, и внезапно дверь подалась.
— Ее убили, — зашептала Галина Петровна. — Ограбили и убили. Мариночка, не ходите туда!
— Да с чего вы взяли-то, — начала Марина — и сообразила.
Любая из этих старушенций куда осторожнее, чем молодежь. У каждой из них на входной двери — по два-три замка и еще внутренняя цепочка образца 1975 года. Да и дверей обычно больше одной. Значит, если дверь открыта…
Вонь стала гораздо сильнее, она уже почти не давала дышать.
Марина шагнула внутрь — и остановилась, резко отворачиваясь и сжимая до хруста веки. Все съеденное за обедом и не успевшее к этому моменту перевариться встало у нее комом в горле. Нет, она готова была увидеть труп и прекрасно понимала, как он должен выглядеть после десяти дней в теплой квартире. Но чтобы такое!
От Марьи Филипповны осталось что-то вроде скорлупы. Ссохшаяся кожа, внутрь которой попадали кости; с черепа кожа слезла, и Марья Филипповна скалилась в последней усмешке. А вокруг…
Вокруг сидели комары. Мириады их расселись на табуретке, диване, ковре, а внутри Марьи Филипповны темнела невероятная шевелящаяся масса, облепившая кости и остатки внутренних органов.
Вылетев из квартиры и задыхаясь, Марина крикнула Галине Петровне «вызывайте милицию, скорее!» и побежала вверх, домой.
Лена уставилась на нее.
— Мама, ты чего? — спросила она. — Что это так воняет? Мама, я хочу наполона!
— Это… репеллент, — нашлась Марина. — Доченька, у нас нет наполеона. Я не купила. Завтра куплю обязательно.
— Посмотреть, как нет, — потребовала Лена. Марина взяла ее под мышки и приподняла, чтобы Лена смогла заглянуть в навесной шкафчик и убедиться. «Репеллент», — подумала она, опуская дочь на пол. Репеллент… этот странный запах, примешавшийся к трупному смраду…
Нет. На фиг. Забыть, забыть, забыть. Развидеть раз и навсегда.
Но и это у Марины не вышло. Спустя еще пару дней Галина Петровна в смущении позвонила к ней в дверь.
— Мариночка, мне совершенно не к кому обратиться, — сказала она. — Похоже, Анна Андреевна тоже…
— Печально, — ответила Марина. — Но ведь они обе уже были очень старенькие. Жаль, конечно, что мы ее не сразу обнаружили, и ее съели эти адские насекомые… Вот говорила же я, давайте вызовем нормальную СЭС! Мне как-то не нравится, что я умру — и меня сожрут комары. Уж лучше крематорий.
— Комары, — Галина Петровна пожевала старческими губами, по въевшейся привычке подкрашенными малиновой помадой. — Вы знаете, Мариночка, мне эти специалисты из фирмы дали какой-то спрей, а я им и не пользовалась. Ведь комаров же и так нет! Зачем травить себя этой химией, правда? Мы даже с Анной Андреевной поспорили из-за этого…
— И я не пользовалась, — сказала Марина. — Забыла. Как бы наши соседи не умерли оттого, что переборщили с этим репеллентом. Я же говорила — дешево хорошо не бывает!
— И ведь не помог, — Галина Петровна значительно подняла палец и потрясла им. — У меня их нет, представляете? А из квартиры Анны Андреевны они так и летят! Ладно, я еще к Ольге Панкратовне позвоню…
Ольга Панкратовна — вдова большого начальника — была колхозной бабкой с очень большим самомнением, чрезмерно увлеченная различными патентованными средствами. Марина отлично понимала, почему Галина Петровна не хочет с ней связываться.
Жили они с Ольгой Панкратовной на одном этаже, и Марине показалось, что из-под ее дорогой металлической двери тоже потянуло запашком разложения и бытовой химии.
Взгляд ее упал на флакон спрея на обувной полочке. Марина в рассеянности поставила этот флакон, когда его принес представитель «Железной бабочки», и забыла о нем. А теперь вспомнила — поднесла к носу…
Она выскочила на лестничную площадку.
— Галина Петровна! — крикнула задыхаясь. — Галина… Петровна!
— Она не открывает, — беспомощно отозвалась Галина Петровна.
Марина бросилась бежать по подъезду, перескакивая через две ступеньки и подворачивая ноги в домашних тапочках. Ни одна из старушенций не открывала, ни в одной квартире не угадывалось никакого движения. Наконец, на пятом этаже открылась дверь — там жила древняя-древняя старуха, уже давно не выходившая из дому. Но открылась, потому что Марина в истерике зарядила по ней кулаком.
Из дверного проема пахнуло тяжелым смрадом, и навстречу — прямо в лицо Марине — вылетело несколько комаров.
Марине показалось, что они смотрят на нее — выжидающе, оценивающе, словно спрашивая: ну, а ты-то когда?
Спотыкаясь и повисая на перилах, она поплелась вниз.
— Галина Петровна, — сказала, — а переселяйтесь ко мне. У меня есть суп. И картошечка. И котлеты. Чайку попьем. А завтра я куплю наполеон…
— Что вы, что вы, Мариночка, — удивилась Галина Петровна, но Марина продолжала:
— …куплю наполеон и найду нам жилье. Сниму, у меня денег хватит, лишь бы убраться отсюда поскорее. Галина Петровна, в этом подъезде живы только мы трое, понимаете?
Старуха подумала. По ее морщинистому и все еще красивому лицу пробегали волны — сначала недоверие, потом понимание, страх и, наконец, решимость.
— Ну нет, — сказала она. — Сейчас я позвоню сыну. Он добрый мальчик, он не может нас не принять! Мы уедем немедленно! Собирайте Леночку!
Марина метнулась в квартиру, побежала по комнатам, хватая все подряд: сумки, детские вещи, одежду, игрушки, шкатулку с золотыми побрякушками, торопливо разобрала и упаковала компьютер, собрала некоторые книги для Леночки. Руки у нее не тряслись — они словно все делали сами, а мозг четко фиксировал происходящее, как сторонний наблюдатель. Как нам повезло с Галиной, мелькнула мысль. А ведь если бы не она, мы с Ленкой еще какое-то время жили бы в подъезде, забитом трупами и комарами…
И вдруг по лестнице застучали чьи-то шаги. Не старческие, медлительные — кто-то молодой уверенно поднимался к Марине на этаж. Марина замерла. Лена пискнула «мама, кто это», Марина зажала ей рот рукой.
— Фирма «Железная бабочка», — представился кто-то рекламным тоном. Марина узнала этот глухой, насекомый голос и сжалась. — Я знаю, что вы дома. Открывайте, возьмите еще спрей от комаров. Возьмите, а то комары вернутся. Возьмите спрей. Я представитель фирмы «Железная бабочка», возьмите спрей…
Он повторял и повторял это, как заведенный; Лена завертела головой, пытаясь вырваться, но Марина, задрожав от ужаса, только крепче сжала дочь. Внутри у нее все захолодело, особенно когда она подумала о Галине Петровне…
В бубнеж представителя ворвался сигнал автомобиля, и сразу же зазвенел впервые за много лет домашний телефон. Марина дернулась и схватила трубку.
— Мариночка, мой сын приехал, — окликнула ее Галина Петровна. — Вы готовы?
— Да, да, да, — Марина схватила дочь в охапку, обвешалась сумками и рюкзаками и с силой ударила ногой в дверь. «Представитель» заорал, падая и роняя какие-то дребезжащие штуки, и Марина кубарем покатилась по лестнице. Сын — пожилой, но еще крепкий человек — и двое юношей, видимо, внуки, поднимались навстречу, перехватывая Галину Петровну и Марину, один из внуков сразу взял на руки Леночку…
Марина упала в машину, не заметив ни марки, ни цвета, забрала дочь и прижала ее к себе. Машина тронулась.
Галина Петровна вздохнула с неприкрытым облегчением. Но Марина никакого облегчения не испытывала.
В конце концов, комаров полно в каждой луже.
В каждом подвале.
В каждой квартире.
И где гарантия, что и в новом доме какой-нибудь чрезмерно экономный жилец не наберет однажды номер фирмы «Железная бабочка»…