Что почитать: свежие записи из разных блогов
Записи с тэгом #Крипи из разных блогов

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
* * *
А Мыха можно поздравить! Завершился фест РуФемСлэш-2018, и у Мыха в кармане две победы. Даже две с половиной.
Мне дали вот такие клевые ачивки

И вот этот текст получил двойную победу:
Шум стоит по деревне: барин приехал.
Уж пятеро годков, как он развлекается в Санкт-Питербурхе. Саму царицу-матушку видал, к ее двору детишек пристроил: сынка да дочку-красавицу. Село Васильково, а с ним и прочие владения – у барина их что рыбы в море – оставил на немца-управляющего. Немец не больно лютый, сельчане к нему приспособились. Ан, видать, то ли немца проверить захотел, то ли тоска душевная взяла по родным местам – барин-то, вишь ты, в Васильковом и родился, – вот и приехал.
скрытый текстЕдет в карете по селу. Карета хоть и не золоченая, мальчишки враки баяли, а нарядная, не чета крестьянской телеге. Кони – загляденье! Ан вот и сам барин выглядывает: пожилой, грузный, рожа-то сурова. Кудряшки у него по обе стороны головы – «букли» называются, а сзади косица, как у девки, да еще и пудрена. А смеяться отчего-то не хочется, хочется, чтобы не глянул лишний раз да не осерчал. Оттого-то Настасья-хромоножка и отвернулась, только из-под руки одним глазом заглядывала. Ну, да у ней глаза быстрые, даром что косые, все разглядела: и камзол синенькой, узорами шитый, и штанцы до колена, и чулки шелковы. А башмаки-то, башмаки! С пряжками!
Вместе с барином в карете детишки евойные путешествуют. Настасья думала – правда детишки, а на самом деле барчук уж здоровый детина, женить пора. Тоже и камзол на ём, и кружева у горла – «жабо» по-ихнему, уж куда какой жених завидный. Росту высокого, в плечах косая сажень. Девки переглядываются, пересмеиваются: красавец! Настасье-то что. Она рыжая, хромоногая, косая, одно плечо выше другого, да еще и вся в веснушках – кому такая нужна? Тут не о барчуке-красавце – о Митяе-бобыле горбатом не замечтаешь! Настастья и не мечтает…
А вот и барышня. Вся в кружевах да в шелках, шапочка у ней на голове, как-то она по-особому зовется, да Настасья забыла. Куском кружева обмахивается, чтоб не жарко, значит. Волосы золотые кудрями уложены, над губкой мушка. А лицо уж такое нежное, такое светлое – краше не найдешь!
Застыла Настасья на дороге. Стоит – не шелохнется.
Заметила барышня ее восторг немой. Да и как не заметить, коли на тебя раскрыв рот пялятся. Усмехнулась, кружевом своим прикрылась, зовет ее:
– Подойди, милая девочка.
Настасью даже мать с отцом милой не звали. Все больше уродкой да обузой, а мать в минуту добрую – бедняжкой. А барышня смеется:
– Красивая?
Отмерла Настасья. Слова так и полились:
– Ой, красивая, краше не бывает! И волосики красивые, и личико, и шапочка!
– Да шляпка это, – смеется барышня. А потом снимает с шейки, белой, как молоко, платок и Настасье протягивает: – Возьми! Носи на здоровье!
Дом Настасья платок тот в красный угол повесила. Ей его все равно не носить. Сарафан у ней луковичной шелухой крашеный, рубашка заплатана, да и куда уродке косой такую красоту? На башку рыжую? А иконы убрать – в самый раз. Крестится Настасья, молится, а сама барышню вспоминает. И светло ей, и радостно, и больно отчего-то. Экие у нее ручки да шейка белые, думает Настасья. А ножки-то, чай, сахарные! А глянуть бы, какие у ней сиськи? И на этой мысли кровь так и бросилась Настасье в щеки, и горячо стало в груди, и внизу живота, и даже коленки подкосились.
Счастье ведь бывает, думает еще Настасья. Вот барышня сама не одевается: ее девки дворовые одевают. Отчего не помечтать, что и я такой девкой буду? Понятно, что кто меня возьмет такую… Моя доля – за скотиной ходить да навоз выносить.
Барин же за хозяйство круто взялся. Мужики по селу шептались: вышел в отставку. Что такое отставка, Настасья так и не выспросила, и что такое опала – тоже. Уразумела только, что он царицу-матушку прогневал, и велела она ему в родовое гнездо убираться. С глаз долой, значит. Вот он и убрался: немца-управляющего погнал, потому что, бают, разворовал дюже много. Сам стал все проверять, оброки назначать. Правда, особой лютости за ним никто и не заметил – и на том слава Богу.
А вот сын его, барчук Димитрий, быстро всем поперек горла стал. Пристрастился он крестьянских девок портить. Бывало, выберет девку покрасивше – и велит ей в бане ему прислуживать. Быстро по деревне слухи пошли один другого гаже, что они там в той бане делают… Иная девка и рада. Что барчук красавчик, а что подарки дорогие дарит: ленты, да шелка, да бусы. А иной хоть в петлю лезь. Отроду такого не было – начали девки Настасье завидовать. Подружка ее, Марья белобрысая, так и сказала:
– Я тебя, Настена, все жалела, что хромая ты, жениха не найдешь. А теперь думаю: лучше б я такой хромой да косой уродилась! Знала б ты, чего мне тот барчук окаянный приказывал! А попробуй откажись… Я ему и в ноги падала, и плакала. А он мне: ты, скотина, радуйся, что на тебя бла-ародный позарился!
– Крепостные мы, – вздыхает Настасья, как батюшка ее вздыхал. – Нам на бла-ародных управы нету, и слова поперек молвить не моги…
Обнимает она Марью, и плачут вдвоем.
Вот кабы барышня мне такое приказала, думает Настасья. Уж я бы не плакала… А может, и плакала бы. Оно не знаешь, что хуже: когда вовсе не замечает, или когда этак за скотину держит.
В селе в конце лета работы полно. А хромоножке так еще и труднее, чем прочим: там, где другая побежит, Настасья едва ковыляет. Оттого они с Марьей и не виделись недели две, даже в церкви в воскресный день не встретились. Оттого Настасья и позже всех узнала, что Марью уж давно не видел никто. Опечалилась Настасья, а сама думает: сбежала Марья. Не стерпела барчуковых окаянств. Жалко ей: и подружки любимой рядом нет, и Бог весть, как у Марьи дальше-то сложится…
И как-то ввечеру за Настасьей человек пришел. Из дворни.
– Иди, – бает. – Барышня Лизавета Петровна тебя лицезреть желает. Да платье чистое надень!
Платья у Настасьи не так чтобы много. В бедности они живут. Из скотины только худая коровенка да коз двое. Земли досталось немного, и вся неплодородная. Зато матушка плодородная: братишек да сестренок у Настасьи аж шестеро, и было бы поболе, кабы трое не померло, а еще одну сестренку матушка с батюшкой подкинули, кому – не говорят. И тот чистый сарафан, что Настасья из сундука достала, заплатанный – а тот, что на ней, так и еще хуже… Даже мысль мелькнула из девичьего сундука что-то взять. Матушка за такое, конечно, всыплет по первое число – а как перед барышней в скудном предстать? Перекрестилась Настасья да надела залатанный сарафан, авось добрая барышня не осерчает…
Пока шла – все думала, как же вести себя так, чтобы почтительно и барскому чину сообразно. Чтобы барышню не рассердить и уж слишком нелепо не держать себя – а как правильно, не знает ведь. Ан все проще простого оказалось. Как только ввели Настасью в комнатку для дворни, другие слуги ее тотчас к барышне проводили. А она сидит, книжку читает.
– Ой, – говорит, – вот и моя новая камеристка пришла! Как тебя зовут, милая?
– Настасьей кличут, – говорит Настасья, – матушка Лизавета Петровна, – и кланяется неловко.
– Да какая я тебе матушка? – хохочет барышня. – Лизанька я! Платочек носишь ли?
– Нет, мат… то есть барышня, я им иконы в красном углу убрала…
Уж чего бы смешного, а барышня все заливается.
– Ну, поди ко мне, Настасья, будем чай пить!
Думала Настасья – не справится. Да Лизанька не строгая. То велит книжку подать – а что Настасья неграмотная, так говорит, какого цвета обложка. То велит нижнее платье постирать, или чаю налить, или туфельки зашнуровать, словом, пустяки сущие. Вот с утюжком Настасье сложнёхонько пришлось. До того у ней какой утюг был? Качалка. Про чугунные утюги, которые на печке греются, Настасья только слышала. А теперь науку обращенья с ними постигать в один день пришлось. И то Настасье все боязно было, что шелковы ленты да рукава кружевны у Лизаньки попортит.
Веселая Лизанька. Все хиханьки да хаханьки, да с дворней пошутить, да печенья детворе сельской раздать, и кошечку погладить – кошечка у ней особая, с бантиком на шейке, и собачку приласкать – и собачка тоже особая, не для охраны или охоты, а для забавы, «болонка» называется, и папеньку – это она так батюшку называет – в щечку чмок. Братец, тот сам ее в щечку чмокает, прежде чем по девкам пойти.
Эх, думает Настасья, жаль, Марья от этого братца сбежала. Сестрица-то совсем не в него. Вот бы рассказать Марье-то, каково оно – камеристкой быть!
А тем временем наловчилась Настасья с платьем Лизанькиным управляться. Вот утром Лизанька встает – с нее рубашку снять надо. Рубахи той – одни кружева, а ткани совсем чуть, и та как воздух. И тело у Лизаньки как воздух, белое да шелковое, ровно туман озерный. Погладить бы, по коже нежной ладонью провести, а потом – губами, да ведь боязно: ну как с поцелуя оно синяк останется? На такой-то коже… И грудь у Лизаньки, что кувшинка летняя: глядел бы – не оторвался, сорвал бы – да ведь увянет сразу. И ножки у Лизаньки белее да чище сахара. Боится Настасья к ней даже прикоснуться: свои-то ручищи больно грубы.
И пахнет от Лизаньки чем-то сладким, свежим, нежным… Лизанька говорит – пачули.
– Пачули-пачкули, – вздыхает Настасья, а Лизанька ну хохотать!
Подает ей Настасья панталоны. Вот уж где нежность так нежность – шелка да кружева, как раз чтобы к самым чувствительным местам касаться! И отчего я не панталоны, вздыхает про себя Настасья. Уж добралась бы до попки Лизанькиной и туда, где у ней золотые волоски кудрявятся – уж и ласкала бы, и гладила, уж радовала бы ее, смешливую! Как ласкать, Настасья немного знает: в бане себя трогала – пробовала. И все равно думать про это ей страшно. А ну как барышня по-другому устроена?
Только и осмеливается Настасья, что туфельку барышне поцеловать перед тем, как надеть ее, атласную, на чудо-ножку.
– Какие у тебя почтительные камеристки, сестрица, – раздается над головой насмешливый голос. Это барчук, Митрий Петрович, явился.
– Митенька! Я же не одета! – восклицает Лизанька. – Изволь стучаться, mon frère!
И чудится в ее чистом голоске-колокольчике что-то неласковое. Ни с кем другим Лизанька так не разговаривает. И глазки ее, цветы луговые – Настасья взгляд поднять решилась – ни на кого так холодно не глядят. Только на брата родного.
– Отчего же мне к родной сестре стучаться, голубушка моя?
И у Митрия Петровича взгляд не теплый, не братский. Слова ласковы, а в голосе не то сталь, не то яд.
– Выдь, mon frère, я закончу туалет и сойду в залу, – важно говорит Лизанька. – Выдь, сделай милость! – и по-ненашему ему: – Мonsieur, s'il vous plaît avoir du respect!
«Сюр-сюр-сюр» – слышится Настасье. Ровно сверчок какой. Да Лизанька уже всерьез серчает!
– Одолжи мне твою верную служанку, ma soeur, – говорит Митрий Петрович.
Сюр-сюр, зло думает Настасья.
– Найди лучше ту, что потерялась, – отбривает Лизанька.
Настасья надевает на ее ножку вторую туфельку. Ей уже не нужно смотреть Лизаньке в лицо, чтобы понять: она не просто сердится. Не любит она брата, осуждает его за распутство и шашни с крепостными девками, и за то, что Марью обидел, тоже гневается. Стыдно ей за брата бесстыжего.
Ан снова шум какой-то, крик, плач…
– Настенька, – говорит Лизанька. – Вели мальчугану из дворовых сбегать да разузнать, что за афронт там случился. Никак, беда какая?
Настасья сама сбежала. Переваливалась по лестнице утицей, ковыляла по двору неуклюже, наконец, увидела знакомого парня из дворни и кричит ему:
– Егор! Егорушка! Что там за крик?
– Марью нашли, – говорит Егор.
– Да ну? Как нашли? Где? Как она?
Уж подумалось Настасье пойти к Лизаньке – просить за Марью. Но Егор отвечает:
– Сгнила уж наполовину. В бочаге подле баньки, где мосток.
– Как… как сгнила? Как в бочаге? Утопла, что ли?
Спрашивает Настасья, а в душе все захолонуло. И горько так на сердце. Видать, напоил ее проклятый охальник, что утонула после стыдных забав в баньке-то…
– Не, не утопла. Сама, видать, утопилась, от барчука бегаючи…
Завыла тут Настасья. Жалко ей Марью так, что слов нет. Уж и славной она была, уж и доброй, да и дружили они, почитай, с колыбели.
Пригорюнилась Лизанька.
– Я, – бает, – семье несчастной девушки велю пенсион выплатить… Батюшка позволит. Я батюшке на Митеньку пожалуюсь, куда это годится!
Тогда-то впервые на памяти Настасьи Лизанька с отцом поссорилась. Кричали они друг на друга знатно – так, что не только из-за запертой двери баринова кабинета было слышно, а и стекла тряслись. Настасья почти ничего не уразумела, потому что кричали не по-русски, слышала лишь, как ревет их «сюр-сюр-сюр»: не как ручеек, а как река, по весне вздувшаяся. Вышла Лизанька от отца со слезами. А после того отец вызвал барчука. С ним «сюр-сюр-сюр» куда грознее вышло. И стуки раздавались – видать, вразумлял сына. Да что с того вразумления: Марью-то уж не вернешь…
А тут еще беда: священник Марью отпевать отказался. Говорит, самоубийство грех большой. Так и зарыли бедную за оградой кладбища.
Плакала долго Настасья. Да время идет, и сердце как ни болит – отболит. Вот и успокоилась она. А осень уже густая, пасмурная, и ворон-тоскунья кричит – прочих птиц в ирей провожает, и дожди проселок размыли… вроде ничего в жизни не меняется, кроме как холодает. Теперь уж надевать на Лизаньку больше всего надо: и капот, и чулочки, а там скоро и варежки потребуются. То-то сладко будет варежки на ее нежны ручки надевать да мечтать, чтобы Лизанька ими Настасью хоть разок погладила…
А память никуда не девается. И спрашивает как-то Лизанька Настасью:
– А скажи-ка, Настенька, мой frère к тебе, ну… ничего не говорил?
– Да кому я нужна, барышня, – рассмеялась Настасья. Невесело рассмеялась. – Косая, да рыжая, да хромая… Так бобылкой жизнь и проживу. Вы ведь оттого меня в камеристки и позвали, чтобы Митрий Петрович со мной как с Марьей не обошелся?
– Ну не скажи, – улыбнулась Лизанька. – Ты очень премиленькая, когда улыбаешься. А frère… держись от него как можно дальше, слышишь? Строго тебе велю!
– Слушаюсь, – улыбнулась и Настасья.
Суббота это была. До того дня мыться Лизаньке кормилица помогала. А тут Лизанька ее отпустила зачем-то. И велит Настасье:
– Помоги-ка мне, Настенька…
В баню – ту, что Митрий Петрович для гнусных забав приспособил – она не ходила, а велела поставить лохань и всякие мыльные принадлежности в небольшую горенку. Вот Настасья за ней в ту горенку и поднялась. Чистое исподнее несла, губку – штуку такую, чтобы ей мыться, мыло душистое. А за ними еще и Егор – ведра нес. Сперва с горячей водой, потом еще раз сходил, принес с холодной. Налила Настасья воды в лохань, пробует – вроде теплая, да не горячая, барышне подойдет…
Распустила Лизанька в той воде душистый шарик. Это, говорит, соль ароматическая. И верно, запах сладкий по всей горенке пошел. А Настасье велела губку мылом натереть и мыть себя.
Дрожит Настасья. Счастью своему не верит. Провела губкой по телу нежному, желанному – раз, другой… А Лизанька уж разнежилась, ножки развела, только вздохи срываются с губок приоткрытых. Стала Настасья с ней рядом на колени, моет – вроде как чтоб почище, а сама-то, дерзкая, руку с губкой между ног положила.
И губку-то и выпустила.
Все у барышни как у самой Настасьи, только краше да нежнее. И кожа тонкая складочками, и наверху бутончик. Трогает его Настасья, гладит, потом осмелела – и давай пальцами его перебирать да кругами водить…
– О, ma chérie! – выдохнула Лизанька, мокрыми руками Настасью за шею обхватила да как прижмется устами к устам! И дыхание смешалось с дыханием, и сердце заколотилось, в перед глазами все туманом пошло – счастье-то какое… И вдруг обмякла Лизанька у Настасьи в руках. Полежала, дух перевела. А потом и говорит:
– Раздевайся, Настенька, надо, чтобы и ты была чистенькой!
Уж тут Настасья поняла: не наяву это. Во сне. Да в таком, что как, проснувшись, Лизаньке в глаза смотреть… А Лизанька тоже губкой ее трет, и ручками белыми гладит, и снова в губы целует…
Потом, когда обе вытерлись и чистое надели, Лизанька и говорит:
– Давай, Настенька, в Санкт-Питербурх уедем. У папа там осталась квартира – особняк на Невской прешпективе. Он уж не при дворе, да ведь я-то не в опале. Будем там жить-поживать!
– А батюшка-то вам, барышня, позволит?
– А нынче же спрошу!
И вдруг крик послышался. Бежит Егор, глаза ополоумевшие:
– Марья! Марья вернулась!
– Опомнись, друг мой, – Лизанька ему, – как она могла вернуться? Ведь ее давно похоронили!
– Видали ее! У бочага стоит, в бочаг смотрит, смеется!
Не успели Настасья с Лизанькой удивиться и решить, что Егору, видно, кто-то наболтал, а тому с пьяных глаз померещилось, – снова крики!
– Марья у бочага! Велела сказать, что за Митрием Петровичем придет!
Что за чертовщина? Подумалось Настасье, что то кто-то из Марьиной родни затеял.
Село гудит, все напуганы. А Митрию Петровичу и горя мало. Он, вишь ты, в баньку опять собрался. Никак, на новую девку глаз положил.
– Не ходил бы ты, mon frère, – говорит ему Лизанька. Да и отец не велел. Да когда барчук советов слушал?
Вышла ввечеру Настасья, чтобы дворню расспросить да новостей для Лизаньки собрать – ан Митрий Петрович тащится.
– О, камеристка моей сюр-сюр-сюр, – улыбается.
Страшная у него улыбка. Нехорошая, злая. Отступила от него Настасья.
– А что, – говорит Митрий Петрович будто самому себе, – такая laide – это даже пикантно!
Как он ее обозвал, Настасья не поняла. Поняла только, что бежать надо что есть сил. Да с хромой-то ногой далеко ли убежишь? И нескольких шагов не сделала – поймал ее барчук за руку.
– Мa douce, – шепчет, – будешь милой, так я тебя щедро одарю. А нет – там же, где та blonde, окажешься!
– Сам ты дус окаянный, – говорит Настасья, и тут как обухом ее ударило.
«Блонд» – это ж по-ихнему, по-сюрсюрсюрному, и есть белобрысая. Марья белобрысая! Так, значит, не сама она утопилась – проклятый распутник ее утопил?
Настасья не только хромая, но и телом хилая да мелкая, а Митрий Петрович – косая сажень в плечах. Взял ее под мышку – и тащит, и тащит к баньке-то. От страха у Настасьи даже дух занялся. И позвать бы Лизаньку – так ведь у барчука-душегуба уже одно убийство было, ну как сестре что-то сделает? А просить-молить бесполезно: попробовала Настасья, так он ей ручищей рот заткнул…
Слышит – бежит кто-то, запыхавшись. И запах сладкий.
– А ну-ка, пусти ее! Пусти немедленно! Это моя камеристка! – кричит Лизанька. Подбежала к брату и бьет его в спину кулачками: – Пусти, пусти! Не смей! Пусти, папа скажу!
– Отстань, дура, – огрызнулся. Да Лизанька вцепилась в его камзол и не отпускает.
Видит Настасья: на Лизаньке только тонкая одежа – роброн шелковый. А осень-то уже глубокая, по утрам на лужах ледок. Если пробудет Лизанька на улице еще немного – этак и насмерть простудиться недолго. Стала Настасья вырываться и ногами лягаться. А барчук-то ей по голове как даст!
Вот как он Марью-то утопил, поняла Настасья. Оглушил – и в бочаг…
И вдруг водой речной пахнуло: подтащил Митрий Петрович девушек к мостку. И холодом повеяло. Да так, что даже Лизанька умолкла.
Повернулась Настасья, видит: стоит Марья. Спокойная такая, в одной мокрой рубашке, и вроде даже не мерзнет, даром что холодина. Оно и верно: мертвые не мерзнут. Стоит и улыбается.
– Я же, – бает, – обещала, что приду. Пусти-ка мою подруженьку.
Швырнул Митрий Петрович Настасью на землю. Лизанька к ней подбежала, Настасья сразу с себя шаль и ну Лизаньку укутывать… и глаза ей руками закрыла. Ничего она не понимала. Поняла одно: лучше не смотреть, что будет.
А все равно обернулась и видит: протянула Марья руки к Митрию Петровичу. Обняла его. Тот отталкивает ее, пытается «Отче наш» бубнить, да не поможет Бог тому, кто в Него никогда не верит! И задыхается в ее объятиях… Впивается Марья в бритое горло – и давай сосать. С причмоком таким, с жадностью, отдуваясь; пососет-пососет, дух переведет – и опять. Из горла прокушенного кровища хлещет, да яркая такая, течет-просачивается сквозь доски мостков, уж и вода в бочаге красной стала… Наконец, насытилась Марья. У Настасьи даже рука занемела – глаза Лизаньке закрывать. Оказалось, то лишь начало было. Оторвалась Марья от барчука да как свистнет!
И полезли из бочага мелкие, в тине, – не поймешь, то ли дети, то ли вообще нелюди какие, лысые, в водорослях, в рванине… Волоса зеленые, зубы торчат. Острые пальчики в тело впились, разрывают и камзол, и кожу, и мяса куски с костей сдирают.
Подхватила Настасья Лизаньку и шепчет: «Бегом, барышня, бегом!» А Марья тут повернулась к ним спиной – нет у ней спины. Ребра торчат, красное что-то между ребер, и мешок какой-то: сердце Марьино…
Дернула Настасья Лизаньку за руку – как припустили обе!
Месяц после того Лизанька проболела. Настасья при ней неотлучно находилась. Про Митрия Петровича объявили, что он в бане пьяный напился, оттого и утоп.
Барин побелел весь. Сгорбился. Глаза от слез красные. Оно и понятно – единственного сына потерять…
Выдали родителям Настасьи пенсион, и по первому снегу снарядили обоз в Санкт-Питербурх. А уж там они с Лизанькой первым делом в самом соборе заказали службы на помин души рабы Божьей Марии. Чтобы целый год ее с амвона поминали.
Потому как мавка бесспинная, ежели ее не отпеть, первым делом со своим убийцей расправится, а потом придет за теми, кого при жизни любила. За матерью. За отцом. За братьями. За подругой…
Одно только страшно: не поздно ли спохватились?
Мне дали вот такие клевые ачивки


И вот этот текст получил двойную победу:
Бочаг
хоррор, фемслэш, Р
хоррор, фемслэш, Р
Шум стоит по деревне: барин приехал.
Уж пятеро годков, как он развлекается в Санкт-Питербурхе. Саму царицу-матушку видал, к ее двору детишек пристроил: сынка да дочку-красавицу. Село Васильково, а с ним и прочие владения – у барина их что рыбы в море – оставил на немца-управляющего. Немец не больно лютый, сельчане к нему приспособились. Ан, видать, то ли немца проверить захотел, то ли тоска душевная взяла по родным местам – барин-то, вишь ты, в Васильковом и родился, – вот и приехал.
скрытый текстЕдет в карете по селу. Карета хоть и не золоченая, мальчишки враки баяли, а нарядная, не чета крестьянской телеге. Кони – загляденье! Ан вот и сам барин выглядывает: пожилой, грузный, рожа-то сурова. Кудряшки у него по обе стороны головы – «букли» называются, а сзади косица, как у девки, да еще и пудрена. А смеяться отчего-то не хочется, хочется, чтобы не глянул лишний раз да не осерчал. Оттого-то Настасья-хромоножка и отвернулась, только из-под руки одним глазом заглядывала. Ну, да у ней глаза быстрые, даром что косые, все разглядела: и камзол синенькой, узорами шитый, и штанцы до колена, и чулки шелковы. А башмаки-то, башмаки! С пряжками!
Вместе с барином в карете детишки евойные путешествуют. Настасья думала – правда детишки, а на самом деле барчук уж здоровый детина, женить пора. Тоже и камзол на ём, и кружева у горла – «жабо» по-ихнему, уж куда какой жених завидный. Росту высокого, в плечах косая сажень. Девки переглядываются, пересмеиваются: красавец! Настасье-то что. Она рыжая, хромоногая, косая, одно плечо выше другого, да еще и вся в веснушках – кому такая нужна? Тут не о барчуке-красавце – о Митяе-бобыле горбатом не замечтаешь! Настастья и не мечтает…
А вот и барышня. Вся в кружевах да в шелках, шапочка у ней на голове, как-то она по-особому зовется, да Настасья забыла. Куском кружева обмахивается, чтоб не жарко, значит. Волосы золотые кудрями уложены, над губкой мушка. А лицо уж такое нежное, такое светлое – краше не найдешь!
Застыла Настасья на дороге. Стоит – не шелохнется.
Заметила барышня ее восторг немой. Да и как не заметить, коли на тебя раскрыв рот пялятся. Усмехнулась, кружевом своим прикрылась, зовет ее:
– Подойди, милая девочка.
Настасью даже мать с отцом милой не звали. Все больше уродкой да обузой, а мать в минуту добрую – бедняжкой. А барышня смеется:
– Красивая?
Отмерла Настасья. Слова так и полились:
– Ой, красивая, краше не бывает! И волосики красивые, и личико, и шапочка!
– Да шляпка это, – смеется барышня. А потом снимает с шейки, белой, как молоко, платок и Настасье протягивает: – Возьми! Носи на здоровье!
Дом Настасья платок тот в красный угол повесила. Ей его все равно не носить. Сарафан у ней луковичной шелухой крашеный, рубашка заплатана, да и куда уродке косой такую красоту? На башку рыжую? А иконы убрать – в самый раз. Крестится Настасья, молится, а сама барышню вспоминает. И светло ей, и радостно, и больно отчего-то. Экие у нее ручки да шейка белые, думает Настасья. А ножки-то, чай, сахарные! А глянуть бы, какие у ней сиськи? И на этой мысли кровь так и бросилась Настасье в щеки, и горячо стало в груди, и внизу живота, и даже коленки подкосились.
Счастье ведь бывает, думает еще Настасья. Вот барышня сама не одевается: ее девки дворовые одевают. Отчего не помечтать, что и я такой девкой буду? Понятно, что кто меня возьмет такую… Моя доля – за скотиной ходить да навоз выносить.
Барин же за хозяйство круто взялся. Мужики по селу шептались: вышел в отставку. Что такое отставка, Настасья так и не выспросила, и что такое опала – тоже. Уразумела только, что он царицу-матушку прогневал, и велела она ему в родовое гнездо убираться. С глаз долой, значит. Вот он и убрался: немца-управляющего погнал, потому что, бают, разворовал дюже много. Сам стал все проверять, оброки назначать. Правда, особой лютости за ним никто и не заметил – и на том слава Богу.
А вот сын его, барчук Димитрий, быстро всем поперек горла стал. Пристрастился он крестьянских девок портить. Бывало, выберет девку покрасивше – и велит ей в бане ему прислуживать. Быстро по деревне слухи пошли один другого гаже, что они там в той бане делают… Иная девка и рада. Что барчук красавчик, а что подарки дорогие дарит: ленты, да шелка, да бусы. А иной хоть в петлю лезь. Отроду такого не было – начали девки Настасье завидовать. Подружка ее, Марья белобрысая, так и сказала:
– Я тебя, Настена, все жалела, что хромая ты, жениха не найдешь. А теперь думаю: лучше б я такой хромой да косой уродилась! Знала б ты, чего мне тот барчук окаянный приказывал! А попробуй откажись… Я ему и в ноги падала, и плакала. А он мне: ты, скотина, радуйся, что на тебя бла-ародный позарился!
– Крепостные мы, – вздыхает Настасья, как батюшка ее вздыхал. – Нам на бла-ародных управы нету, и слова поперек молвить не моги…
Обнимает она Марью, и плачут вдвоем.
Вот кабы барышня мне такое приказала, думает Настасья. Уж я бы не плакала… А может, и плакала бы. Оно не знаешь, что хуже: когда вовсе не замечает, или когда этак за скотину держит.
В селе в конце лета работы полно. А хромоножке так еще и труднее, чем прочим: там, где другая побежит, Настасья едва ковыляет. Оттого они с Марьей и не виделись недели две, даже в церкви в воскресный день не встретились. Оттого Настасья и позже всех узнала, что Марью уж давно не видел никто. Опечалилась Настасья, а сама думает: сбежала Марья. Не стерпела барчуковых окаянств. Жалко ей: и подружки любимой рядом нет, и Бог весть, как у Марьи дальше-то сложится…
И как-то ввечеру за Настасьей человек пришел. Из дворни.
– Иди, – бает. – Барышня Лизавета Петровна тебя лицезреть желает. Да платье чистое надень!
Платья у Настасьи не так чтобы много. В бедности они живут. Из скотины только худая коровенка да коз двое. Земли досталось немного, и вся неплодородная. Зато матушка плодородная: братишек да сестренок у Настасьи аж шестеро, и было бы поболе, кабы трое не померло, а еще одну сестренку матушка с батюшкой подкинули, кому – не говорят. И тот чистый сарафан, что Настасья из сундука достала, заплатанный – а тот, что на ней, так и еще хуже… Даже мысль мелькнула из девичьего сундука что-то взять. Матушка за такое, конечно, всыплет по первое число – а как перед барышней в скудном предстать? Перекрестилась Настасья да надела залатанный сарафан, авось добрая барышня не осерчает…
Пока шла – все думала, как же вести себя так, чтобы почтительно и барскому чину сообразно. Чтобы барышню не рассердить и уж слишком нелепо не держать себя – а как правильно, не знает ведь. Ан все проще простого оказалось. Как только ввели Настасью в комнатку для дворни, другие слуги ее тотчас к барышне проводили. А она сидит, книжку читает.
– Ой, – говорит, – вот и моя новая камеристка пришла! Как тебя зовут, милая?
– Настасьей кличут, – говорит Настасья, – матушка Лизавета Петровна, – и кланяется неловко.
– Да какая я тебе матушка? – хохочет барышня. – Лизанька я! Платочек носишь ли?
– Нет, мат… то есть барышня, я им иконы в красном углу убрала…
Уж чего бы смешного, а барышня все заливается.
– Ну, поди ко мне, Настасья, будем чай пить!
Думала Настасья – не справится. Да Лизанька не строгая. То велит книжку подать – а что Настасья неграмотная, так говорит, какого цвета обложка. То велит нижнее платье постирать, или чаю налить, или туфельки зашнуровать, словом, пустяки сущие. Вот с утюжком Настасье сложнёхонько пришлось. До того у ней какой утюг был? Качалка. Про чугунные утюги, которые на печке греются, Настасья только слышала. А теперь науку обращенья с ними постигать в один день пришлось. И то Настасье все боязно было, что шелковы ленты да рукава кружевны у Лизаньки попортит.
Веселая Лизанька. Все хиханьки да хаханьки, да с дворней пошутить, да печенья детворе сельской раздать, и кошечку погладить – кошечка у ней особая, с бантиком на шейке, и собачку приласкать – и собачка тоже особая, не для охраны или охоты, а для забавы, «болонка» называется, и папеньку – это она так батюшку называет – в щечку чмок. Братец, тот сам ее в щечку чмокает, прежде чем по девкам пойти.
Эх, думает Настасья, жаль, Марья от этого братца сбежала. Сестрица-то совсем не в него. Вот бы рассказать Марье-то, каково оно – камеристкой быть!
А тем временем наловчилась Настасья с платьем Лизанькиным управляться. Вот утром Лизанька встает – с нее рубашку снять надо. Рубахи той – одни кружева, а ткани совсем чуть, и та как воздух. И тело у Лизаньки как воздух, белое да шелковое, ровно туман озерный. Погладить бы, по коже нежной ладонью провести, а потом – губами, да ведь боязно: ну как с поцелуя оно синяк останется? На такой-то коже… И грудь у Лизаньки, что кувшинка летняя: глядел бы – не оторвался, сорвал бы – да ведь увянет сразу. И ножки у Лизаньки белее да чище сахара. Боится Настасья к ней даже прикоснуться: свои-то ручищи больно грубы.
И пахнет от Лизаньки чем-то сладким, свежим, нежным… Лизанька говорит – пачули.
– Пачули-пачкули, – вздыхает Настасья, а Лизанька ну хохотать!
Подает ей Настасья панталоны. Вот уж где нежность так нежность – шелка да кружева, как раз чтобы к самым чувствительным местам касаться! И отчего я не панталоны, вздыхает про себя Настасья. Уж добралась бы до попки Лизанькиной и туда, где у ней золотые волоски кудрявятся – уж и ласкала бы, и гладила, уж радовала бы ее, смешливую! Как ласкать, Настасья немного знает: в бане себя трогала – пробовала. И все равно думать про это ей страшно. А ну как барышня по-другому устроена?
Только и осмеливается Настасья, что туфельку барышне поцеловать перед тем, как надеть ее, атласную, на чудо-ножку.
– Какие у тебя почтительные камеристки, сестрица, – раздается над головой насмешливый голос. Это барчук, Митрий Петрович, явился.
– Митенька! Я же не одета! – восклицает Лизанька. – Изволь стучаться, mon frère!
И чудится в ее чистом голоске-колокольчике что-то неласковое. Ни с кем другим Лизанька так не разговаривает. И глазки ее, цветы луговые – Настасья взгляд поднять решилась – ни на кого так холодно не глядят. Только на брата родного.
– Отчего же мне к родной сестре стучаться, голубушка моя?
И у Митрия Петровича взгляд не теплый, не братский. Слова ласковы, а в голосе не то сталь, не то яд.
– Выдь, mon frère, я закончу туалет и сойду в залу, – важно говорит Лизанька. – Выдь, сделай милость! – и по-ненашему ему: – Мonsieur, s'il vous plaît avoir du respect!
«Сюр-сюр-сюр» – слышится Настасье. Ровно сверчок какой. Да Лизанька уже всерьез серчает!
– Одолжи мне твою верную служанку, ma soeur, – говорит Митрий Петрович.
Сюр-сюр, зло думает Настасья.
– Найди лучше ту, что потерялась, – отбривает Лизанька.
Настасья надевает на ее ножку вторую туфельку. Ей уже не нужно смотреть Лизаньке в лицо, чтобы понять: она не просто сердится. Не любит она брата, осуждает его за распутство и шашни с крепостными девками, и за то, что Марью обидел, тоже гневается. Стыдно ей за брата бесстыжего.
Ан снова шум какой-то, крик, плач…
– Настенька, – говорит Лизанька. – Вели мальчугану из дворовых сбегать да разузнать, что за афронт там случился. Никак, беда какая?
Настасья сама сбежала. Переваливалась по лестнице утицей, ковыляла по двору неуклюже, наконец, увидела знакомого парня из дворни и кричит ему:
– Егор! Егорушка! Что там за крик?
– Марью нашли, – говорит Егор.
– Да ну? Как нашли? Где? Как она?
Уж подумалось Настасье пойти к Лизаньке – просить за Марью. Но Егор отвечает:
– Сгнила уж наполовину. В бочаге подле баньки, где мосток.
– Как… как сгнила? Как в бочаге? Утопла, что ли?
Спрашивает Настасья, а в душе все захолонуло. И горько так на сердце. Видать, напоил ее проклятый охальник, что утонула после стыдных забав в баньке-то…
– Не, не утопла. Сама, видать, утопилась, от барчука бегаючи…
Завыла тут Настасья. Жалко ей Марью так, что слов нет. Уж и славной она была, уж и доброй, да и дружили они, почитай, с колыбели.
Пригорюнилась Лизанька.
– Я, – бает, – семье несчастной девушки велю пенсион выплатить… Батюшка позволит. Я батюшке на Митеньку пожалуюсь, куда это годится!
Тогда-то впервые на памяти Настасьи Лизанька с отцом поссорилась. Кричали они друг на друга знатно – так, что не только из-за запертой двери баринова кабинета было слышно, а и стекла тряслись. Настасья почти ничего не уразумела, потому что кричали не по-русски, слышала лишь, как ревет их «сюр-сюр-сюр»: не как ручеек, а как река, по весне вздувшаяся. Вышла Лизанька от отца со слезами. А после того отец вызвал барчука. С ним «сюр-сюр-сюр» куда грознее вышло. И стуки раздавались – видать, вразумлял сына. Да что с того вразумления: Марью-то уж не вернешь…
А тут еще беда: священник Марью отпевать отказался. Говорит, самоубийство грех большой. Так и зарыли бедную за оградой кладбища.
Плакала долго Настасья. Да время идет, и сердце как ни болит – отболит. Вот и успокоилась она. А осень уже густая, пасмурная, и ворон-тоскунья кричит – прочих птиц в ирей провожает, и дожди проселок размыли… вроде ничего в жизни не меняется, кроме как холодает. Теперь уж надевать на Лизаньку больше всего надо: и капот, и чулочки, а там скоро и варежки потребуются. То-то сладко будет варежки на ее нежны ручки надевать да мечтать, чтобы Лизанька ими Настасью хоть разок погладила…
А память никуда не девается. И спрашивает как-то Лизанька Настасью:
– А скажи-ка, Настенька, мой frère к тебе, ну… ничего не говорил?
– Да кому я нужна, барышня, – рассмеялась Настасья. Невесело рассмеялась. – Косая, да рыжая, да хромая… Так бобылкой жизнь и проживу. Вы ведь оттого меня в камеристки и позвали, чтобы Митрий Петрович со мной как с Марьей не обошелся?
– Ну не скажи, – улыбнулась Лизанька. – Ты очень премиленькая, когда улыбаешься. А frère… держись от него как можно дальше, слышишь? Строго тебе велю!
– Слушаюсь, – улыбнулась и Настасья.
Суббота это была. До того дня мыться Лизаньке кормилица помогала. А тут Лизанька ее отпустила зачем-то. И велит Настасье:
– Помоги-ка мне, Настенька…
В баню – ту, что Митрий Петрович для гнусных забав приспособил – она не ходила, а велела поставить лохань и всякие мыльные принадлежности в небольшую горенку. Вот Настасья за ней в ту горенку и поднялась. Чистое исподнее несла, губку – штуку такую, чтобы ей мыться, мыло душистое. А за ними еще и Егор – ведра нес. Сперва с горячей водой, потом еще раз сходил, принес с холодной. Налила Настасья воды в лохань, пробует – вроде теплая, да не горячая, барышне подойдет…
Распустила Лизанька в той воде душистый шарик. Это, говорит, соль ароматическая. И верно, запах сладкий по всей горенке пошел. А Настасье велела губку мылом натереть и мыть себя.
Дрожит Настасья. Счастью своему не верит. Провела губкой по телу нежному, желанному – раз, другой… А Лизанька уж разнежилась, ножки развела, только вздохи срываются с губок приоткрытых. Стала Настасья с ней рядом на колени, моет – вроде как чтоб почище, а сама-то, дерзкая, руку с губкой между ног положила.
И губку-то и выпустила.
Все у барышни как у самой Настасьи, только краше да нежнее. И кожа тонкая складочками, и наверху бутончик. Трогает его Настасья, гладит, потом осмелела – и давай пальцами его перебирать да кругами водить…
– О, ma chérie! – выдохнула Лизанька, мокрыми руками Настасью за шею обхватила да как прижмется устами к устам! И дыхание смешалось с дыханием, и сердце заколотилось, в перед глазами все туманом пошло – счастье-то какое… И вдруг обмякла Лизанька у Настасьи в руках. Полежала, дух перевела. А потом и говорит:
– Раздевайся, Настенька, надо, чтобы и ты была чистенькой!
Уж тут Настасья поняла: не наяву это. Во сне. Да в таком, что как, проснувшись, Лизаньке в глаза смотреть… А Лизанька тоже губкой ее трет, и ручками белыми гладит, и снова в губы целует…
Потом, когда обе вытерлись и чистое надели, Лизанька и говорит:
– Давай, Настенька, в Санкт-Питербурх уедем. У папа там осталась квартира – особняк на Невской прешпективе. Он уж не при дворе, да ведь я-то не в опале. Будем там жить-поживать!
– А батюшка-то вам, барышня, позволит?
– А нынче же спрошу!
И вдруг крик послышался. Бежит Егор, глаза ополоумевшие:
– Марья! Марья вернулась!
– Опомнись, друг мой, – Лизанька ему, – как она могла вернуться? Ведь ее давно похоронили!
– Видали ее! У бочага стоит, в бочаг смотрит, смеется!
Не успели Настасья с Лизанькой удивиться и решить, что Егору, видно, кто-то наболтал, а тому с пьяных глаз померещилось, – снова крики!
– Марья у бочага! Велела сказать, что за Митрием Петровичем придет!
Что за чертовщина? Подумалось Настасье, что то кто-то из Марьиной родни затеял.
Село гудит, все напуганы. А Митрию Петровичу и горя мало. Он, вишь ты, в баньку опять собрался. Никак, на новую девку глаз положил.
– Не ходил бы ты, mon frère, – говорит ему Лизанька. Да и отец не велел. Да когда барчук советов слушал?
Вышла ввечеру Настасья, чтобы дворню расспросить да новостей для Лизаньки собрать – ан Митрий Петрович тащится.
– О, камеристка моей сюр-сюр-сюр, – улыбается.
Страшная у него улыбка. Нехорошая, злая. Отступила от него Настасья.
– А что, – говорит Митрий Петрович будто самому себе, – такая laide – это даже пикантно!
Как он ее обозвал, Настасья не поняла. Поняла только, что бежать надо что есть сил. Да с хромой-то ногой далеко ли убежишь? И нескольких шагов не сделала – поймал ее барчук за руку.
– Мa douce, – шепчет, – будешь милой, так я тебя щедро одарю. А нет – там же, где та blonde, окажешься!
– Сам ты дус окаянный, – говорит Настасья, и тут как обухом ее ударило.
«Блонд» – это ж по-ихнему, по-сюрсюрсюрному, и есть белобрысая. Марья белобрысая! Так, значит, не сама она утопилась – проклятый распутник ее утопил?
Настасья не только хромая, но и телом хилая да мелкая, а Митрий Петрович – косая сажень в плечах. Взял ее под мышку – и тащит, и тащит к баньке-то. От страха у Настасьи даже дух занялся. И позвать бы Лизаньку – так ведь у барчука-душегуба уже одно убийство было, ну как сестре что-то сделает? А просить-молить бесполезно: попробовала Настасья, так он ей ручищей рот заткнул…
Слышит – бежит кто-то, запыхавшись. И запах сладкий.
– А ну-ка, пусти ее! Пусти немедленно! Это моя камеристка! – кричит Лизанька. Подбежала к брату и бьет его в спину кулачками: – Пусти, пусти! Не смей! Пусти, папа скажу!
– Отстань, дура, – огрызнулся. Да Лизанька вцепилась в его камзол и не отпускает.
Видит Настасья: на Лизаньке только тонкая одежа – роброн шелковый. А осень-то уже глубокая, по утрам на лужах ледок. Если пробудет Лизанька на улице еще немного – этак и насмерть простудиться недолго. Стала Настасья вырываться и ногами лягаться. А барчук-то ей по голове как даст!
Вот как он Марью-то утопил, поняла Настасья. Оглушил – и в бочаг…
И вдруг водой речной пахнуло: подтащил Митрий Петрович девушек к мостку. И холодом повеяло. Да так, что даже Лизанька умолкла.
Повернулась Настасья, видит: стоит Марья. Спокойная такая, в одной мокрой рубашке, и вроде даже не мерзнет, даром что холодина. Оно и верно: мертвые не мерзнут. Стоит и улыбается.
– Я же, – бает, – обещала, что приду. Пусти-ка мою подруженьку.
Швырнул Митрий Петрович Настасью на землю. Лизанька к ней подбежала, Настасья сразу с себя шаль и ну Лизаньку укутывать… и глаза ей руками закрыла. Ничего она не понимала. Поняла одно: лучше не смотреть, что будет.
А все равно обернулась и видит: протянула Марья руки к Митрию Петровичу. Обняла его. Тот отталкивает ее, пытается «Отче наш» бубнить, да не поможет Бог тому, кто в Него никогда не верит! И задыхается в ее объятиях… Впивается Марья в бритое горло – и давай сосать. С причмоком таким, с жадностью, отдуваясь; пососет-пососет, дух переведет – и опять. Из горла прокушенного кровища хлещет, да яркая такая, течет-просачивается сквозь доски мостков, уж и вода в бочаге красной стала… Наконец, насытилась Марья. У Настасьи даже рука занемела – глаза Лизаньке закрывать. Оказалось, то лишь начало было. Оторвалась Марья от барчука да как свистнет!
И полезли из бочага мелкие, в тине, – не поймешь, то ли дети, то ли вообще нелюди какие, лысые, в водорослях, в рванине… Волоса зеленые, зубы торчат. Острые пальчики в тело впились, разрывают и камзол, и кожу, и мяса куски с костей сдирают.
Подхватила Настасья Лизаньку и шепчет: «Бегом, барышня, бегом!» А Марья тут повернулась к ним спиной – нет у ней спины. Ребра торчат, красное что-то между ребер, и мешок какой-то: сердце Марьино…
Дернула Настасья Лизаньку за руку – как припустили обе!
Месяц после того Лизанька проболела. Настасья при ней неотлучно находилась. Про Митрия Петровича объявили, что он в бане пьяный напился, оттого и утоп.
Барин побелел весь. Сгорбился. Глаза от слез красные. Оно и понятно – единственного сына потерять…
Выдали родителям Настасьи пенсион, и по первому снегу снарядили обоз в Санкт-Питербурх. А уж там они с Лизанькой первым делом в самом соборе заказали службы на помин души рабы Божьей Марии. Чтобы целый год ее с амвона поминали.
Потому как мавка бесспинная, ежели ее не отпеть, первым делом со своим убийцей расправится, а потом придет за теми, кого при жизни любила. За матерью. За отцом. За братьями. За подругой…
Одно только страшно: не поздно ли спохватились?

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Каменный лес
Каменный лес
джен, G
написано для команды Хоррора
Ай, беда, беда! Говорят, кладбище на этом месте стояло, да сровняли его с землей и на том месте дом построили…
Ай, беда! Говорят, когда дом закончен уж был, хозяин с плотниками сильно расплевался. Затребовали они с него больше, чем вначале договаривались, и было ведь за что. Котлован под избу рыли — череп человечий выкопали, дуб старый, засохший рядом срубили — в дупле черт-те что нашлось, какие-то иглы, да тряпки, да рука сушеная…
Беда!
А новым хозяевам, Петровым-москвичам, и горя мало. Не знают они ничего ни о кладбище прадедовском, ни о ссорах дедовых. По наследству им дом достался, вот они его и обживают. Баба их, Дарья Петрова, — как есть москвичка: ноги белые, глаза светлые, волосы хоть с виду и рыжие, да корни не спрячешь: мышиные отрастают. А сам Сергей Петров больше на местных, деревенских похож: степенный, осанистый, чернобровый, волосы темно-русые. Откуда у них сынок такой беленький — Бог весть.
скрытый текст— Ну, Дашутка, давай решим, где спальню устроим, а где детскую, — говорит Сергей. Жене-то его лучше знать, где что поставить: все у нее в руках так и спорится. На огороде и в саду она — что пыльным мешком хлопнутая, грушу от яблони с трудом отличает, сразу видать: горожанка. Дитя асфальта! А в доме — куда там, всем хозяйкам хозяйка. Огонь-баба!
— Петюша, — зовет Дарья сына, — хочешь на втором этаже разместиться? Тут комнатка в мансарде. Зимой в ней, наверное, холодно, а летом в самый раз. Так, где тут розетка, фумигатор сразу поставим…
Чисто выметена изба, тесовые полы вымыты, ковры «под старину», резной буфет, антикварные часы с кукушкой — все расставлено, расстелено, развешано. Дарья уж и горшки с заморскими цветами выносит: любит, когда красиво…
— Мама, а тут лампа керосиновая, — вдруг подает голос Петя. Голосишко у него тоненькой, робкой, даже дрожит отчего-то. — Давай запалим.
— Зажжем, сынок, — поправляет Дарья. — Вечером и зажжем. Смотри, сам не зажигай, а то пожару наделаешь!
Петя устраивается на кушетке с книжкой и планшетом в руках и вдруг зовет:
— Мама! Мама, тут глаза!
Родители прибегают в комнату, осматривают ее.
— Показалось, — резюмирует Петров-старший. — Какие, на фиг, глаза, сына?
— Мышка, наверное, — Дарья хмурится. — Хорошо, если не крыса… Кота бы завести, что ли?
Что Петька-малой такой пугливый — это и к лучшему, а вот котейка — это блажь, это скверно. Как бы их так припугнуть, чтобы выбросили это из головы, думают в темном углу. Петя испуганно косится в угол — раз, другой… Но та, что затаилась в тени, больше себя не выдаст.
А ночью Петя стонет и мечется по постели. Ему чудится странное: бесконечный лес, заснеженная земля, но стволы деревьев — голые и пустые. Мертвые — и никогда не бывшие живыми. Будто стеклянные или каменные. Из тени помаргивают недобрые глаза, где-то вдали слышится тоскливый крик, и мальчик бежит, бежит, бежит… и просыпается, чтобы снова провалиться в тяжелый и жуткий сон.
— Фу, — говорит утром Дарья, — ну и дрянь же мне снилась! И живот от этой колодезной воды болит. Сереж, достань-ка бутилированную…
— Куда ночь, туда и сон, — бодро отвечает Сергей. Преувеличенно бодро, и в углу комнатки наверху раскатывается злорадный смешок. «Я вас, дурней, отучу горницу мансардой называть!», — слышится в этом смешке.
Страшно Петровым. Все у них не ладится. Печка прямо в лицо Дарье пыхнула, Сергею на голову сухая ветка упала — как только не зашибла. Петька на дерево полез — упал, весь ободрался…
И только в темном углу весело.
Три дня прошло — стали ссориться Петровы.
— У тебя руки-крюки, что ты за мужик, ничего делать не умеешь, — кричит Дарья.
— Хватит мне мозг выносить, истеричка, у самой руки из задницы, — огрызается Сергей.
— Куда пошел?! — орут оба на сына, а тот тоненько, тихо ноет: «Опя-а-ать запрещаете… Опять мне ничего нельзя… Плохие, плохие родители! Родители-вредители!»
И смешок из угла — все громче и громче.
И снова по ночам бежит Петька через мертвый лес. Постукивают ветвями каменные деревья, и темные тени мечутся между огромными стволами, и мерзлый снег поскрипывает под босыми ногами. Мерзнет Петька. Не верят ему родители: как можно замерзнуть, если на улице под тридцать градусов? А Петьку морозит, ножки его синеют от холода…
— Мама, — кричит он.
— Ну что еще? Какой-то ты нервный стал, сына, — Сергей появляется в дверях комнаты. Живот его обвис, сам он ссутулился, лицо осунулось — не впрок ему деревенский воздух!
— Я маму звал, — обиженно пищит Петька. — Тут кукла.
— Какая еще кукла, сына? — мощный галогенный фонарь вспыхивает, луч его обшаривает углы. — Нет тут никаких кукол.
— Я видел. Маленькая, тоненькая, как Барби у Светки, только страшная. На обезьянку похожа. Старая, платьичко порватое…
— Порванное, — поправляет мама и обнимает сына. — Надо что-то делать с ребенком, — бормочет она в сторону. — Нервы у него не в порядке…
— Она в углу живет. Ну мама! Это она все время смотрит, смотрит и хихикает…
— Перестань, — обрывает его Сергей.
На следующий день Дарья приносит кота. Ваську, как водится. Выпросила у соседей: большой, серый-полосатый, глазищи зеленые, усы так и шевелятся. Суровый зверь! Прошелся по всем комнатам, пошипел там, здесь… Вот и в Петькину зашел.
— Ма-а-у! — как взвоет! Как кинется!
— И-и-и! — запищало в углу. Взрослые-то смотрят, да не видят, на что кот кинулся, — Дарья все норовит мышку разглядеть, Сергей — насекомое, и только Петьке видно, что кот поймал его живую злую куколку и ну трепать!
— Давай, — тоненько подзуживает, — давай, Васенька! Всыпь ей!
— Петь, а Петь, — зовут внизу. Это соседский Сашка, хозяин кота Васьки, пришел. Крепкий, румяный мальчишка на пару лет старше Петьки, веселый и резвый. Рядом с Петькой, бледной немочью, — настоящий маленький богатырь.
Петька сбегает вниз и, захлебываясь, рассказывает: «А котик куклу поймал! Злую! Кусает!» Сашка снисходительно посмеивается и что-то всовывает в Петькину ручонку.
— Это куриный бог, — объясняет. — Ты его повесь над кроватью-то…
Сашкины бабка и дед потом, попозже, приходят проведать Ваську и уговаривают Дарью позвать попа — дом окропить… Да только в углу уже не шевелятся. Больно той, что в углу, — хорошо ее кот потрепал, и страшно: а ну как опять Васька-подлец вцепится? И то, что над кроватью Петькиной висит, страшное. Боится его жительница угла.
А Петька ложится, обнимая увесистое Васькино тельце. Васька урчит, рокочет, утробно тарахтит: нравится ему с Петькой спать. И приходит Петьке сон: тот же лес, те же мертвые деревья. Снег под ногами лежалый. Только теперь ногам не холодно, и Петьке не страшно. И вдруг деревья расступаются, и открывается поляна, а на ней — живое дерево. Осенние листья так и пылают, на ветвях висят конфеты и подарки, камни самоцветные заместо плодов так и горят…
Сладко спит Петька, улыбается.
С утра кто-то по кухне топает: мокрыми крохотными лапками наследил, чашку разбил, молоко разлил. А уже никому в доме не страшно, и ссориться не хочется, будто туман серый развеялся. Сергей за готовку взялся — завтрак стряпает. Дарья тем временем в лесок сбегала, можжевельника набрала, по стенам развесила. Любо ей, когда красиво в доме!
А Петька все рыщет по углам.
— Хочу ту куколку найти, — объясняет.
Васька спину выгибает, шипит, — и существо, едва высунувшееся из угла, опять уходит в тень, прямо в стену.
— Да не куколка я, — канючит из стены обиженно. — Кикимора я, дурья башка! У-у тебе… Вот дождусь, когда твои обереги потеряются аль силу потеряют, — погоди тогда! У-у…
— Ма-а-ау! — отвечает Васька, и вторит ему заливистый Петькин смех.
джен, G
написано для команды Хоррора
Ай, беда, беда! Говорят, кладбище на этом месте стояло, да сровняли его с землей и на том месте дом построили…
Ай, беда! Говорят, когда дом закончен уж был, хозяин с плотниками сильно расплевался. Затребовали они с него больше, чем вначале договаривались, и было ведь за что. Котлован под избу рыли — череп человечий выкопали, дуб старый, засохший рядом срубили — в дупле черт-те что нашлось, какие-то иглы, да тряпки, да рука сушеная…
Беда!
А новым хозяевам, Петровым-москвичам, и горя мало. Не знают они ничего ни о кладбище прадедовском, ни о ссорах дедовых. По наследству им дом достался, вот они его и обживают. Баба их, Дарья Петрова, — как есть москвичка: ноги белые, глаза светлые, волосы хоть с виду и рыжие, да корни не спрячешь: мышиные отрастают. А сам Сергей Петров больше на местных, деревенских похож: степенный, осанистый, чернобровый, волосы темно-русые. Откуда у них сынок такой беленький — Бог весть.
скрытый текст— Ну, Дашутка, давай решим, где спальню устроим, а где детскую, — говорит Сергей. Жене-то его лучше знать, где что поставить: все у нее в руках так и спорится. На огороде и в саду она — что пыльным мешком хлопнутая, грушу от яблони с трудом отличает, сразу видать: горожанка. Дитя асфальта! А в доме — куда там, всем хозяйкам хозяйка. Огонь-баба!
— Петюша, — зовет Дарья сына, — хочешь на втором этаже разместиться? Тут комнатка в мансарде. Зимой в ней, наверное, холодно, а летом в самый раз. Так, где тут розетка, фумигатор сразу поставим…
Чисто выметена изба, тесовые полы вымыты, ковры «под старину», резной буфет, антикварные часы с кукушкой — все расставлено, расстелено, развешано. Дарья уж и горшки с заморскими цветами выносит: любит, когда красиво…
— Мама, а тут лампа керосиновая, — вдруг подает голос Петя. Голосишко у него тоненькой, робкой, даже дрожит отчего-то. — Давай запалим.
— Зажжем, сынок, — поправляет Дарья. — Вечером и зажжем. Смотри, сам не зажигай, а то пожару наделаешь!
Петя устраивается на кушетке с книжкой и планшетом в руках и вдруг зовет:
— Мама! Мама, тут глаза!
Родители прибегают в комнату, осматривают ее.
— Показалось, — резюмирует Петров-старший. — Какие, на фиг, глаза, сына?
— Мышка, наверное, — Дарья хмурится. — Хорошо, если не крыса… Кота бы завести, что ли?
Что Петька-малой такой пугливый — это и к лучшему, а вот котейка — это блажь, это скверно. Как бы их так припугнуть, чтобы выбросили это из головы, думают в темном углу. Петя испуганно косится в угол — раз, другой… Но та, что затаилась в тени, больше себя не выдаст.
А ночью Петя стонет и мечется по постели. Ему чудится странное: бесконечный лес, заснеженная земля, но стволы деревьев — голые и пустые. Мертвые — и никогда не бывшие живыми. Будто стеклянные или каменные. Из тени помаргивают недобрые глаза, где-то вдали слышится тоскливый крик, и мальчик бежит, бежит, бежит… и просыпается, чтобы снова провалиться в тяжелый и жуткий сон.
— Фу, — говорит утром Дарья, — ну и дрянь же мне снилась! И живот от этой колодезной воды болит. Сереж, достань-ка бутилированную…
— Куда ночь, туда и сон, — бодро отвечает Сергей. Преувеличенно бодро, и в углу комнатки наверху раскатывается злорадный смешок. «Я вас, дурней, отучу горницу мансардой называть!», — слышится в этом смешке.
Страшно Петровым. Все у них не ладится. Печка прямо в лицо Дарье пыхнула, Сергею на голову сухая ветка упала — как только не зашибла. Петька на дерево полез — упал, весь ободрался…
И только в темном углу весело.
Три дня прошло — стали ссориться Петровы.
— У тебя руки-крюки, что ты за мужик, ничего делать не умеешь, — кричит Дарья.
— Хватит мне мозг выносить, истеричка, у самой руки из задницы, — огрызается Сергей.
— Куда пошел?! — орут оба на сына, а тот тоненько, тихо ноет: «Опя-а-ать запрещаете… Опять мне ничего нельзя… Плохие, плохие родители! Родители-вредители!»
И смешок из угла — все громче и громче.
И снова по ночам бежит Петька через мертвый лес. Постукивают ветвями каменные деревья, и темные тени мечутся между огромными стволами, и мерзлый снег поскрипывает под босыми ногами. Мерзнет Петька. Не верят ему родители: как можно замерзнуть, если на улице под тридцать градусов? А Петьку морозит, ножки его синеют от холода…
— Мама, — кричит он.
— Ну что еще? Какой-то ты нервный стал, сына, — Сергей появляется в дверях комнаты. Живот его обвис, сам он ссутулился, лицо осунулось — не впрок ему деревенский воздух!
— Я маму звал, — обиженно пищит Петька. — Тут кукла.
— Какая еще кукла, сына? — мощный галогенный фонарь вспыхивает, луч его обшаривает углы. — Нет тут никаких кукол.
— Я видел. Маленькая, тоненькая, как Барби у Светки, только страшная. На обезьянку похожа. Старая, платьичко порватое…
— Порванное, — поправляет мама и обнимает сына. — Надо что-то делать с ребенком, — бормочет она в сторону. — Нервы у него не в порядке…
— Она в углу живет. Ну мама! Это она все время смотрит, смотрит и хихикает…
— Перестань, — обрывает его Сергей.
На следующий день Дарья приносит кота. Ваську, как водится. Выпросила у соседей: большой, серый-полосатый, глазищи зеленые, усы так и шевелятся. Суровый зверь! Прошелся по всем комнатам, пошипел там, здесь… Вот и в Петькину зашел.
— Ма-а-у! — как взвоет! Как кинется!
— И-и-и! — запищало в углу. Взрослые-то смотрят, да не видят, на что кот кинулся, — Дарья все норовит мышку разглядеть, Сергей — насекомое, и только Петьке видно, что кот поймал его живую злую куколку и ну трепать!
— Давай, — тоненько подзуживает, — давай, Васенька! Всыпь ей!
— Петь, а Петь, — зовут внизу. Это соседский Сашка, хозяин кота Васьки, пришел. Крепкий, румяный мальчишка на пару лет старше Петьки, веселый и резвый. Рядом с Петькой, бледной немочью, — настоящий маленький богатырь.
Петька сбегает вниз и, захлебываясь, рассказывает: «А котик куклу поймал! Злую! Кусает!» Сашка снисходительно посмеивается и что-то всовывает в Петькину ручонку.
— Это куриный бог, — объясняет. — Ты его повесь над кроватью-то…
Сашкины бабка и дед потом, попозже, приходят проведать Ваську и уговаривают Дарью позвать попа — дом окропить… Да только в углу уже не шевелятся. Больно той, что в углу, — хорошо ее кот потрепал, и страшно: а ну как опять Васька-подлец вцепится? И то, что над кроватью Петькиной висит, страшное. Боится его жительница угла.
А Петька ложится, обнимая увесистое Васькино тельце. Васька урчит, рокочет, утробно тарахтит: нравится ему с Петькой спать. И приходит Петьке сон: тот же лес, те же мертвые деревья. Снег под ногами лежалый. Только теперь ногам не холодно, и Петьке не страшно. И вдруг деревья расступаются, и открывается поляна, а на ней — живое дерево. Осенние листья так и пылают, на ветвях висят конфеты и подарки, камни самоцветные заместо плодов так и горят…
Сладко спит Петька, улыбается.
С утра кто-то по кухне топает: мокрыми крохотными лапками наследил, чашку разбил, молоко разлил. А уже никому в доме не страшно, и ссориться не хочется, будто туман серый развеялся. Сергей за готовку взялся — завтрак стряпает. Дарья тем временем в лесок сбегала, можжевельника набрала, по стенам развесила. Любо ей, когда красиво в доме!
А Петька все рыщет по углам.
— Хочу ту куколку найти, — объясняет.
Васька спину выгибает, шипит, — и существо, едва высунувшееся из угла, опять уходит в тень, прямо в стену.
— Да не куколка я, — канючит из стены обиженно. — Кикимора я, дурья башка! У-у тебе… Вот дождусь, когда твои обереги потеряются аль силу потеряют, — погоди тогда! У-у…
— Ма-а-ау! — отвечает Васька, и вторит ему заливистый Петькин смех.

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Упырятины в ленту
Володечка
писано для команды Хоррора
Р, джен
писано для команды Хоррора
Р, джен
…Ну что ты, Петровна, все хвалишься да хвалишься своими внуками: и то они тебе из города привезли, и с тем помогли? Ишь, велика важность — раз в полгода подкатили с подарками да мужиков наняли крышу починить! Кабы они кажду неделю, как у Квасовых, приезжали… Думаешь, младшие Квасовы-то ездят, потому что дом-то у них самый богатый в деревне?
А вот я знаю про них такое, чего тебе и во сне не приснится, Петровна. Сядь да послушай, откуда у них богатство-то такое, и какие такие грехи их внуки замаливают. Ты-то не из нашенских, из зареченских, тебе этого знать и не положено. Кабы ты не хвасталась, я бы и промолчала, так нет же!
скрытый текстМоя бабка еще застала время, когда у Квасовых этих вместо огроменной избы стояла гнилая развалюха да курочек с десяток. Самая нищая семья была во всей округе! Тогда как раз война только закончилась. Другие бабы по всей нашей деревне выли — к кому две похоронки пришло заместо мужа да сына, к кому три, а Паша Квасова помалкивала да молилась втихаря, чтобы о ней поменьше вспоминали. Муж у ней в полицаи было подался, так его партизаны прибили. Сын, чтобы на фронт не идти, в подвале спрятался. Три месяца этак она его прятала, а после мертвым нашла. Темная история, никто и не знает, что тогда случилось, — то ли простыл он от подвальной сырости, то ли сам удавился, ну да бог ему судья. Сноха еще в начале войны померла. А про дочку ее разное болтают. То ли она с фрицем спуталась, то ли ее снасильничали, то ли свои же… ей тогда и пятнадцати не было, а вот поди ж ты.
Ну вот и остались они после войны втроем — Паша, внук ее от сына и дочка. Дочку почти и не видать было, все в избе да в избе, а внучок справный вырос. Володечка. Тимуровец, комсомолец, активист… Кто ни попросит — всем поможет, и на огороде подсобит, и по хозяйству. Паша на него нахвалиться не могла.
Вот и сглазила. А я тебе что говорю, Петровна? — неча внуками хвалиться, не к добру это! Утоп Володечка. На рыбалку до рассвета пошел, днем Паша его хватилась, да какое там! Месяц прошел, пока Володечку ниже по течению в речке выловили. Уж что от него осталось, не мне рассказывать. Паша тогда едва умом не тронулась. Не мой это внучок, говорит, не Володечка. Мой-то Володечка — кровь с молоком! А это что? Рожа опухла, белесая, что рыбье брюхо, черви в ней дыры проели, пузо вздулось, с рук-то кожа слезает… И не объяснишь дуре-бабе, что мы с тобой месяц в воде пробудем, так тоже не красавицами выйдем. Так и не признала.
Жалели мы ее. Кто позлее был да муженька-полицая ей не простил, те смеялись — но таких мало было. А особо жалели, что теперь она без помощи осталась. Дочка-то ее блаженненькая была, умом тронулась, видно, нелегко ей пришлось.
Тут лето на излет пошло, пора урожай убирать. Не до Паши нам стало. Как тут кто-то из деревенских идет, смотрит — во дворе у Паши мужик! Пригляделся — не мужик это, мальчишка. Думает: никак, Паша заместо Володечки сиротку какого подобрала? Ан еще пригляделся: да ведь это Володечка и есть! Стало быть, права была, что не признала…
Начали соседи ходить мимо ее двора, заглядывать, вроде как по делу, смотреть, что там да как. И верно, Володечка. Правда, не то, что раньше, румянца того уж не было. Бледный стал, вялый, бывало, станет и смотрит куда-то вперед себя. Однако же по хозяйству трудился, на огороде работал. Разве что за скотиной больше не смотрел — да у Паши и скотины-то было две козочки, но раньше Володечка с ними все возился, а теперь никто не видел, чтобы хоть раз подошел.
В то лето всем тяжко пришлось, а Паше так хуже всех. Дом разваливаться стал. Курочки одна за другой передохли. Собачка у нее была — оторвалась да убежала, кошечка — тоже делась куда-то. А Паше и горя было мало, главное, внучок с ней.
И тут вдруг у нее, что называется, масть пошла. Курочки, что остались, вдруг как понеслись! Козы доиться стали так, что не всякая корова столько молока принесет. А Володечка из лесу какой-то не то ларец, не то сундук принес. Клад, говорит, нашел. Ну, Паша была баба честная, клад этот государству сдала, а ей от него четверть полагалась, значит. На те деньги они с Володечкой и дом отстроили. Коровок купили, свиней. Зажили так, что люди только диву давались. Одна беда — Паша от горестей да печалей сильно сдавать начала. Еще и не старая, а зубы все выпали, волосенки поседели, кожа да кости… А ведь была баба-ягодка, дебелая, щекастая, румяная, руса коса ниже пояса. Но этому-то как раз никто не дивился: ведь сколько перенести ей пришлось! Сохла Паша и сохла, уже еле ноги передвигала. А Володечка ее, наоборот, стал что яблочко наливное. Кровь с молоком, в плечах косая сажень. Шестнадцать годков ему уж стукнуть должно было, все девки на него заглядывались.
И все бы ничего, да как-то раз полоумная Пашина дочка из дому выбралась. Вся в слезах до моей бабки добралась. Другие-то ее сторонились, кто знает, что у полоумной на уме, а бабка привечала. Вот и в тот раз она пришла, поплакала и говорит: племянник-то мой упырь, мамку всю высосал, за меня принялся, да и пусть бы, но боюсь я, что он до сыночка моего доберется. Ну, мало ли что полоумные болтают? А она опять: помру, так сыночка спаси от упыря! И шею показывает. А на шее-то сзади — раны гнилые, духовитые, одна поверх другой: вроде как грыз ей шею кто. Да только ни собака, ни волк, ни куница, ни рысь так не искусают, бабка моя знала толк в таких ранах: всю жизнь деда пользовала, тот охотник был.
Бабка повздыхала, примочки травяные полоумной сделала, перевязала, промыла и заговору научила. А после того еще пук полыни дала и с собой носить велела, и в люльку ребенку положить.
А дед мой бабку любил, баловал, потакал ей всячески. Но над ее заговорами и травками смеялся. Вот и в тот раз посмеялся: какой-такой, говорит, ребенок? Опомнись, старая, совсем уж одурела со своими травками! Осерчала тогда на него бабка и так сказала: коли ты в мою силу и силу травок не веришь — молчи и не верь молча, а коли молчать не желаешь — так пойдем, я тебе покажу, что да как… И позвал дед с собой двух приятелей, крепких мужиков; один, правда, с войны без руки вернулся, а другой — хромым, ну так и сам дед всю жизнь с осколками в теле промаялся. Но разумом все они были здоровы. Непьющие, справные мужики-то, побольше б таких. Пришли к бабке — давай, говорят, веди, покажешь нам упыря живого.
А бабка пуще прежнего сердится. Какой он живой, он упырь, дураки, — ругается. Но повела их задами да околицами к Пашиному двору.
Хорош был тот двор. Выметен чисто, ухожен, цветочки в саду растут, хоть и чудные: вороний глаз, дурман да колдунник. Изба новехонькая, просторная, сарай, коровник, подальше банька — да все с выдумкой, наличники резные, крыша тесовая. Странно только показалось деду, что нет у избы ни конька, ни охлупня. Ну так время какое было — дедовские заветы не то что забыты были, а искоренялись.
Тут и сама Паша из избы выходит. Еле ноги волочит. Пригляделись дед с приятелями — и в груди у всех троих захолонуло: лицо у нее синее, как у трехдневного мертвеца, зуб последний изо рта выбежал, руки болтаются, будто кто-то труп поднял да идти заставил. А Паша прошла к сараю, что-то там поделала, потом — глядь — возвращается. Идет вроде как прямо на деда, а будто не видит. Пустые у Паши глаза, тусклые, неживые. Пригляделся дед: один-то глаз тусклый, а второго нет — вытек.
Приоткрывает Паша дверь в избу, а оттуда детский плач слышится. Да уж такой тоненький, слабый… и еще голос, будто рычит кто. Собака? — дак у Паши собаки уж давно не водилось. И женский визг — это полоумная встрепенулась. Визг и шаги!
— Смотри, — шепчет бабка деду. — Сейчас увидишь, что будет!
Выскакивает из избы полоумная, Пашу чуть с ног не сбивает, а на руках у ней и правда ребенок. Годик, не больше. Орет! Заходится! Шея и у полоумной, и у ребенка вся травой обмотана — полынь да боярышник, какие бабка дала. Споткнулась полоумная, упала на колени, а дитя не выпустила. И тут за ней Володечка выбегает.
Экая оглобля вымахала, думает дед. Иной и в тридцать лет не такой рослый, могутный да румяный, как этот в шестнадцать, губы красные, глаза блестят: зол! Кулаки сжал! Наклонился над теткой и ну шипеть, а не трогает. Мужики так и ахнули: бесноватый! Дед подумал, что надо бы вмешаться, что ж девку да дитя беззащитное на расправу бешеному отдавать, как полоумная, собравшись с силами, перекрестилась, метнула в Володечку что-то из щепоти и заговорила быстро-быстро: «Режу и солю, портить не даю. Ни своему, ни чужому, ни глупому, ни жадному, ни завистливому не дам портить ни по глупости, ни по жадности, ни из зависти, ни из корысти, а тем паче нави. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
Охнул Володечка. Румянец весь с лица у него сбежал, и стало видно: лицо это — бледное с прозеленью, что твое рыбье брюхо, опухло все. Черви в нем дыры проели, высовываются из гнилого мяса да шевелятся. Одежка на нем, что Паша с такой любовью шила, мокрая да гнилая, драная и черная; в дыры видать, как по всему белесому, распухшему телу синие пятна пошли. Живот раздулся, как пивное пузо, заколыхался — да как лопнет! Хлопнуло, как из пушки! Вонь пошла такая, что дед отшатнулся, а одного его приятеля и вовсе стошнило, и вывалились из живота гнилые зеленые кишки, да водоросли с тухлой рыбешкой, да сам черт не знает, какая еще дрянь. Зашатался Володечка, осел на землю — полоумная с ребенком едва успела от него отползти, чтобы ее гнилым мясом не завалило.
Бабка моя опомнилась, к полоумной подскочила, отвела ее к себе — чаем с травками отпаивать. А наутро деда с дружками заставила, водки глотнув, сходить на кладбище да осиновый кол в Володечкину могилку вогнать. На всякий случай.
Пашу в тот же день мертвой нашли. Дочка ее полоумная тоже недолго после того прожила. Милиция приезжала, да все без толку: списали на несчастный случай с участием сумасшедшей, во как. А маленького Лешку Квасова председатель колхоза к себе забрал и вырастил.
Так с тех пор и повелось, что у Квасовых дом полной чашей, зато душа у каждого в их роду не на месте. Боятся они. Уж и святили этот дом и все, что во дворе, и благотворительностью занимаются, и в Ерусалим поклониться благодатному огню ездили, и по фэн-шуй там чего-то отчитывали — а все одно страх в этой семье прижился и никуда не уходит.
Кто-то же нашего председателя колхоза через двадцать лет пришиб. Всю спину ему изгрыз — только что-то кровищи вылилось куда меньше, чем должно бы, там крупный сосуд в шее был поврежден, а лужица малая. И тоже милиция все на несчастный случай списала — медведь его заломал-де на охоте. Какие в наших местах медведи?
Алексей Квасов помер лет пять назад, сама знаешь, Петровна. А того не знаешь, что в могилу его осиновый кол жена да сын воткнули — сам он так просил. И внуки к бабке ездят не ради ее избы и хозяйства, по нынешним временам куда этой избе до коттеджей с бассейнами во дворе?
Проверять они ездят, Петровна.

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Туман
Туман
джен, Р, хоррор
джен, Р, хоррор
Макс сохранил написанную программу, выключил компьютер, запер офис и зашагал по набережной, то и дело поглядывая на часы: метро скоро закрывалось, а ехать домой на такси не хотелось.
Время белых ночей уже заканчивалось, и к полуночи на город нисходили глубокие белесые сумерки; Макс любил эти сумерки, особенно после работы, на которой он засиживался почти до полуночи, и с бутылочкой пива в руке.
От Обводного канала поднимались густые испарения. Макс героически преодолел искушение запустить в канал пустую бутылку, отправив ее в урну, но все равно хотелось чего-то ухарского – он поднял камушек с тротуара и швырнул его в мутную воду.
скрытый текстКамень булькнул и ушел на дно, словно его и не было; к удивлению Макса, приготовившегося любоваться кругами на воде, кругов не пошло, зато испарения от воды стали гуще и как-то живее. Туман начал собираться так быстро, что уже через четверть часа Макс не мог разглядеть ничего в двух метрах от себя и на ходу едва не наткнулся на столб. «Этак я, чего доброго, мимо метро пройду», – досадливо подумал Макс.
По спине потянуло холодком, но он не обратил на это внимания.
Гораздо больше Макса заботило то, что он перестал узнавать местность. Где Американский мост, гремящий поездами круглые сутки? Где поворот на Лиговский проспект? Все потонуло в плотном и тяжелом, липком тумане. Растерявшись, Макс завертел головой. Кажется, ограда канала была слева. Так… шаг налево… еще… хоть бы не навернуться через парапет в грязный Обводник! Но нет, никакой ограды нащупать не удалось. Вместо этого рука нашла толстенный замшелый ствол дерева.
Это было неожиданно и странно. Никаких деревьев такой толщины, да еще покрытых мхом и лишайником, Макс никогда здесь не видел. «Я что, прошел метро?» – панически подумал он.
Следовало поворачивать обратно.
И Макс повернул.
Теперь слева от него должны были выситься здания, но сколько Макс ни забирал влево, зданий ни разу не нашел. Только новые и новые деревья, огромные, замшелые, и под ногами вместо асфальта виднелась утрамбованная сырая земля.
«Куда же я, черт возьми, зашел? Сейчас стемнеет, а я, как дурак, в лесу среди ночи… Стоп, откуда лес в центре Питера?» – соображал Макс, отмечая про себя, что небо не темнеет, а наоборот, светлеет, и туман начинает жемчужно просвечивать, будто на заре. Однако то, что удавалось разглядеть в тумане, совсем не радовало!
Вокруг высился огромный редкий лес. Колоссальные стволы в несколько обхватов, дуплистые, искривленные, обвешанные патлами лишайника, с сучьями, будто сведенными судорогой… Макс не мог представить себе, что это за деревья и почему вообще они очутились на набережной Обводного канала. Он глянул на часы – часы шли и показывали без двадцати двенадцать.
И вот тогда Макс испугался по-настоящему. Без двадцати двенадцать он вышел с работы.
Но он еще сохранял присутствие духа. Часы, конечно, на какое-то время остановились, а за это время он, Макс, заблудился в тумане и прошел поворот на Лиговский проспект к станции метро. О’кей, остается решить: идти ли вперед на «авось» или присесть под деревом и перекантоваться до утра. Макс даже представил себе, как назавтра будет рассказывать об этом приключении в курилке, и повеселел. Кстати, смекнул он, я же давно не курил! Сейчас покурю – и соображу, как быть дальше…
Сигарета зажглась тревожным огоньком, и Макс отчетливо рассмотрел впереди силуэт лошади. «Ежик и белая лошадь в тумане», – дополнил он воображаемый шутливый рассказ в курилке, поспешив вперед. Лошадей Макс любил. Правда, это была, скорее всего, статуя, потому что стояла и не двигалась…
Не статуя.
Белая лошадь умерла, наверное, несколько лет назад. Желтые ребра торчали, прорвав облезлую пергаментную кожу; глаза вытекли, и засохшая жидкость из них чернела на том, что осталось от морды. Живот прогнил, из него на землю вывалились и когда-то размякли, а теперь засохли внутренности, превратившись в непонятную черную массу. Губы истлели, и пасть ухмылялась в оскале, который показался Максу хищным. Внезапно туман шевельнулся, и Макса обдало тошнотворным запахом.
Макс шарахнулся и побежал.
Запах, казалось, тянулся вслед за ним – осмысленно и неумолимо.
Наконец, Макс выбился из сил, оперся на первое попавшееся дерево, пытаясь отдышаться, и тут его скрутил кашель.
«Почему она стояла и не падала?» – билось в голове, как будто это было важнее всего.
Ноги дрожали, но стоять на месте Макс не мог. Первый же шаг – и он едва не споткнулся о кота.
Кот был еще старше лошади. На нем почти не осталось шкуры, а на шкуре – несколько клочков когда-то рыжей шерсти; от головы сохранилась только верхняя часть черепа, а челюсть лежала на земле, но кот не падал – он продолжал идти, идти, идти куда-то, точно пытаясь выйти из тумана…
Макс откашливался, отхаркивал туман на ходу – и шел. Как лошадь. Как кот.
Впереди замаячила скамейка с силуэтами людей. На секунду плеснулось облегчение – люди! Наконец-то! Сейчас они подскажут, куда идти… Но уже в следующую секунду Макс понял, что эти люди сами пытались выйти – и выбились из сил навсегда.
Джинсы на мужчине потеряли цвет, но были целыми: расклешенные, по моде 70-х годов ХХ века, и на вылинявшей, когда-то черной, майке еще можно было прочитать надпись «Led Zeppelin». У женщины, привалившейся к приятелю – а может быть, она упала на него уже после смерти – были отвратительные, неправдоподобно яркие цветы на блузке и совершенно пустая мини. Кости ног выпали из юбки и валялись под скамьей. И они скалились, скалились в страшных застывших улыбках, глядя на Макса черными дырами глазниц – на лицах еще налипла клочьями почерневшая съежившаяся кожа.
И вдруг между деревьями зашагали силуэты, от одного вида которых Макс застыл на месте. Они походили на людей в балахонах, но были слишком тонкими и вытянутыми, и шагали стремительно, держа длиннопалые руки на отлете. С ужасом Макс заметил, что их глазницы полны едкого света, и у каждого существа в теле есть щель, из которой пробивается все тот же едкий свет, – у одного на затылке, у другого на спине, у третьего…
Одно из существ, со светоносной щелью на спине, прошло мимо, и Макс заметил, что в снопе его света туман рассеивается. Тогда Макс, отчаявшись, заспешил за существом, держась в освещенном пространстве.
Существа шагали и шагали, и там, где они проходили, туман исчезал.
Макс ускорял шаг, наконец, побежал, чтобы не отстать от Светоносного, но тот был быстрее. И вдруг Макс споткнулся и упал.
Существо обернулось и уставилось на него своими глазами, полными холодного сияния.
Дальнейшее Макс помнил плохо. Кажется, он все-таки встал. Встал – и обнаружил себя на набережной, у самого парапета, продрогшим и с ожогом на руке от выпавшей сигареты…
…Никому об этом случае Макс ни в курилке, ни где-либо еще не рассказывал. Для него эта ночь закончилась здесь же, на Обводном – в 4-й психиатрической, откуда он спустя несколько месяцев вышел седым и внешне спокойным.
Но спокойствие это – не результат усилий врачей и санитаров. Макс знает, что Светоносный запомнил его. Тогда его свет спас Макса в тумане. Но скоро, очень скоро Светоносный вернется за ним, чтобы увести в туман навсегда.
Потому что он знает Макса в лицо.

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Лучшая картина
Лучшая картина
Персонаж: молодой Пикман
драббл написан в сеттинге миров Г.Ф. Лавкрафта, но можно читать какоридж, тут ничего понимать из канона не надо
Золотисто-розовый туман окутывал прибрежные утесы, и тонкие ветви деревьев на фоне рассветного неба казались кружевом. Дорога взбежала на холм, и путник – юноша с саквояжем и мольбертом – не мог не остановиться, чтобы полюбоваться открывшимся видом. Кингспорт лежал в низине у берега – там, где кольцо утесов и холмов разрывалось, и разноцветные крыши и шпили уже золотились под первыми лучами солнца, по морю пролегла сверкающая дорожка. Вблизи Кингспорта виднелось несколько загородных вилл местных богачей. Особенно привлекала взгляд одна, в старинном стиле, выстроенная на вершине самого высокого утеса.
Наверняка ее хозяин – большой оригинал и влюблен в море, подумал молодой художник. Из окон должен открываться потрясающий вид на море, особенно по утрам… но как же трудно, наверное, добираться на такую верхотуру. Да, хозяин, должно быть, анахорет. А может быть, он поэт или художник, как и я. Вот здорово было бы встретить родственную душу! Пылкое воображение мигом нарисовало художнику еще и симпатичную хозяйскую дочку – несомненно, любящую живопись…
скрытый текстПока он дошел до города, дочка в его грезах примеряла фату, а в гостиничном номере художник уже представлял себе, как устроит вместе с супругой персональную выставку.
Фамилия художника была Пикман и ровно ничего еще не говорила ни одному знатоку – до сих пор ему удалось выставить только одну картину, и то на совсем заштатной выставке, только для своих. Друзья считали, что Пикман когда-нибудь прославится на весь мир; и верно, таланта ему было не занимать. Загвоздка была в том, что картины юной надежды новоанглийского искусства отличались мрачным и фантасмагорическим содержанием и были популярны лишь в узких кругах эксцентричных ценителей – примерных девиц они попросту пугали. Но ведь дочь человека, выстроившего себе виллу под облаками, должна мыслить несколько шире?
Однако расспросы в гостинице разочаровали Пикмана. Хозяина виллы на Туманном утесе никто не знал. Она всегда была там, но никто ни разу не видел, чтобы туда поднимались люди. Правда, горничная, оглянувшись, шепотом поведала Пикману, что иногда в окнах виллы загорается свет, а порой на рассвете утес окутывают туманы, и в них мерцают какие-то огоньки…
Бедой Пикмана, как многих творческих людей, было воображение паче рассудка. Придуманная художником невеста была для него куда реальнее, чем старая чистенькая гостиница и розовощекая горничная, и рассказы последней только придали происходящему столь обожаемый Пикманом романтически-мистический оттенок. Он в тот же день выбрался на пленэр: вышел на окраину Кингспорта поближе к Туманному утесу, натянул на мольберт холст, загрунтовал его хорошенько, наконец, впервые тронул кистью… Пикман любил этот момент нарушения девственности холста, когда будто из ничего начинали проявляться черты и светотени.
Как начинающего, его частенько постигали неудачи. В этот раз Пикману никак не удавалось уловить колорит: то, что возникло на холсте, казалось красивым, но обыденным. Вскоре художник был близок к отчаянию: очарование, которое охватило его утром, упорно не желало переноситься на холст. Тем временем день уже заканчивался. Сгущались вечерние туманы. Вот-вот они поглотили бы вершину утеса и виллу…
– О! – заорал Пикман, приплясывая, и лихорадочно заработал кистями.
Вытянувшиеся тени, окутавшие город и море; последние отсветы вечернего солнца, позолотившие Туманный утес, призрачный силуэт старинной виллы, тревожные облака – свинцовые сверху и золотистые снизу… Это был один из тех редких пейзажей, в которые Пикману не захотелось вписывать домовых и призраков: он был таинственным и нереальным сам по себе. Пикман работал, пока совсем не стемнело, и с сожалением оторвался от картины лишь тогда, когда не смог видеть холст. Бросив последний взгляд на виллу, он с изумлением заметил, что в ней тускло загорелись окна. Видимо, в этом старом доме не было электричества, и кто-то зажег свечу.
Утро для Пикмана началось в том же месте, где он закончил работу; едва перекусив что-то на завтрак, художник взялся за работу. Хотя освещение и настроение сегодня были совсем другим, но Пикман легко вызвал в памяти увиденное: и этот волшебный вечерний свет, и смутный силуэт домика, и темные громады утесов…
Обед ему принесла горничная Мэри, а ужин дожидался художника в номере, совершенно остывший.
Влюбленный в воображаемую хозяйку виллы, Пикман и не заметил, что Мэри прониклась к нему симпатией. «Впервые вижу, чтобы кто-то приехал сюда на эти их и-итюды, а не пьянствовать и приставать», – говорила она подругам. Да, соглашались девушки, вот это видно, что художник: рисует и рисует себе свои картинки, и даже поесть забывает, не то, что мистер Дженкинс, который напился и утопил мольберт в море! И не то, что мистер Аллан, который приставал к Кэтрин, пока ее жених не начистил ему рыло и не вымазал на голову все его краски! И рисует похоже и красивенько, не мазню какую…
Спустя неделю Мэри забеспокоилась и решила с ним поговорить.
– Вы бы, мистер Пикман, того… отдыхали побольше, – сказала она. – Вон, похудели даже. Сходили бы, развеялись, у нас тут клуб есть и можно потанцевать…
Неопытный юноша, Пикман не догадался, что его пытаются обаять.
– Я хочу сперва закончить работу, – воскликнул он. – О мисс, это будет моя лучшая картина! А хотите, я потом напишу ваш портрет?
Он был искренне благодарен Мэри за ее заботу: ведь она давала ему возможность писать больше и больше… Но Мэри вздохнула. С ее точки зрения, такая одержимость была не лучше пьянства.
В тот вечер солнце опять пробилось сквозь туманы так же, как и когда Пикман только приступил к работе. Волшебный свет, который горел в его памяти, повторился наяву, и на холст легли последние мазки. Пикман поднял голову: в окнах виллы горел свет, и кисть Пикмана отобразила этот чарующий тусклый отблеск на холсте. А потом туман начал изменяться, и Пикман поспешно зарисовывал его причудливые клубы…
Утром Мэри нашла его спящим в траве у готовой картины. Поставив корзинку с завтраком, она присмотрелась. Испуг наполнил простое сердце девушки: пейзаж на картине выглядел зловещим и неотмирным, дом на Туманном утесе – мертвым, а свет словно проникал из преисподней, но самым жутким были туманные сущности, окружившие дом. В этом доме не было места никаким поэтам и никаким невестам – только мрак и черные воспоминания жили там.
Пикман проснулся и гордо кивнул побледневшей Мэри.
– Вот, – сказал он, вытряхивая травинки из волос. – Вот так я всегда хотел писать! Это будет новое слово в живописи – моя лучшая картина!
Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Бука
Бука
НЦ-17, джен, хоррор
бета Oriella
писано для команды Хоррора
НЦ-17, джен, хоррор
бета Oriella
писано для команды Хоррора
Оля остановилась над плитой, держа в руках кастрюлю, и задумалась.
Что же она собиралась сварить-то?
В последнее время у Оли бывали странные провалы в памяти. Она могла ни с того ни с сего вспомнить, как подружки на дне рождения вопили «Хотим погулять у тебя на свадьбе!» или как бабушка внушала ей «Муж пришел — ты его сразу накорми, что же, он ждать должен?», а вот был ли он, этот муж, и когда была свадьба — не помнила.
Наверное, когда-то была, раз муж приходил домой.
скрытый текстКуда он уходил и откуда приходил, Оля тоже не всегда могла вспомнить. Вот и сейчас она наморщила лоб, вспоминая, что любит ее муж на обед.
— Обед — это днем или вечером? — спросила Оля сама себя. За спиной послышался негромкий смешок, Оля обернулась, но никого не увидела.
Обычная кухня. Голубой кафель, яркая клеенка на столе, линолеум «под паркет». В углу так и остались капли крови — должно быть, Оля забыла их затереть.
…Он вошел в кухню — не вошел, а ворвался, хлопая грязными подошвами ботинок: на улице шел дождь.
— Что ты стоишь? — раздраженно спросил. — Ты что, еще ничего не готовила?
— Я забыла, — виновато ответила Оля. — Что ты хотел поесть, напомни?
— Я еще должен ждать, что ли? — возмутился он. — Что ты вообще делала весь день, позволь спросить?
Оля сморгнула. Надо было срочно что-то ответить. Что-то… уважительное.
— Я была с детьми, — проговорила она.
— Какими еще детьми? — он замер, рука, занесенная над головой Оли, застыла на полпути.
— С нашими, дорогой, — Оля почувствовала себя увереннее.
— Идиотка, ты надо мной издеваешься? — вспылил он. — Забыла, как в прошлый раз довыеживалась?
Оля действительно забыла и теперь беспомощно смотрела на него, соображая, что же ему ответить. Похоже, ему совсем не нравятся мои провалы в памяти, думала она. Бабушка любила повторять: брат любит сестру богатую, а муж жену здоровую.
— Так я тебе напомню!
— Игорь, — воскликнула Оля, — ну забыла, что ж такого? Я была занята!
— Кто? Какой Игорь? Это что, твой любовник?
Оля упала на пол и закричала…
Когда она пришла в себя, все тело саднило. Рука не слушалась. Оля попыталась ей пошевелить — и зашипела от резкой боли. То, что было слева… это была не ее рука. Какая бывает рука, Оля еще помнила. А это — это было мясо, голое окровавленное мясо, прорванное, будто изжеванное, и из этого мяса торчали осколки кости.
— Что это? — прошептала Оля. — Где моя рука?
— Что ты там бормочешь, дура? Опять грязь развела, — закричал он. Теперь Оля помнила, что его зовут не Игорь, но имя ускользало из памяти. Как же его зовут? Миша? Алеша? Володя? Она отчаянно пыталась вспомнить, почему-то имя было очень важным.
— Убери, и чтобы тут через пять минут было чисто! — закричал он.
Если я вспомню его имя, он перестанет так сердиться и скажет, куда делась моя рука, решила Оля. Вернет ее мне, а то я даже не знаю, что делать с этим ужасом…
Она с трудом поднялась. Спина, колени, голова — все отдалось резкой болью, будто тысячи тупых игл впились в ее тело.
…она лежала на полу, и он топтал ее ногами…
Нет. Ей почудилось. Люди не могут топтать друг друга ногами.
…он был под кроватью, и Оля старалась заснуть, потому что знала: он ее съест. Мама говорила, что только заберет, но Оле-то лучше было знать!..
Так. Это было уже ближе к теме.
Оля старательно елозила тряпкой по полу, вытирая неправдоподобно яркие, уже начинающие подсыхать разводы. Он стоял над ней, угрюмо наблюдая за каждым ее движением, потом резко развернулся и ушел.
Оля вздохнула. Ей было невыносимо больно, подташнивало, запах крови забивал ноздри. Ощущение какой-то неправильности происходящего нахлынуло с особенной остротой.
Кухня. Теперь Оля вспомнила.
Вот что было неправильно!
С трудом поднявшись, согнувшись, она заковыляла в спальню.
— Тебе кто разрешил сюда идти? — окликнул он ее. Оля молча прошла в угол к шкафу. Раньше в этой комнате стояла ее кровать; сейчас в углу между шкафом и стеной зависла, клубясь, густая темнота. Вот в этой темноте он и живет, подумала Оля, когда не уходит на работу. Имя… Имя! Мне нужно его имя, чтобы вызывать его всегда, когда я опять что-то забуду.
Имя и кровь…
Он с силой толкнул ее — Оля отлетела к шкафу, наткнулась виском на острый угол, рассекла кожу и застонала, не в состоянии кричать, и от резкой боли вспомнила.
— Бука! — крикнула она. — Бука! Иди сюда, Бука! Иди сюда! — Оля сползла на пол, он шел к ней, а она повторила: — Иди сюда!
И тогда из клубящейся окровавленной тьмы за ее плечами, из-за шкафа вышел Бука.
Оторопев, Оля смотрела, как Бука разевает пасть, как на брюках ее мужа расплывается мокрое пятно, как он беспомощно — совсем как она несколько минут назад — поднимает руки к груди и визжит, захлебываясь, как катится пот по его серому лбу…
Острые зубы Буки впились в лицо, сдирая кожу, и на несколько секунд Оля увидела своего мужа без лица: красные лоскутки мяса на желтоватых костях и белые шарики глаз. По ушам резанул дикий вой. Тогда Бука вгрызся зубами в горло, вырывая кадык, и с аппетитом зачавкал…
…Оля попыталась подняться. Белая постель, тускло-розовые стены. Она не помнила, что это за место.
Высокий человек в сером разговаривал с женщиной в белом. «Вся кровь принадлежит ей, — говорили они, — кто убил мужчину, непонятно… систематические побои… следы насилия… вагина разорвана… о ее тело тушили сигареты…»
— Что такое сигареты? — спросила Оля, но голос ее, видимо, прозвучал слишком тихо: двое ничего ей не ответили, только обернулись к ней. — А где Бука? Ну, Бука! Мой муж! Я хочу видеть своего мужа Буку!

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Еще крипотенюшки. Пираты Строма
Пираты Строма
написано для команды Сказок
основано на исторических реалиях
написано для команды Сказок
основано на исторических реалиях
Прекрасен пролив Пентланд-Ферт на рассвете, когда утро заливает серебряно-розовым светом морскую воду и пряди тумана окутывают прибрежные скалы; прекрасен он и днем, когда в небе колышутся облака, то и дело приоткрывая просвет для солнечных лучей, и вечером, когда бурные волны пролива становятся алыми, как кровь… Но горе неопытному капитану, вздумавшему пересекать этот пролив без лоцмана, или в штормовую погоду, или в туман! Да и опытные моряки бледнеют и крестятся, особенно когда путь их корабля лежит вблизи острова Строма.
скрытый текстОбитатели острова — мирные люди, разводящие овечек на его скалистых склонах, и при первом знакомстве несведущий человек удивится, почему этих добродушных фермеров честят пиратами и почему моряки боятся потерпеть крушение у отмелей острова Сэйбл или даже у мыса Горн меньше, чем у берегов Строма. Но несведущих осталось не так уж много: кто же не знает, что у матросов и пассажиров, если их корабль разобьется вблизи острова Строма, не остается и единого шанса выжить? Миролюбивые с виду фермеры, благодушно потягивающие эль у каминов в своих маленьких домиках или в единственном на острове трактире, преображаются и проворно седлают лодки. Каждый из них знает прибрежные течения как свои пять пальцев, каждый с детства приноровился управлять своей лодочкой — и каждый отменно ныряет, чтобы достать с корабля все, представляющее хоть какую-то ценность. И подчас так же отменно и без колебаний орудует веслом, опуская его на головы выживших…
Самой отпетой бандой мародеров одно время слыла команда Джеймса Хартлесса. Они не боялись никаких штормов, не задумываясь ныряли за грузом с кораблей и в ледяную кашу, и в высокие волны, и даже в гущу акул, которых тут всегда хватало, — и никогда не останавливались ни перед чем. Только два человека осмеливались попрекнуть Джеймса его промыслом: старенький священник и невеста Джеймса, юная Мэри Маклеллан. Но перед священником Джеймс ловко прикидывался смиренным и изображал раскаяние, а Мэри заверял, что лишь собирает в море бесхозный груз, никому не причиняя вреда. «Те люди на корабле — они умерли, мир праху их, и Господь прибрал их души, Мэри, — говорил Джеймс. — А бренным телам мертвецов вещи ни к чему, разве нет?» За этой речью обычно следовал подарок: шелковая шаль, или золотое колечко, или еще что-нибудь из добра, выловленного с разбитых кораблей, и Мэри утешалась. А если подарка не находилось, Джеймс целовал Мэри в ее свежие розовые губки и запускал руку в ее корсаж, а то и под юбку; Мэри тут же отвешивала ему оплеуху, впрочем, не слишком увесистую, и притворно сердилась, хотя на самом деле ей льстило такое внимание. Она любила Джеймса и верила, что он любит ее. Да и Джеймс в это верил — ведь не бросал же он Мэри, несмотря на то, что девицы в кабачках Оркнейских островов, на которые Джеймс изредка выбирался, за монетку позволяли ему куда больше, чем она!
В тот день его дружки поймали тюленя; Джеймс велел вбить кол на пляже и привязать пленника. Сам он прохаживался мимо тюленя, раздумывая, как бы его приручить и заставить работать на себя. Туповатый Макконнэхи, усердствуя в выполнении приказа, привязал несчастное животное слишком грубо, жестким тросом, да еще и избил. Тюлень попытался вырваться — и содрал с шеи и ласт кожу, по туловищу заструилась кровь, большие прекрасные глаза наполнились слезами, но Макконнэхи только гоготал, наслаждаясь его страданиями.
— Кэп, — вдруг спросил он, — а на кой дьявол тебе этот уродец?
Джеймс терпеливо вздохнул. Макконнэхи был далеко не первым, кто его спрашивал об этом.
— Ты видел, дружище, сколько сумок и чемоданов тонет? И мы не успеваем их вытащить? — сказал он. — Рухлядь, деньги, хорошая выпивка — не то, что наше виски, от которого скулы сводит! — и все это отправляется на дно, чтобы рыбы гадили на него сверху. А мы не можем его достать. Надо быть шелки, чтобы нырять на такую глубину! Смекаешь?
Тюлень поднял на Джеймса печальные глаза, будто понимая его слова. Макконнэхи — тот понял не сразу.
— Так ты решил, что это шелки, кэп? С чего бы? Он что — оборачивался?
Джеймс грубо хохотнул.
— Бери выше, дружище, — он хлопнул Макконнэхи по плечу. — Он пытался вытащить одного из морячков! Кто еще, кроме шелки, будет делать такие вещи?
Макконнэхи наморщил низкий лоб, пытаясь вспомнить. Обычно в его голове мало что задерживалось, кроме паров виски, но тут он все же выудил из памяти кое-что.
— Точно, кэп, — произнес он. — Из-за него нам с тобой еще пришлось поработать веслами, чтобы прикончить того дурака. Упертый же — его лупишь, а он опять всплывает.
— В конце концов я все же раскроил ему башку, — самодовольно подтвердил Джеймс. — А этого мы выловили!
Оба захохотали, пиная тюленя ногами и хлопая друг друга по плечу. Внезапно на них пала еще одна тень.
— Джеймс! — крикнула Мэри Маклеллан, подбежала к тюленю и ловко перерезала его путы. Кортик, который она взяла у отца, был очень остро отточен; закончив дело, Мэри налегла на тюленя, подталкивая его в воду. — Плыви, друг! — воскликнула она.
— Что ты делаешь, дуреха! — заорал на нее Джеймс. — Чертова девка, волос долог, ум короток…
— Молчи, — перебила его Мэри. Глаза ее сверкнули так, что даже Макконнэхи, не раз становившийся свидетелем объяснений Джеймса и Мэри, понял: сегодня Джеймсу не удастся ее провести. — Убийца! Я только что своими ушами слышала, как вы говорили, что убили человека, и еще смеялись! Ты мне больше не жених, Джеймс Хартлесс, я не стану женой убийцы и преступника!
С искаженным от злобы лицом Джеймс Хартлесс шагнул к ней, поднимая кулак, но Мэри наставила на него кортик, а затем развернулась и бросилась бежать. Отбежав на безопасное расстояние, она остановилась, что-то сорвала с руки и швырнула вниз. Тонкий мелодичный звон рассыпался по камням, и Джеймс понял, что Мэри выбросила его обручальное кольцо.
Бормоча проклятия, он направился в деревню, чтобы поговорить с отцом Мэри. Тот был куда снисходительнее по части источников обогащения Джеймса, ценя в первую очередь его зажиточность и подарки, которыми Мэри хвасталась перед семьей и подругами, да и сам в молодости промышлял тем же. Солнце уже клонилось к закату, и Джеймс рассчитывал застать старого Маклеллана дома. Однако в этот вечер Джеймсу не суждено было с ним встретиться: его догнал крик Макконнэхи «Парус, кэп!»
Джеймс гаркнул, созывая свою команду. Они сбежались; у многих в руках были лампы. То было хитроумное изобретение мародеров, о котором Джеймс прослышал от моряков и тут же взял на вооружение: лампы расставлялись среди скал, и в сумрачном тумане капитану корабля казалось, будто он видит поселение на берегу. Многих уже удалось обмануть таким образом — и это была их последняя в жизни ошибка…
А на следующий день прибыли торговцы. Считалось, что они заглядывают на остров Строма ради овечьей шерсти, которая действительно была высшего качества. Однако вместо шерсти им предлагали шелковые платья, которых не могло быть у крестьянок острова, золотые украшения, на которые невозможно было бы заработать разведением небольшой отары овец, часы, чай и кофе, да мало ли что еще! Большинство из торговцев, однако, были прожженными мошенниками, которых отнюдь не смущало происхождение вещей, сбываемых «мирными» фермерами. А немногие честные люди быстро переставали быть таковыми.
Подсчитывая выручку, Джеймс Хартлесс успокоился и повеселел. Отлично поработали в этот раз, ишь, сколько выручили! А Мэри вернется, конечно, — или сама простит его, или отец ей прикажет, размышлял он, спустившись на свой любимый пляж. Джеймса и его команду на этот пляж манили, конечно, не красоты пролива и скал — просто пляж располагался на небольшом мысу, с которого лучше всего были видны рифы. Те самые рифы, ставшие роковыми для множества кораблей…
На гальке все еще виднелись следы тюленьей крови.
Макконнэхи на радостях пропил часть выручки и блаженно улыбался, приставая с пьяными разговорами и неприличными анекдотами к приятелям; остальные в большинстве своем вели себя не лучше, а то и похуже, и только один — старый Хэмиш, фамилии которого никто не знал, самый старший из команды, — был трезв и мрачен.
— Чего нос повесил, дядюшка Хэмиш? — спросил его Джеймс. Он терпеть не мог, когда кто-то из его приятелей хмурился, в то время как другие веселятся, подозревая угрюмца в предательстве.
— Шелки, — объяснил старик. — Не следовало обижать шелки, кэптен. Они обычно добры, но если их заденешь — конец тебе, а то еще и твоему потомству до седьмого колена.
— У меня и потомства никакого нет — и не будет, ежели Мэри не одумается, — гоготнул Джеймс, толкнул по-приятельски Хэмиша кулаком в плечо и вернулся к ржущей пьяной команде.
Однако Мэри не собиралась возвращаться к Джеймсу. Наоборот, она собрала вещи и ушла из дому, не сказав никому — куда. Джеймс подозревал, что ее сестры отлично знали, куда же она направилась, однако Мэри попросила их не рассказывать ему. «Хахаль! Ну конечно! у нее появился другой хахаль, а я-то ей верил!» — бесновался он, стуча кулаками по камням, и эхо, гулявшее среди скал, подхватывало его проклятия в адрес беглой невесты и ее неведомого возлюбленного…
Наступила ночь — холодная, ветреная осенняя ночь. В эту ночь пассажирская шхуна «Королева Виктория», направлявшаяся с Оркнейских островов в Британию, вышла из порта острова Строма, оставив двоих и забрал пятерых пассажиров. Вернее, четырех пассажиров и одну пассажирку. Это был обычный рейс, да только говорили, что у капитана «Королевы Виктории» были не то предчувствия, не то видения, не то он просто опасался выходить в море в такую погоду. Однако ему по какой-то причине нужно было попасть в Британию как можно скорее… А Джеймс Хартлесс и его команда держали лодки наготове. Разбушевавшееся море залило их любимый пляж, и они сидели на скалах повыше.
По ночному небу неслись мрачные, тяжелые облака, полные ледяного дождя, и казалось, что можно расслышать их шорох. Вот на фоне темного облачного неба появился силуэт парусника. Капитан «Королевы Виктории» был старым, опытным морским волком, но водовороты и рифы пролива Пентланд-Ферт этой ночью взяли верх над его опытом, знаниями и смелостью, как и над усердием команды.
Не обманули капитана его предчувствия!
— Ха! — Джеймс вскочил на ноги, указывая на силуэт шхуны. Она дернулась, резко остановилась, мачты зашатались… Джеймсу даже показалось, что он слышит треск ломающегося дерева. Будь море поспокойнее, капитан еще мог бы спасти если не корабль, то команду, пассажиров и часть груза. Однако разыгрался шторм — резко, почти мгновенно налетел очень свежий ветер, вздымая высокие волны, и они успели почти полностью разбить «Королеву Викторию», пока Джеймс и его приятели на своих лодках добрались до нее.
Люди с корабля барахтались в волнах, крича и взывая о помощи. Джеймс растянул губы в злорадной ухмылке. «Будет вам помощь», — подумал он, предвкушая богатый улов.
— Тюлени, — вдруг воскликнул кто-то в соседней лодке. — Ух, сколько их!
— Точно, — подтвердил Макконнэхи, сидевший рядом с Джеймсом. — Никогда столько тюленей не видел!
«Закончим здесь — и я набью рожу этому старому дураку Хэмишу», — подумал Джеймс. Ему стало страшно, но ни малейшего стыда и раскаяния он не испытал, наоборот, обозлился на Хэмиша из-за его суеверного предупреждения.
— Ну ты смотри, тюлени людей вытаскивают, — продолжал удивляться человек из соседней лодки.
— Бейте их, гадов, веслами, — приказал Джеймс.
Однако ни одного тюленя никому из них убить так и не удалось, хотя и сам Джеймс взял в руки весло: тюлени ловко уходили в глубину, а их товарищи помогали выбраться потерпевшим кораблекрушение на выступавшие из воды скалы. Джеймс зарычал от бессильной злости — выживание хотя бы кого-то с корабля не входило в его планы. Выжившие могли потребовать свое имущество обратно, а делиться тем, что однажды подержал в руках, Джеймс не любил.
Но внезапно в неверном свете фонаря он увидел то, что заставило его позабыть и о выживших, и об их имуществе. В волнах виднелось что-то бледно-оранжевое — платье такого цвета он сам подарил Мэри Маклеллан, а неподалеку плыла шелковая шаль, и шаль эту Джеймс тоже узнал…
— Мэри, — окликнул Джеймс и ударом весла направил лодку к ней.
Увы, Мэри уже ничто не могло помочь. Ее светлые волосы шевелились в воде, как пучок водорослей, голова была опущена, руки безвольно повисли, и если ее тело шевелилось, то лишь потому, что его колыхали бурные волны. Джеймс схватил багор и подцепил Мэри.
С третьей или четвертой попытки ему это удалось. Он перевалил Мэри в лодку; они с Макконнэхи попытались привести ее в чувство, но скорее для самоуспокоения: Мэри была безнадежно мертва. Тогда Джеймс велел Макконнэхи направляться на берег.
И Макконнэхи, и другие, видевшие, что происходит, ничуть не удивились. Какими бы черствыми и заскорузлыми ни были сердца этих людей, каждый из них хотя бы однажды изведал любовь и привязанность, и никто не захотел бы очутиться на месте Джеймса Хартлесса. Но любой бы на его месте постарался бы отдать возлюбленной скорбный долг.
Однако Джеймс не собирался ни хоронить Мэри, ни возвращать ее тело родителям. Приказав Макконнэхи оставаться на пляже, залитом водой, он закинул тело Мэри на плечо и потащил наверх, на скалы. Задыхаясь, он волок мертвую девушку все выше и выше, наконец, остановился так, чтобы его не было видно ни с пляжа, ни из деревни.
— Ну, Мэри, вот ты и вернулась ко мне, — обратился он к Мэри. — Так, значит, ты не захотела быть женой убийцы? Боялась, что я и тебя прибью? И прибил бы, если бы ты этого заслуживала! — он перевел дух и подхватил мокрый бледно-оранжевый подол, разрывая его. — Ты не захотела стать моей, пока была жива? Значит, я возьму тебя мертвую!
Снизу донесся крик Макконнэхи, но Джеймс не обратил на него внимания, лишь мельком подумав: «Если этот дурак свалился в воду и утонул, туда ему и дорога», — крик был таким, точно Макконнэхи кто-то душил. Не заметил Джеймс и тяжелых шагов вблизи…
Лишь пинок заставил его обернуться.
За его спиной стоял высокий, очень сильный даже на вид юноша, одетый так, как лет двести назад одевались в глухих шотландских селениях: в килт, тэм и плед. Кудрявые рыжие волосы ниспадали на плечи.
— Прости, маленький друг, — произнес он, обращаясь к Мэри. — Мы не успели тебя спасти.
— Кто ты, дьявол тебя раздери? — Джеймс выхватил охотничий нож, с которым не расставался, и приготовился к драке. Юноша усмехнулся и отвел край пледа. На его шее виднелся свежий шрам. И вдруг сверху донеслись испуганные и удивленные голоса.
Что-то в эту ночь заставило жителей деревни выйти из своих домов и спуститься по тропе, и сейчас они все стояли над Джеймсом, ошеломленно глядя на него, рыжего незнакомца и мертвую Мэри, а с пляжа раздавались вопли и крики лихих подельников Джеймса. Сам же Джеймс остановился в оцепенении. Он легко убивал утопающих, барахтавшихся в холодных волнах пролива Пентланд-Ферт, однако при виде сильного и уверенного незнакомца струсил.
— Будьте прокляты, — голос незнакомца разнесся над скалами, негромкий, но внятный каждому, — пусть каждый из вас, и дети его, и внуки, не увидит счастья столько лет, скольких людей вы убили у своих берегов! Да опустеет этот остров, и исчезнет самая память о вас, пираты Строма!
С этими словами незнакомец взвалил тело Мэри на плечи и легко сбежал по мокрым от дождя камням. По этой тропе и днем в хорошую погоду любому человеку следовало спускаться осторожно, но жители Строма уже поняли, что перед ними был не человек. И верно, когда кому-то из особенно любопытных островитян удалось перебороть страх и спуститься на несколько шагов к пляжу, то никого, кроме тюленей, он не увидел среди скал.
Тюлени окружили мертвую Мэри, словно отдавая ей последние почести, а затем каждый из них, взяв в ласты камень, положил возле Мэри. Вернулся. Принес еще камень. И еще…
Потрясенные, люди разошлись по домам, и никто даже не глянул в сторону Джеймса Хартлесса. А он стоял и стоял, не в силах двинуться с места.
К утру на пляже уже никого не было — лишь высокий каирн серел на месте пляжа. А на тропе вместо Джеймса Хартлесса торчал высокий валун, отдаленно напоминающий человеческую фигуру…
Проклятие тана шелки сбылось. С тех пор поселение на острове Строма начало приходить в запустение. Люди умирали от болезней, погибали от несчастных случаев или в пьяных драках, а те, кто еще сохранил здравый смысл, спешили покинуть Строма навсегда, бросая неправедно нажитое добро и не оборачиваясь на дома и земли отцов. И вместе с ними начала умирать худая слава об острове. Пролив Пентланд-Ферт по-прежнему покорялся лишь самым опытным и удачливым мореходам, и водовороты, рифы и мели представляли для них грозную опасность, но мало-помалу потерпевшие кораблекрушение обнаружили, что могут смело добираться до пустынных берегов, чтобы послать с них сигнал бедствия: больше некому их убивать и грабить.
Одни лишь унылые пустоши на месте былых огородов и пастбищ и голые остовы заброшенных зданий напоминают о пиратах Строма. Да иногда в лунные ночи сюда приплывают шелки, чтобы почтить память Мэри Маклеллан — своего единственного друга среди людей.

Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Прнс прекрасного. Здзислав Бексиньский
Здзислав Бексиньский - польский художник.
скрытый текстПо образованию архитектор, некоторое время трудился бригадиром на стройке, но посвятил жизнь живописи.
Никогда не страдал депрессией и психическими заболеваниями. Считал, что в его картинах достаточно юмора и оптимизма. Однако его картины, отличавшееся, плюс ко всему, ювелирной проработкой самых мелких деталей, многих повергали в шок.
Никогда не давал названия своим творениям, им присваивался только порядковый номер.
Знаменитым Здзислав Бексиньский стал после того, как на варшавской выставке 1964 года были распроданы все до одного его произведения. Позднее слава художника докатилась до выставочных салонов Франции, Японии и США, а к концу 70-х годов известный швейцарский мастер кисти Ханс-Руди Гигер объявил его величайшим живописцем современности.
В 1977 году Здислав под влиянием момента сжигает часть работ на заднем дворе своего дома, не оставив ни одного наброска. Художник объяснил, что некоторые из них были «слишком личными», другие - неудовлетворительными.
Судьба З. Бексиньского сложилась драматично. Художник тяжело пережил смерть своей жены Зофьи, скончавшейся в 1998 году. Но впереди его ждал гораздо более беспощадный удар судьбы: на рождественский сочельник 1999 года покончил жизнь самоубийством его сын Томаш, в то время популярный ведущий на радио, музыкальный журналист и кинопереводчик.
А 22 февраля 2005 года художник и фотограф Здзислав Бексиньский был найден мертвым в собственной квартире в Варшаве. На его теле полицейские насчитали семнадцать ножевых ран.
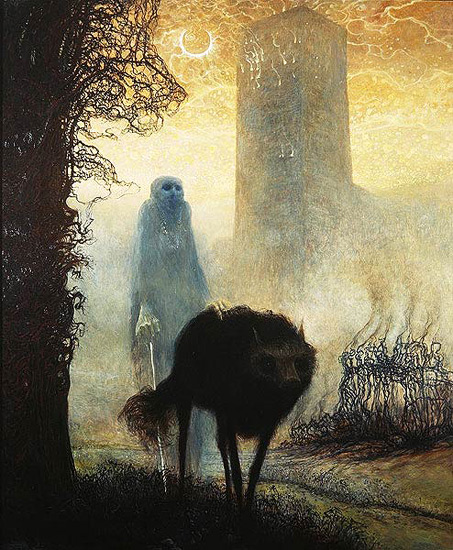
скрытый текст






скрытый текстПо образованию архитектор, некоторое время трудился бригадиром на стройке, но посвятил жизнь живописи.
Никогда не страдал депрессией и психическими заболеваниями. Считал, что в его картинах достаточно юмора и оптимизма. Однако его картины, отличавшееся, плюс ко всему, ювелирной проработкой самых мелких деталей, многих повергали в шок.
Никогда не давал названия своим творениям, им присваивался только порядковый номер.
Знаменитым Здзислав Бексиньский стал после того, как на варшавской выставке 1964 года были распроданы все до одного его произведения. Позднее слава художника докатилась до выставочных салонов Франции, Японии и США, а к концу 70-х годов известный швейцарский мастер кисти Ханс-Руди Гигер объявил его величайшим живописцем современности.
В 1977 году Здислав под влиянием момента сжигает часть работ на заднем дворе своего дома, не оставив ни одного наброска. Художник объяснил, что некоторые из них были «слишком личными», другие - неудовлетворительными.
Судьба З. Бексиньского сложилась драматично. Художник тяжело пережил смерть своей жены Зофьи, скончавшейся в 1998 году. Но впереди его ждал гораздо более беспощадный удар судьбы: на рождественский сочельник 1999 года покончил жизнь самоубийством его сын Томаш, в то время популярный ведущий на радио, музыкальный журналист и кинопереводчик.
А 22 февраля 2005 года художник и фотограф Здзислав Бексиньский был найден мертвым в собственной квартире в Варшаве. На его теле полицейские насчитали семнадцать ножевых ран.
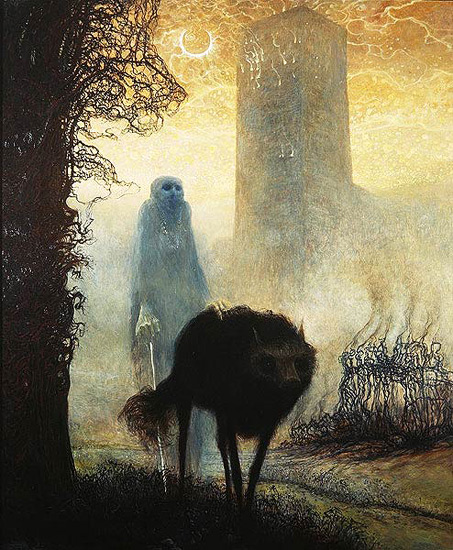
скрытый текст








Санди Зырянова, блог «Дупло козодоя»
Спецподразделение "АнтиНЕХ" и юный заклинатель
Третья часть истории про котов-борцов с НЕХами
Р, джен
Кот по имени Джин Симмонс вышел в подъезд для ежедневного обхода. Проверил углы, осмотрел каждую ступеньку. Особенно внимателен он был в тех местах, где постоянно царит тень. Известно, что тень мало-помалу разъедает ткань бытия, и в ней образуются тоннели, как в сыре. В этих тоннелях и пещерах живут странные создания. Правда, чаще всего они безобидны и даже дружелюбны, разве что иногда не прочь пробраться в реальность и стащить оттуда что-нибудь на память. Но слишком близко знакомиться с теневыми жителями не стоит: из их тоннелей можно не выбраться и остаться там навсегда.
скрытый текстОднако теневые жители – это просто наши соседи. А вот кое-кто другой… Простодушные существа – люди – считают, что их дом и есть их крепость. То есть надежная защита не только от непогоды и чисто человеческих неприятностей, но и от хищников и всяких зловредин, обитающих по Ту Сторону. Как же они ошибаются! Да если бы не коты, была бы у них защита, как же.
Джин Симмонс искренне считал, что только их объединенная интеллектуальная мощь и деятельная борьба с опасными существами с Той Стороны спасают людей в подъезде от гибели и перерождения. Разумеется, его товарищи – беленькая ангорская кошечка Маркиза, рыжий красавец Афоня и серый полосатый «подобранец» Кисик – полагали точно так же. И хотя в их активе числились всего два подвига по защите жителей подъезда, но каких!
Да за каждый такой подвиг котам следовало поставить памятник при жизни.
В первый раз они, пытаясь отловить бессовестного Потолкового Лампожуя, напали на след ужасного оборотня-цутигумо – и дружно выгнали его из подъезда.
А потом организовали операцию по спасению девочки Лены, которая провалилась в теневой тоннель.
Маркиза сбежала по ступенькам. Вид у нее был взволнованный, и Джин Симмонс насторожился.
– В подъезде что-то происходит, – сказала она. – Моя хозяйка всю ночь не спала. Ее мучили ночные кошмары. И ее соседку тоже.
– Может быть, она что-то не то съела или переволновалась? – предположил Джин Симмонс. Хозяйка Маркизы вечно волновалась из-за всякой ерунды: то лак на ногтях облупился, то каблук сломался, то платье вышло из моды, то любимый певец женился…
– Хорошо бы, – ответила Маркиза. Хозяйка часто действовала ей на нервы, и все-таки Маркиза ее любила. – Надо спросить у Кисика, как его хозяйка себя чувствует.
– Моя вроде не жалуется, – подумав, сказал Джин Симмонс. – И у Афони хозяева – тоже.
Рыжий Афоня спрыгнул из окна. Он всегда так поступал – выбирался из своей форточки на козырек подъезда и потом пробирался в подъезд через постоянно приоткрытое окно.
– Что, и у вас тоже? – спросил он. – У меня в доме пес знает что творится!
– Что, тоже ночные кошмары?
– Да нет, – Афоня озадаченно мотнул головой и повел усами. – Какие кошмары, у них все наяву! У хозяина каша подгорела, и котлеты он пересолил. А хозяйка попыталась розетку починить, так ее током как шарахнуло! В общем, переругались они из-за того, что обед испортили и проводку угробили. И еще из-за того, что хозяйка одежду на стул свалила, а хозяин забыл пропылесосить. В общем, неудачный день у них сегодня.
Кисик, выслушав друзей, тоже заметил, что его хозяйка не жалуется. Она всю ночь читала. Читать хозяйка Кисика любила про космос, роботов и всякие механические штуки в далеком будущем, – так что ей было не до кошмаров и не до пересоленных котлет, в будущем таких проблем просто не могло возникнуть, а ссориться ей было не с кем.
Словом, четверка котов из Спецподразделения «АнтиНЁХ» – отряда по борьбе с неведомой ёкарной хренью с Той Стороны – вынуждена была констатировать, что новый подвиг пока откладывается. А с плохим сном и бытовыми неурядицами люди и без котов разберутся.
Но уже на следующий день выяснилось, что хозяйка Кисика все время читает по ночам только потому, что не может заснуть из-за мерзких сновидений, а в доме у Джина Симмонса вылетел интернет, сломалась стиральная машинка и случилась утечка газа, так что пришлось срочно вызывать газовую службу и мастеров. Пока расстроенные хозяева хлопотали у себя в доме, из-за стены раздавались вопли и ругань соседей. Джин Симмонс ушел в другую комнату, но другие соседи тоже ссорились и орали во весь голос.
А это было уже подозрительно. Когда половина подъезда страдает от плохих снов, а другая половина – от бытовых сложностей и ссор, это наводит на мысли о чьих-то сознательных происках. По крайней мере, Маркиза сказала, что таких совпадений не бывает, а к ее мнению антинёховцы привыкли прислушиваться.
На кратком совещании было решено сначала провести опрос дружественных существ, и в первую очередь домового, вернее, подъездного. И коты пошли по этажам.
На третьем навестили Подъездного Нафаню и его жену – кикимору Марфушу, потом решили поболтать с Хокой, жившей там же в металлическом ящике под потолком, затем заглянули к Бабаю, который обитал за батареей парового отопления. Все они были очень недовольны.
– Дак запечатано мне, – сказала Марфуша, стройная кикимора с дизайнерскими дырками на льняном сарафане и изысканными манерами. – Нешто б я на нижние этажи не спустилась бы? Я свое дело знаю, у меня лицензия первого класса и пять благодарностей! И мне даже значок «Почетной кикиморы» на съезде домашних духов в прошлом году пожаловали. А теперича из-за того, что этот паршивец мне ход запечатал, я не могу за нижними-то горницами присмотреть.
– То-то и оно, – поддержал ее Нафаня. – За верхними-то я присмотрю. А вот что с нижними делать? Люди, они же сами знаете какие – тяп, ляп, без нас никуда…
– Какой паршивец? – не поняли коты. – Как запечатал?
Нафаня поманил их и вывел на лестницу.
На стене отчетливо выделялось странное короткое слово. Кисик шевельнул ушами.
– Что это? Никогда такого не видел.
Поскольку хозяйка часто читала с Кисиком на руках, он тоже научился читать.
– Может быть, это фамилия? Люди часто пишут где попало «Здесь был Вася» или «Здесь был Петров», – предположила Маркиза.
– Ну, нет, мои люди бы такого писать не стали, – возразил Афоня. Его хозяева были как раз Петровы. – Да и зачем? Все и так знают, что они живут в этом подъезде.
Вообще-то Афоня ошибался. Из жителей подъезда по имени и фамилии друг друга знали только несколько человек, остальные даже не здоровались друг с другом. Лучше всех людей в подъезде, как ни странно, знали коты и домашние духи, да еще собака по имени Джульбарс с четвертого этажа.
– Заклинание это, – с трудом сказал Нафаня. – А для краткости просто «мат» называется. Кто-то сглупу написал от нечего делать, а для нас, для духов, это как ножом по сердцу. Одно хорошо, что злые духи тоже сюда не проберутся, да толку с этого, ежели мы с Марфинькой к своим обязанностям приступить не можем?
Бабай поддержал Нафаню и Марфушу.
– Ишь, поганец мелкий, – сказал он. – Я бы до него добрался, уж я бы его повоспитывал! Всему бы научил: и как вежество знать, и как чистоту в дому соблюдать, и как папку с мамкой слушаться! Уж так понятно бы объяснил! Я, как-никак, заслуженный педагогический работник с 1758 года! С моим-то опытом у меня детишки все исправляются сами собой… Да как ты им займешься, ежели родители не зовут, а без запросу мне помогать закаяно?
– Да ты о ком? – не понял Кисик.
– Как это о ком? О соседях наших новых, – воскликнул Бабай.
На новых соседей никто не обратил внимания. Это была обычная семья – папа, мама и сынишка лет десять-двенадцати, с виду очень респектабельная. Папа каждый день уезжал куда-то на дорогой машине, а мама с утра ходила в фитнес-клуб, по магазинам и в салоны красоты. Хозяйка Маркизы хотела с этой мамой познакомиться, так как почувствовала в ней родственную душу, но та, похоже, не желала заводить новых друзей.
– Они это, они, больше некому, – затараторила и Хока. – Сама я видела, сын ихний-то взял да и написал! Вы думаете: ой-вэй, кто мог такое сотворить? А я своими глазами видела, что сын! Вы-то, конечно, думали: что такое эта Хока? Таки ноль без палочки, сидит, никто ее даже не замечает, нет бы молока вынести! А я снами питаюсь, понятно вам, сны кушаю? Страшные. Вот не съела я страшные сны на верхних этажах, а отчего не съела? – оттого, что путь мне теперь заказан, вот так, из-за этого заклинания нет мне теперь пути! – и бедные люди через это кошмарами мучаются, маются бедные, а все через то, что злое заклинание написано!
Джин Симмонс испытал что-то вроде разочарования. Он-то надеялся, что в подъезде происходят великие и темные дела, а это просто кто-то по глупости испачкал стену! Единственное, что смущало: коты не смогут вытереть стену самостоятельно. Однако у мальчика есть родители, и они наверняка заставят его убрать художество и объяснят, что так делать нельзя.
Однако прошло несколько дней, ситуация ничуть не улучшилась, а на лестничной площадке появились и другие надписи. Одна, сравнительно безобидная, – «Ленка дура». Неизвестно, кто имелся в виду, но Джин Симмонс забеспокоился, что это про Леночку из 49-й квартиры. Леночка была очень хорошей девочкой и совсем не заслуживала, чтобы про нее такое писали. Вторая – тоже заклинательная, и Хока громко возмущалась, что ей теперь «таки нет жизни, а то, шо осталось, это не жизнь, а давайте за нее просто помолчим!»
Еще через день бабка Петровна из 42-й поймала нового соседа за выведением очередной заклинательной надписи прямо возле своей двери.
– Ты что же это, негодник, делаешь! – закричала она. – Ах ты, хулиганье! Ну-ка, вытирай!
– Да пошла ты, старая мымра, – ухмыляясь, ответил мальчишка.
– Ты как со старшими разговариваешь? – возмутилась Петровна. – Вот я твоим родителям расскажу!
Петровну и Хока называла «мымрой», потому что переговорить Хоку только Петровна и могла. Но тут нашла коса на камень.
– Че? Да кто ты такая, слышь, коза старая? – загоготал мальчишка. – Да ты знаешь, кто мой папа? Он городской прокурор! Только тявкни – и будешь в тюрьме сидеть, пока не сдохнешь! Пошла вон отсюда!
– Хулиган, – поджав выцветшие старческие губки, процедила Петровна и спряталась в квартиру, на всякий случай закрывшись изнутри сразу на все замки. А мальчишка еще и наплевал на ее дверь.
Через день произошел пренеприятный инцидент с Леночкой. Джин Симмонс не застал начала, но когда он вышел на лестницу, скандал бушевал уже вовсю.
– Я своими глазами видела, как ваш мою толкнул с лестницы! – кричала мама Леночки. – Она маленькая! Вы понимаете, что могло случиться? Вы что, не можете с ним поговорить?
– Да ваша сама к нему пристает, – визжала в ответ новая соседка. – Не буду я с ним говорить! Я своему Димочке ничего не запрещаю, у нас вальдорфская система воспитания и японские методики! А если ваша к Димочке еще раз пристанет, я на вас в суд подам!
– Это ваш к нашей пристает, – возмутилась мама Леночки. – Это я на вас подам!
– Ой, да подавайте! А мой муж сделает так, что у вашего лицензию предпринимательскую отберут, и тогда вам одна дорога – в сторожа!
– Ой-вэй, какие нервы, – прокомментировала сверху Хока. – Таки я давно не видела подобных представлений, шоб я так жила, а я живу уже очень давно, но у нас таких соседей еще не бывало. Вот пьяницы – это да, как вспомнить, так и вздрогнуть, когда же… в 74 году, как сейчас помню… Хиппи были, все под гитару песни пели, художник был, всю парадную красками завонял, татуировщик был, к нему тут байкеры ходили, все ко всем ходили, – а таких не было!
Джин Симмонс собрал антинёховцев, и они начали обсуждать сложившуюся ситуацию.
– Получается, что мы теперь не «АнтиНЁХ», а «ЗаНЁХ», – сказал Кисик. – Если так посмотреть, то домовой, то есть подъездный, кикимора, Хока и Бабай – это тоже НЁХи. А из-за того, что этот противный Димочка пишет на стенах всякую дрянь, они не могут выполнять свои обязанности, да и вообще им плохо. Хока вон как похудела, видели?
– А Бабай впал в эту, как ее… в общем, черную меланхолию, – добавил Афоня. – Страдает он, что у него перед глазами пример растления и порчи детской души через вседозволенность.
Маркиза помолчала. Пока она думала, Джин Симмонс растерянно произнес:
– Но что мы-то можем сделать? Это не по нашей части, человеческие безобразия… Может, его поймать да поцарапать, этого Димочку?
– Пока родители не вмешаются и не объяснят ему, что так поступать нельзя, – не поможет, – категорически сказала Маркиза. – Каждый ребенок слушается родителей, а не чужих котов. Но меня беспокоит другое. Наши домашние духи, или НЁХи, – они милые, добрые, но слабые. Их одним пустяковым заклинанием остановить можно. А вот на Той Стороне водится кое-кто посолиднее. Цутигумо помните? Им заклинательные надписи этого Димочки – как нам с вами укус мышонка. И если они поймут, что подъезд остался без защиты, и им противостоят только четыре кота… представляете, что будет?
– Может, самим стереть эти надписи? – безнадежно предложил Джин Симмонс.
Они спустились и начали прыгать, пытаясь достать лапами, но Димочка написал свои заклинания слишком высоко, и у них ничего не получилось.
На следующий день хозяйка Маркизы, которой тоже не нравились обрисованные стены и заплеванные ступени, решила поговорить с отцом Димочки.
Она надела свое самое шикарное красное платье с большим декольте, накрасила губки, надушилась, дождалась, пока Димочкин папа приедет на своей дорогущей машине с работы, и приняла грациозную позу.
– Здра-авствуйте, Сереженька, – кокетливо сказала она, ослепительно улыбнувшись. – Давайте знакомиться? Я ваша соседка Наташа! Очень приятно.
– Мне тоже, – буркнул «Сереженька», злобно уставившись на вырез красного платья.
– У вас такой милый мальчик, – продолжала Наташа, взмахивая ресницами и улыбаясь еще ослепительнее, – но вот зачем он…
Обычно ее улыбки и комплименты срабатывали. Но тут из квартиры выбежала мама Димочки.
– Ты как посмела моему мужу глазки строить? Ах ты, змея! Ишь, вырядилась, дрянь такая! – заголосила она и вцепилась ногтями в лицо Наташе.
– Сама змея! Сама дрянь! – закричала Наташа, отбиваясь.
Маркиза решила вмешаться и тоже вцепилась когтями. До лица она не достала, но и не собиралась! Колготки у Диминой мамы мгновенно превратились в сплошные дыры, а холеные ножки покрылись длинными царапинами. Женщина взвыла не своим голосом.
Димин папа не принимал участия в потасовке, зато наблюдал за ней с явным удовольствием.
– Что ты стоишь, Сергей! – завопила Димина мама. – У нее кошка, она же бешеная!
– Кошку конфискуем, – веско сказал Димин папа, – и усыпим, раз она на людей кидается. А вам, гражданочка, придется платить штраф…
– За что штраф? – ошеломленно спросила Наташа. – За то, что ваша жена на меня набросилась и платье порвала?
– За то, что ваша бешеная кошка непривитая людей калечит!
Кисик, очень взволнованный, вызвал Джина Симмонса и Афоню.
– Что делать будем? – спросил он. – Тут уже не НЁХов – тут Маркизу надо спасать!
– У тебя есть план? – деловито уточнил Джин Симмонс.
– Есть. Я же дружу с летучими мышами, уговорю их пустить Маркизу на чердак.
– А еду ей мы принесем? – догадался Афоня. – Главное, чтобы хозяева ничего не заметили…
Маркиза подумала и согласилась.
Афоня зря беспокоился: ему удалось утащить для Маркизы целый пакет сосисок. Но обстоятельства, при которых это произошло, его вовсе не радовали.
Оказывается, Димочка подслушал, как его хозяйка рассказывает подружкам, что ее муж хорошо готовит. Сама она больше любила возиться с техникой и чинила все в доме. Димочка тут же схватил маркер и написал напротив квартиры Афони: «Петров баба», «Петров подкоблучьник» и «Петров дурак».
Петров был кандидат математических наук и занимался любительским боксом, а ростом был под два метра. Поэтому он просто вышел из квартиры и схватил Димочку за руку, еще даже ничего не успел сказать, как мальчишка завизжал, извиваясь, засучил ногами и пообещал, что Петрова посадят в тюрьму пожизненно.
– Марш за тряпкой и вытирай все, что написал, – потребовал Петров.
Однако Димочка так и не вернулся с тряпкой. Вместо этого приехал наряд полиции, надел на ошарашенного Петрова наручники и отвез в отделение. Через два часа Петров, конечно, вернулся домой, но переполох поднялся изрядный.
А мама Димы, выходя на улицу, всем напоказ доставала айфон и хвасталась:
– Я своему сыночку ничего не запрещаю! Он должен вырасти свободной личностью, не испорченной никакими ограничениями!
Маркиза жила на чердаке уже три дня. Она-то и заметила первой жуткую черную тень.
Кошка забилась в угол. А тень наклонилась над мирно спящими днем летучими мышами.
Первое тельце, растерзанное и выеденное одним укусом, упало на пол.
Существо взяло вторую мышку, растянуло ее крылья и впилось в живот. Мышка забилась, запищала, но через несколько секунд все было кончено, от тела осталась только кровавая скорлупка, и несколько кровавых капелек упало на пол чердака. А неизвестная тварь явно только вошла во вкус. Третья летучая мышка уже трепыхалась в ее призрачных лапах. Тварь с наслаждением подцепила когтем ее шкурку и вспорола живот, вытаскивая один за другим внутренние органы: тоненькие ниточки кишок, сердце, легкие…
У Маркизы даже в глазах защипало от жалости к несчастному зверьку. Коты – хищники, но есть разница: ловить зверьков, чтобы съесть их, или вот так злонамеренно истязать? И Маркиза взвыла:
– Нетопыри! Вставайте! Вставайте, вас же сейчас съедят!
Летучие мыши просыпались – медленно, неуверенно, а тварь тем временем поймала еще одного из их стаи и принялась терзать. Теперь Маркиза могла рассмотреть ее длинные когти, ее желтые длинные зубы… и поняла, кто она.
Навья.
Неупокоенная душа покойника, умершего дурной смертью.
Хока что-то такое рассказывала о соседях-алкоголиках, спившихся до смерти, – но долгое время их призраки не беспокоили подъезд. Зло, разбуженное по глупости новыми соседями, дало возможность навье вернуться. И Маркиза усами почувствовала, что навья начала с летучих мышей только потому, что они первыми попались ей на зуб.
Летучие мыши взмыли в воздух и полетели. Маркиза сообразила, что еще чуть-чуть – и навья доберется до нее, потому что она единственная из живых, кто остался на чердаке. «Хоть бы этот хулиган Димочка написал свои заклинания возле чердака», – подумала она. Так был бы шанс задержать навью, хотя Маркиза чувствовала: для нее нужны заклинания помощнее.
Она вскочила на чердачное окно. Было невероятно высоко и так же невероятно страшно. Прыгать вниз Маркиза боялась. Она решила выбраться наверх, на крышу, но сделать это было не так-то просто. Одна ошибка, одно неверное движение – и лежать Маркизе белым трупиком на асфальте… А к ней уже протянулась черная рука-щупальце, от которой исходил явственный заах тления. Маркиза в ужасе уставилась на эту руку. Сквозь полусгнившую кожу просвечивало тухлое, раздутое мясо и бурые кровоподтеки. В некоторых местах кожа лопнула, и в трещины сочилась бурая жидкость, распространяя зловоние. На пальцах мясо отслоилось и висело клочьями. Однако этот оживший труп двигался, он хотел жрать и явно намеревался полакомиться кошкой.
Выбирать было некогда, и Маркиза прыгнула вниз.
Она успела раскрыться, как парашют, чтобы как можно мягче опуститься на землю, и вдруг заметила, что порывом ветра на чьем-то незастекленном балконе раздуло простыню. Маркиза извернулась в воздухе и вцепилась в самый край этой простыни. Она затрещала под коготками, даже немного порвалась, но Маркиза уже держалась крепко. С трудом она запрыгнула на балкон.
Это оказался балкон Петровны.
От пережитого ужаса Маркиза бессильно упала в уголке балкона, как тряпочка. Но задерживаться не стоило. Она пробежала по комнате мимо удивленной старухи и заскреблась в дверь.
– Это еще что такое? – заворчала Петровна, но присмотрелась. – А, это Наташина… что ты тут делаешь, кисонька? Может, молочка?
Маркиза не стала отказываться. Ей ужасно хотелось подкрепиться и хоть немного восстановиться. Ее ждали серьезные дела.
Она заколотила в дверь Джина Симмонса, потом бросилась к Кисику, потом – к Афоне. Наконец, друзья начали собираться.
– Что случилось? Что-то серьезное? – спросил Афоня, отлично понимая, что по пустякам Маркиза не стала бы так срочно всех собирать.
Кисик потерся мордочкой о ее мордочку. Он очень за нее беспокоился.
– Навья, – выдохнула Маркиза и упала на пол.
– Маркиза! – воскликнул женский голос. Это хозяйка Маркизы как раз шла домой с работы. – А я тебя везде ищу! Ну, пойдем домой, моя кошечка, моя лапочка! Разве можно так убегать!
Хозяйка так расчувствовалась, что даже погладила Кисика, и тот удивленно замер. Раньше она была категорически против их встреч.
Джин Симмонс поскреб лапой пол.
– Навья, – сказал он. – Это же неупокоенный мертвец? Серьезнее некуда, Афоня. Они, знаешь ли, людоеды. Раньше наши предки знали, как их остановить, но сейчас этого тебе и Нафаня, наверное, не скажет…
– Ой-вэй, что вы такое говорите, друзья мои, – пискнула сверху Хока. – Нафаня-то скажет, да кто его услышит? Люди его не понимают! А Нафаня, он домовой со стажем, уж он скажет, как скажет, так скажет, он все знает и про это, и про все!
– А мы не сможем? – спросил Афоня.
– Нет, тут люди должны, – вздохнула Хока и спряталась. Коты немного подождали, но она так и не появилась.
– Что-то в доме сдохло, – сказал Кисик. – Хока сказала меньше тысячи слов за один раз.
Но разрядить обстановку ему не удалось. Точно так же, как и придумать, что делать. Ни у кого не было идей.
Вечером прорвало трубу в подвале. Жильцы первого этажа вызвали аварийные службы, но аварию ликвидировать так и не удалось.
Коты снова собрались, чтобы повторить мозговой штурм; теперь они сидели возле квартиры Афони, и вдруг чуткая Маркиза спросила:
– Что это за запах? Похоже на мертвую крысу… и на рыбу?
Она обожала влажный корм из тунца и форели и запах рыбы угадывала с одного вдоха. Поэтому остальные ей поверили и осторожно пошли вниз, к подвалу.
На ступеньках, ведущих в подвал, лежала крыса. Та самая, которую не раз и не два трепал Кисик. Она была мертва, но конец ей пришел не от старости и не от голода.
Достаточно было посмотреть на ее размозженную голову – вернее, пустой череп, на вспоротое брюшко, на лежащие неподалеку кучки ее кишок, на оторванный хвост.
– Небось, Димочка этот садист до нее добрался, – с горечью сказал Кисик. – Бедняга! Хоть она и зверь с пониженной социальной ответственностью, мне ее так жалко…
– Вдруг это опять навья? Навья так же терзала летучих мышей, – прошептала Маркиза.
Но Афоня и Джин Симмонс нашли в себе силы осмотреть тушку несчастной. Вокруг нее виднелись какие-то малоразличимые следы, похожие на утиные, только очень большие, пятна тины и грязи.
– Водяной!
– А Водяной бывает очень злым, если его не остановить, – заметила Хока, свесившись с лестницы. – Таки это не фунт изюма, чтоб я так жила! Он добрый, если ему приношения принести да добром задобрить, он тогда и добрый, и хороший, и русалки его людям помогают – плотвы там подкидывают и всякого прочего, русалки, значит, помогают… А если люди ему никаких приношений не приносят, он всем покажет Кузькину мать!
– Кузька, – задумался Джин Симмонс. – Это какой же? Кот из третьего подъезда? Да нет…
– Это же начальник моста в Заколдованном лесу, – вспомнила Маркиза.
– А мать его – Баба-Яга! И видеть ее могут только мертвые!
– И чтоб она была такая добрая, как мы ее тут не хотим видеть, – прошептала Хока, посерев от ужаса.
У Джина Симмонса похолодели лапки.
Свирепые существа с Той Стороны пробирались в их дом, который некому было защитить. И четверо храбрых котов ничего не могли поделать.
– Нам нужно срочно найти, как справиться с положением, – решил Джин Симмонс. – Мы не можем лежать сложив лапы, даже очень благочестиво, и возносить молитвы котскому богу Непаникую. Правду говорят, что на Непаникуя надейся – а сам не плошай. Должен быть выход!
– Может, теневые жители? – предложил Кисик. – У них можно спрятаться…
– Люди туда не проберутся, – грустно возразил Афоня. – Это удавалось только Леночке. И то она не могла сама выбраться, пришлось Серенького Волчка звать…
– Афонька, Кисик, – перебила их Маркиза, – вы гении! Где нож, который он подарил нам на прощание?
***
Четверка котов из спецподразделения «АнтиНЁХ» шагала по извилистым подземельям теневых пещер. Теневые жители плелись за ними, взволнованно обсуждая происходящее.
На них не действовали заклинания, опрометчиво написанные Димочкой на стенах, и они ничего не боялись, кроме прямой угрозы. Поэтому они охотно согласились помочь котам в их миссии.
Та Сторона показалась котам очень красивой. Но теневые жители не решились ступить за землю Заколдованного леса.
– Если мы туда пойдем, то обратно не вернемся, – извиняющимся тоном сказал один из жителей. – Так что уж простите… Это вы, коты, можете жить одновременно во всех мирах.
Джин Симмонс приготовил нож.
Вокруг стояли огромные деревья. Могучие замшелые стволы возносили короны ветвей на колоссальную высоту. Где-то очень высоко щебетали птицы и цокали белки, под деревьями росла шелковистая трава-мурава, неподалеку журчал ручей. Пахло свежестью, зеленью, первозданной тишиной. Солнце пробивалось сквозь листву, пестря бледными зайчиками. И все-таки котам было не по себе, настолько не по себе, что Джин Симмонс еле заставил себя подойти к ближайшему пню и зубами всадить нож в него.
Вскоре послышался топот, и на поляну выбежал волк.
– Серенький Волчок! – обрадовались коты. – Привет… то есть гой еси! Исполать тебе, добрый лесной царь!
– Дак разве ж я царь всему лесу? – удивился Серенький Волчок. – Я так, волчий король. Уж что есть, то ес… ах ты, собака! Опять язык… – он перевернулся через нож, воткнутый в пень, и преобразился в плечистого богатыря. Коты с удовольствием разглядывали его в человеческой форме: синяя рубаха, кудрявая борода, золотистые волосы, у висков заплетенные в косицы, чтобы не мешать, блестящие синие глаза. О сущности Волчьего Короля напоминали только острые клыки, выглядывавшие изо рта, когда Серенький Волчок улыбался. – Что ж такое, как в волчьей форме заговорю – так и язык прикушу, – пожаловался он. – Ну, котейки, сказывайте, что за беда вас привела. Да не смущайтесь вы! Мне ли не знать – без важного дела на нашу сторону, в Навь, никто из живых не сунется.
– Ваши тоже на нашу сторону не очень лезут, – сказал Джин Симмонс. – А вот поди ж ты.
– На нас напали наши? – изумился Серенький Волчок.
– Честно! – заверил его Джин Симмонс. – Водяной и эта…
– Навья, – подсказала Маркиза.
– Пока что они убивают крыс, – сказал Кисик. – Мою знакомую прямо-таки растерзали.
– И летучих мышей…
– И мы боимся, что они за людей примутся, – завершил Афоня.
– Ох ты, окаянные, – прорычал Серенький Волчок. – Водяному-то я задам, а с Навьей что делать… пока я Водяного трепать буду, она все свое семейство вызовет, а коли навьи толпой нападут – быть беде. – Он подумал, но недолго: вскоре лицо его просветлело. – А позову-ка я Ивана Царевича! Вдвоем-то оно сподручнее!
Он вытащил из-под рубахи свисток, похожий на обычный свисток тренера, и свистнул.
Свист его пошел, как смерч, по всему лесу. Посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая птичья, столб пыли понесло куда-то вдаль, и котам на миг показалось, что даже солнце померкло. Вскоре послышался стук копыт, и одновременно с ним с другой стороны возник волк. Тоже очень крупный, но до короля ему было, конечно, далеко.
– Ты, сынок, вот чего, – обратился к нему Серенький Волчок. – Дуй-ка ты со всех лап к Матушке Яге, скажи – пусть своих гусей-лебедей собирает. Навьи в мире живых орудуют. А я пока займусь сам кое-чем.
Волк вытянулся в струнку, встав на задние лапы. Коты подумали, что он сейчас отдаст честь, но вместо этого волк стукнул себя лапой в грудь (очень торжественно), взвыл, подняв морду к небу, и умчался – только его и видели.
А на поляну выехал на богатырском коне Иван-Царевич.
Был он настоящим сказочным героем. Все у него было, что называется, при нем: и меч – вне всяких сомнений, кладенец, – и перо Жар-Птицы в шапке, и кафтан парчовый, и сапоги сафьяновые, и щит богатырский. И русые кудри из-под шапки, и борода, и внимательные карие глаза. Он приветствовал Серенького Волчка и котов поклоном.
– Коня тут оставь, а на меня садись, – посоветовал Серенький Волчок. – Так сподручнее доехать-то будет. Ну ты это… дай хоть обернуться сначала!
Коты думали, что знают, как быстро может нестись Серенький Волчок, но ошибались. В этот раз он несся так, что ветер выл в усах! К счастью, Иван-Царевич сгреб в охапку всех котов и придерживал, чтобы они не свалились.
Когда они наконец-то добрались до подъезда, там царил кавардак. Коты спрыгнули со спины Серенького Волчка и побежали вперед.
Из подвала вышел Водяной. Он выглядел как обычный старик – лысый, толстый, совершенно безопасный, только с полы его старомодного пиджака капала и капала вода, а на плоском неприятном лице блуждала злорадная усмешка.
– Что, котики, – сально ухмыльнулся он, – думали сбежать от меня, сладенькие мои? Да потоплю я вас, лапочки! Крысок, милашек, уже перетопил, теперь людишек затапливаю, а вас притоплю да сожру, няшечки!
– Перетопчешься, – хмыкнул Серенький Волчок, снова превращаясь в человека. – На, жабья твоя морда, получай!
– Ты? Сокровище мое, да как ты додумался сюда явиться, – забулькал Водяной. – Кто тебя сюда звал, прелесть моя?
– А не твое дело, жаба, – ответил Серенький Волчок и врезал Водяному так, что тот завертелся юлой и действительно превратился в огромную жабу. – Прочь! – и нога в тяжелом ботинке на ребристой подошве пнула жабу так, что она взлетела в воздух, на лету превращаясь в тысячу мутных зеленоватых брызг. – Ишь, распустился. Он-то не злой, – обратился Серенький Волчок к котам, – он просто вежеству не обучен. Кабы к нему по-доброму, так и он ласковый, а как забыли приветить – вот и бесится. Дурной он, что с него взять!
Коты перевели дух. Им уже казалось, что все разрешится проще простого.
Иван-Царевич, держа Меч-Кладенец в руке, бросился наверх.
Отвратительная протухшая Навья сползла с чердачной лестницы. Вонь разлагающейся плоти обдала котов и богатыря. Увидев Ивана-Царевича, Навья забеспокоилась. До этого она напоминала человека, только порядком сгнившего. Из прорех драной одежды выглядывало раздутое сине-бурое тело с колышущимся вспухшим животом, от лица мало что осталось: губы и веки сгнили, глаза засохли и выкатились из орбит, щеки обвисли… Но при виде богатыря кожа на этом лице вдруг лопнула, изо лба начали расти зловонные желтоватые рога, а изо рта – длинные клыки. Сама Навья стремительно начала увеличиваться в размерах.
– Что стоите, дурни, бегите, – рыкнул Серенький Волчок. – Вы ему не подмога!
Коты шарахнулись вниз и, только добежав до следующей лестничной площадки, осмелились обернуться. И тогда они увидели, что Иван-Царевич ничуть не испугался – он смело ударил Навью мечом, и та начала на глазах рассыпаться в прах. Но с чердака уже лезли ее товарки: как и опасался Серенький Волчок, они явились в беззащитный подъезд.
Серенький Волчок, развеселившись в предвкушении драки, издал торжествующий волчий вой.
А снаружи ему ответил жуткий рев.
Коты бросились к окну, и Джин Симмонс почувствовал, что у него отнимаются лапы от ужаса. «Непаникуй, – мысленно твердил он, – Непаникуй защищает. Отец Непаникуй!»
Но паниковать было отчего.
Потому что перед подъездом на «пятачке», где обычно размещались лавочки и сидели старушки, громоздилась гигантская чешуйчатая туша. Крылья, похожие на крылья летучей мыши, были полуразвернуты, могучие лапищи вцепились в асфальт, взламывая его когтями.
– Головы, – прошептал Афоня. – У него три головы!
– Да это же Змей Горыныч, – ахнул Кисик и немедленно загородил собой Маркизу.
– Дух вулканизма и пожара, – мяукнула та. – Ой…
– Ой-вэй, – запричитала Хока. – Все сгорим! Огонь в наших телах! Все сгорит, и останется лишь пепел! И мы будем рабы пепла!
– Ша, – оборвал ее Серенький Волчок.
Его синяя рубаха начала изменяться. Коты ожидали, что на нем появится богатырская пластинчатая кольчуга, но вместо этого Серенький Волчок выбрал что-то вроде очень плотного и надежного бронежилета.
Хока тут же осеклась, а Марфуша, выглянув, громко восхитилась.
– Ох ты, каков удалец! Сразу видно – не детина лядащий, а богатырь настоящий! От наплечников блестящих прямо глаз не оторвать!
Серенький Волчок даже зарделся от такого комплимента.
– Ой, – сказала Маркиза, – я думала, у тебя тоже Меч-Кладенец…
– Меч есть, только не Кладенец, – ответил Серенький Волчок. – Кладенцов на всех не напасешься. Да и что с тем мечом делать в наше-то время да с таким-то врагом? Супротив Горыныча ружьецо в самый раз. Только оно у меня устаревшее, ружьишко-то, – «БФГ» конструкция. Кабы знать, как новые-то сработать. Все эти скорчеры, бластеры, болтеры…
– А это я знаю, – оживился Кисик, заметил, с каким уважением посмотрела на него Маркиза, и приободрился еще больше. – Хозяйка каждую ночь про них читает!
– Сказывай, – велел Серенький Волчок. Кисик мяукнул, и Волчок кивнул.
В руках его, затянутых в латные перчатки, появились вместо «устаревшего ружьишка» тяжелые футуристические штуки. Одна, по словам Кисика, должна была стрелять миллионовольтными разрядами, вторая – болтами.
– Говорю ведь – в самый раз! – Серенький Волчок запрокинул голову и издал громкий вой. – Ну, чудище обло да озорно, выходи на бой!
Он шагнул прямо сквозь стену и очутился напротив Змея Горыныча.
Змей обрушил на него струю огня, так что Серенький Волчок едва увернулся, и ему опалило волосы. Но и он был не лыком шит! Он выстрелил в Змея Горыныча сразу с двух рук. Крыло у Змея Горыныча оказалось поджарено и пошло волдырями, а шея покрылась пятнами крови, и выбитые болтами куски шкуры и мяса полетели во все стороны.
– Так его! – закричали коты, «болея» за друга.
– Скорострельные, – похвалил новое оружие Серенький Волчок, увертываясь от нового залпа огня. – Не то, что «БФГ»!
Иван-Царевич из последних сил отбивался от стаи озверевших навий. Их костлявые гниющие руки, распространяя запах тухлятины, тянулись к его горлу, с рож отваливались куски мяса, оскаленные зубы уже готовы были обгладывать кости богатыря… И вдруг целая стая людей в лебединых крыльях опустилась на верхнюю площадку.
– Где тут неупокоенный элемент? – строго спросил их предводитель. – Наш дорогой руководитель товарищ Яга поручила нам разобраться.
– А-ы-ы-ы! – взвыли навьи, но гуси-лебеди – а это, несомненно, были они, – отлично знали, что делать. Каждый из них надел на руку длинную перчатку, а перчаткой ухватил навью за шкирку. Неупокоенные души беспомощно обвисли, на глазах принимая снова человеческий облик.
– Отправляемся, – скомандовал предводитель, и гуси-лебеди с душами взмыли в воздух.
Иван-Царевич утер пот со лба и… позвонил в дверь Кисика.
Теперь коты явственно видели, что на нем никакой не кафтан и не перевязь с мечом, а обычные джинсы и джемпер. Хозяйка Кисика выглянула из дверей.
– Ванечка! Братик! – обрадовалась она. – А я думала, ты самолетом…
– Нет, я плацкартой, – ответил он. – Привет, Кирочка, сестричка! А что это у вас тут за пожар? Смотрю, пожарная стоит…
– А, – поморщилась девушка. – Это новые соседи. Такая неприятная семья! Вроде и приличные на вид люди, а все время скандалят, сын их стены обрисовал всякими гадостями, а теперь еще и пожар в подъезде наделал… Может, хоть теперь они за ним смотреть начнут. Ну ладно, бог с ними, я тут кое-что вкусненькое тебе сготовила…
Тем временем Змей Горыныч, жалобно трубя, развернулся и пустился наутек, роняя сопли из огромных ноздрей. Серенький Волчок испустил ему вслед торжествующий вой.
***
– Ну, как дела? – по привычке спросил Джин Симмонс.
Хока снова поправилась, даже чересчур – за время ее вынужденного отсутствия на верхних этажах скопилось очень много кошмарных сновидений, и она отъелась за две недели и блаженствовала. Марфуша и Нафаня рьяно принялись за дело, и во всех квартирах подъезда отныне все шло идеально: техника не ломалась, коммуникации работали как часы, а еда готовилась такая, что пальчики оближешь. Водяного Серенький Волчок заставил исправить содеянное, и в подвале было необыкновенно сухо – впервые за все время существования дома не протекала ни одна труба, даже комары передохли.
Бабай гордо приосанился.
– Говорю же, кабы я взялся за воспитание, так был бы отличный парень, – гордо сказал он.
Родители Димочки после устроенного им пожара заплатили жильцам подъезда компенсацию за обгоревшие двери и провели косметический ремонт за свой счет, после чего пересмотрели свой педагогический подход и строго-настрого запретили Димочке хамить старшим, ругаться, писать на стенах, играть со спичками и… запрещать пришлось много чего. Ведь мальчику в течение одиннадцати лет никто не догадывался объяснить, что хорошо, что плохо, а что и по-настоящему опасно. Но Бабай был уверен, что с его помощью дело пойдет на лад.
– Родители-то из таковских, что сами не знают, где зло, а где добро, – сказал он.
– Жаль, что убитых зверей не вернешь, – грустно сказал Афоня, и Кисик кивнул.
– Маркиза! – воскликнула хозяйка Маркизы, которая как раз шла по лестнице. – Опять ты с этим полосатиком… Ну что мне с тобой делать?
– А у них любовь, – пошутил, поднимаясь вслед за ней, Иван, не догадываясь, как близок к истине. – Здравствуйте, Наташа!
– Здравствуйте, Ваня, – сказала Наташа и покраснела. – Любовь – это хорошо, а что мне с котятами потом делать?
– Пристроим как-нибудь, – беспечно ответил Иван. – А я как раз хотел вас спросить, вы вечером не заняты? Мы с Кирой собираемся в кино. Может, присоединитесь?
Наташа подумала.
– Ну, – нерешительно начала она, – можно…
Они подхватили каждый своего питомца и пошли вверх вместе.
Афоня проводил их взглядом и сказал:
– Ну, похоже, это дело мы закончили успешно.
– Точно, – согласился Джин Симмонс. – Но расслабляться не стоит!
Р, джен
Кот по имени Джин Симмонс вышел в подъезд для ежедневного обхода. Проверил углы, осмотрел каждую ступеньку. Особенно внимателен он был в тех местах, где постоянно царит тень. Известно, что тень мало-помалу разъедает ткань бытия, и в ней образуются тоннели, как в сыре. В этих тоннелях и пещерах живут странные создания. Правда, чаще всего они безобидны и даже дружелюбны, разве что иногда не прочь пробраться в реальность и стащить оттуда что-нибудь на память. Но слишком близко знакомиться с теневыми жителями не стоит: из их тоннелей можно не выбраться и остаться там навсегда.
скрытый текстОднако теневые жители – это просто наши соседи. А вот кое-кто другой… Простодушные существа – люди – считают, что их дом и есть их крепость. То есть надежная защита не только от непогоды и чисто человеческих неприятностей, но и от хищников и всяких зловредин, обитающих по Ту Сторону. Как же они ошибаются! Да если бы не коты, была бы у них защита, как же.
Джин Симмонс искренне считал, что только их объединенная интеллектуальная мощь и деятельная борьба с опасными существами с Той Стороны спасают людей в подъезде от гибели и перерождения. Разумеется, его товарищи – беленькая ангорская кошечка Маркиза, рыжий красавец Афоня и серый полосатый «подобранец» Кисик – полагали точно так же. И хотя в их активе числились всего два подвига по защите жителей подъезда, но каких!
Да за каждый такой подвиг котам следовало поставить памятник при жизни.
В первый раз они, пытаясь отловить бессовестного Потолкового Лампожуя, напали на след ужасного оборотня-цутигумо – и дружно выгнали его из подъезда.
А потом организовали операцию по спасению девочки Лены, которая провалилась в теневой тоннель.
Маркиза сбежала по ступенькам. Вид у нее был взволнованный, и Джин Симмонс насторожился.
– В подъезде что-то происходит, – сказала она. – Моя хозяйка всю ночь не спала. Ее мучили ночные кошмары. И ее соседку тоже.
– Может быть, она что-то не то съела или переволновалась? – предположил Джин Симмонс. Хозяйка Маркизы вечно волновалась из-за всякой ерунды: то лак на ногтях облупился, то каблук сломался, то платье вышло из моды, то любимый певец женился…
– Хорошо бы, – ответила Маркиза. Хозяйка часто действовала ей на нервы, и все-таки Маркиза ее любила. – Надо спросить у Кисика, как его хозяйка себя чувствует.
– Моя вроде не жалуется, – подумав, сказал Джин Симмонс. – И у Афони хозяева – тоже.
Рыжий Афоня спрыгнул из окна. Он всегда так поступал – выбирался из своей форточки на козырек подъезда и потом пробирался в подъезд через постоянно приоткрытое окно.
– Что, и у вас тоже? – спросил он. – У меня в доме пес знает что творится!
– Что, тоже ночные кошмары?
– Да нет, – Афоня озадаченно мотнул головой и повел усами. – Какие кошмары, у них все наяву! У хозяина каша подгорела, и котлеты он пересолил. А хозяйка попыталась розетку починить, так ее током как шарахнуло! В общем, переругались они из-за того, что обед испортили и проводку угробили. И еще из-за того, что хозяйка одежду на стул свалила, а хозяин забыл пропылесосить. В общем, неудачный день у них сегодня.
Кисик, выслушав друзей, тоже заметил, что его хозяйка не жалуется. Она всю ночь читала. Читать хозяйка Кисика любила про космос, роботов и всякие механические штуки в далеком будущем, – так что ей было не до кошмаров и не до пересоленных котлет, в будущем таких проблем просто не могло возникнуть, а ссориться ей было не с кем.
Словом, четверка котов из Спецподразделения «АнтиНЁХ» – отряда по борьбе с неведомой ёкарной хренью с Той Стороны – вынуждена была констатировать, что новый подвиг пока откладывается. А с плохим сном и бытовыми неурядицами люди и без котов разберутся.
Но уже на следующий день выяснилось, что хозяйка Кисика все время читает по ночам только потому, что не может заснуть из-за мерзких сновидений, а в доме у Джина Симмонса вылетел интернет, сломалась стиральная машинка и случилась утечка газа, так что пришлось срочно вызывать газовую службу и мастеров. Пока расстроенные хозяева хлопотали у себя в доме, из-за стены раздавались вопли и ругань соседей. Джин Симмонс ушел в другую комнату, но другие соседи тоже ссорились и орали во весь голос.
А это было уже подозрительно. Когда половина подъезда страдает от плохих снов, а другая половина – от бытовых сложностей и ссор, это наводит на мысли о чьих-то сознательных происках. По крайней мере, Маркиза сказала, что таких совпадений не бывает, а к ее мнению антинёховцы привыкли прислушиваться.
На кратком совещании было решено сначала провести опрос дружественных существ, и в первую очередь домового, вернее, подъездного. И коты пошли по этажам.
На третьем навестили Подъездного Нафаню и его жену – кикимору Марфушу, потом решили поболтать с Хокой, жившей там же в металлическом ящике под потолком, затем заглянули к Бабаю, который обитал за батареей парового отопления. Все они были очень недовольны.
– Дак запечатано мне, – сказала Марфуша, стройная кикимора с дизайнерскими дырками на льняном сарафане и изысканными манерами. – Нешто б я на нижние этажи не спустилась бы? Я свое дело знаю, у меня лицензия первого класса и пять благодарностей! И мне даже значок «Почетной кикиморы» на съезде домашних духов в прошлом году пожаловали. А теперича из-за того, что этот паршивец мне ход запечатал, я не могу за нижними-то горницами присмотреть.
– То-то и оно, – поддержал ее Нафаня. – За верхними-то я присмотрю. А вот что с нижними делать? Люди, они же сами знаете какие – тяп, ляп, без нас никуда…
– Какой паршивец? – не поняли коты. – Как запечатал?
Нафаня поманил их и вывел на лестницу.
На стене отчетливо выделялось странное короткое слово. Кисик шевельнул ушами.
– Что это? Никогда такого не видел.
Поскольку хозяйка часто читала с Кисиком на руках, он тоже научился читать.
– Может быть, это фамилия? Люди часто пишут где попало «Здесь был Вася» или «Здесь был Петров», – предположила Маркиза.
– Ну, нет, мои люди бы такого писать не стали, – возразил Афоня. Его хозяева были как раз Петровы. – Да и зачем? Все и так знают, что они живут в этом подъезде.
Вообще-то Афоня ошибался. Из жителей подъезда по имени и фамилии друг друга знали только несколько человек, остальные даже не здоровались друг с другом. Лучше всех людей в подъезде, как ни странно, знали коты и домашние духи, да еще собака по имени Джульбарс с четвертого этажа.
– Заклинание это, – с трудом сказал Нафаня. – А для краткости просто «мат» называется. Кто-то сглупу написал от нечего делать, а для нас, для духов, это как ножом по сердцу. Одно хорошо, что злые духи тоже сюда не проберутся, да толку с этого, ежели мы с Марфинькой к своим обязанностям приступить не можем?
Бабай поддержал Нафаню и Марфушу.
– Ишь, поганец мелкий, – сказал он. – Я бы до него добрался, уж я бы его повоспитывал! Всему бы научил: и как вежество знать, и как чистоту в дому соблюдать, и как папку с мамкой слушаться! Уж так понятно бы объяснил! Я, как-никак, заслуженный педагогический работник с 1758 года! С моим-то опытом у меня детишки все исправляются сами собой… Да как ты им займешься, ежели родители не зовут, а без запросу мне помогать закаяно?
– Да ты о ком? – не понял Кисик.
– Как это о ком? О соседях наших новых, – воскликнул Бабай.
На новых соседей никто не обратил внимания. Это была обычная семья – папа, мама и сынишка лет десять-двенадцати, с виду очень респектабельная. Папа каждый день уезжал куда-то на дорогой машине, а мама с утра ходила в фитнес-клуб, по магазинам и в салоны красоты. Хозяйка Маркизы хотела с этой мамой познакомиться, так как почувствовала в ней родственную душу, но та, похоже, не желала заводить новых друзей.
– Они это, они, больше некому, – затараторила и Хока. – Сама я видела, сын ихний-то взял да и написал! Вы думаете: ой-вэй, кто мог такое сотворить? А я своими глазами видела, что сын! Вы-то, конечно, думали: что такое эта Хока? Таки ноль без палочки, сидит, никто ее даже не замечает, нет бы молока вынести! А я снами питаюсь, понятно вам, сны кушаю? Страшные. Вот не съела я страшные сны на верхних этажах, а отчего не съела? – оттого, что путь мне теперь заказан, вот так, из-за этого заклинания нет мне теперь пути! – и бедные люди через это кошмарами мучаются, маются бедные, а все через то, что злое заклинание написано!
Джин Симмонс испытал что-то вроде разочарования. Он-то надеялся, что в подъезде происходят великие и темные дела, а это просто кто-то по глупости испачкал стену! Единственное, что смущало: коты не смогут вытереть стену самостоятельно. Однако у мальчика есть родители, и они наверняка заставят его убрать художество и объяснят, что так делать нельзя.
Однако прошло несколько дней, ситуация ничуть не улучшилась, а на лестничной площадке появились и другие надписи. Одна, сравнительно безобидная, – «Ленка дура». Неизвестно, кто имелся в виду, но Джин Симмонс забеспокоился, что это про Леночку из 49-й квартиры. Леночка была очень хорошей девочкой и совсем не заслуживала, чтобы про нее такое писали. Вторая – тоже заклинательная, и Хока громко возмущалась, что ей теперь «таки нет жизни, а то, шо осталось, это не жизнь, а давайте за нее просто помолчим!»
Еще через день бабка Петровна из 42-й поймала нового соседа за выведением очередной заклинательной надписи прямо возле своей двери.
– Ты что же это, негодник, делаешь! – закричала она. – Ах ты, хулиганье! Ну-ка, вытирай!
– Да пошла ты, старая мымра, – ухмыляясь, ответил мальчишка.
– Ты как со старшими разговариваешь? – возмутилась Петровна. – Вот я твоим родителям расскажу!
Петровну и Хока называла «мымрой», потому что переговорить Хоку только Петровна и могла. Но тут нашла коса на камень.
– Че? Да кто ты такая, слышь, коза старая? – загоготал мальчишка. – Да ты знаешь, кто мой папа? Он городской прокурор! Только тявкни – и будешь в тюрьме сидеть, пока не сдохнешь! Пошла вон отсюда!
– Хулиган, – поджав выцветшие старческие губки, процедила Петровна и спряталась в квартиру, на всякий случай закрывшись изнутри сразу на все замки. А мальчишка еще и наплевал на ее дверь.
Через день произошел пренеприятный инцидент с Леночкой. Джин Симмонс не застал начала, но когда он вышел на лестницу, скандал бушевал уже вовсю.
– Я своими глазами видела, как ваш мою толкнул с лестницы! – кричала мама Леночки. – Она маленькая! Вы понимаете, что могло случиться? Вы что, не можете с ним поговорить?
– Да ваша сама к нему пристает, – визжала в ответ новая соседка. – Не буду я с ним говорить! Я своему Димочке ничего не запрещаю, у нас вальдорфская система воспитания и японские методики! А если ваша к Димочке еще раз пристанет, я на вас в суд подам!
– Это ваш к нашей пристает, – возмутилась мама Леночки. – Это я на вас подам!
– Ой, да подавайте! А мой муж сделает так, что у вашего лицензию предпринимательскую отберут, и тогда вам одна дорога – в сторожа!
– Ой-вэй, какие нервы, – прокомментировала сверху Хока. – Таки я давно не видела подобных представлений, шоб я так жила, а я живу уже очень давно, но у нас таких соседей еще не бывало. Вот пьяницы – это да, как вспомнить, так и вздрогнуть, когда же… в 74 году, как сейчас помню… Хиппи были, все под гитару песни пели, художник был, всю парадную красками завонял, татуировщик был, к нему тут байкеры ходили, все ко всем ходили, – а таких не было!
Джин Симмонс собрал антинёховцев, и они начали обсуждать сложившуюся ситуацию.
– Получается, что мы теперь не «АнтиНЁХ», а «ЗаНЁХ», – сказал Кисик. – Если так посмотреть, то домовой, то есть подъездный, кикимора, Хока и Бабай – это тоже НЁХи. А из-за того, что этот противный Димочка пишет на стенах всякую дрянь, они не могут выполнять свои обязанности, да и вообще им плохо. Хока вон как похудела, видели?
– А Бабай впал в эту, как ее… в общем, черную меланхолию, – добавил Афоня. – Страдает он, что у него перед глазами пример растления и порчи детской души через вседозволенность.
Маркиза помолчала. Пока она думала, Джин Симмонс растерянно произнес:
– Но что мы-то можем сделать? Это не по нашей части, человеческие безобразия… Может, его поймать да поцарапать, этого Димочку?
– Пока родители не вмешаются и не объяснят ему, что так поступать нельзя, – не поможет, – категорически сказала Маркиза. – Каждый ребенок слушается родителей, а не чужих котов. Но меня беспокоит другое. Наши домашние духи, или НЁХи, – они милые, добрые, но слабые. Их одним пустяковым заклинанием остановить можно. А вот на Той Стороне водится кое-кто посолиднее. Цутигумо помните? Им заклинательные надписи этого Димочки – как нам с вами укус мышонка. И если они поймут, что подъезд остался без защиты, и им противостоят только четыре кота… представляете, что будет?
– Может, самим стереть эти надписи? – безнадежно предложил Джин Симмонс.
Они спустились и начали прыгать, пытаясь достать лапами, но Димочка написал свои заклинания слишком высоко, и у них ничего не получилось.
На следующий день хозяйка Маркизы, которой тоже не нравились обрисованные стены и заплеванные ступени, решила поговорить с отцом Димочки.
Она надела свое самое шикарное красное платье с большим декольте, накрасила губки, надушилась, дождалась, пока Димочкин папа приедет на своей дорогущей машине с работы, и приняла грациозную позу.
– Здра-авствуйте, Сереженька, – кокетливо сказала она, ослепительно улыбнувшись. – Давайте знакомиться? Я ваша соседка Наташа! Очень приятно.
– Мне тоже, – буркнул «Сереженька», злобно уставившись на вырез красного платья.
– У вас такой милый мальчик, – продолжала Наташа, взмахивая ресницами и улыбаясь еще ослепительнее, – но вот зачем он…
Обычно ее улыбки и комплименты срабатывали. Но тут из квартиры выбежала мама Димочки.
– Ты как посмела моему мужу глазки строить? Ах ты, змея! Ишь, вырядилась, дрянь такая! – заголосила она и вцепилась ногтями в лицо Наташе.
– Сама змея! Сама дрянь! – закричала Наташа, отбиваясь.
Маркиза решила вмешаться и тоже вцепилась когтями. До лица она не достала, но и не собиралась! Колготки у Диминой мамы мгновенно превратились в сплошные дыры, а холеные ножки покрылись длинными царапинами. Женщина взвыла не своим голосом.
Димин папа не принимал участия в потасовке, зато наблюдал за ней с явным удовольствием.
– Что ты стоишь, Сергей! – завопила Димина мама. – У нее кошка, она же бешеная!
– Кошку конфискуем, – веско сказал Димин папа, – и усыпим, раз она на людей кидается. А вам, гражданочка, придется платить штраф…
– За что штраф? – ошеломленно спросила Наташа. – За то, что ваша жена на меня набросилась и платье порвала?
– За то, что ваша бешеная кошка непривитая людей калечит!
Кисик, очень взволнованный, вызвал Джина Симмонса и Афоню.
– Что делать будем? – спросил он. – Тут уже не НЁХов – тут Маркизу надо спасать!
– У тебя есть план? – деловито уточнил Джин Симмонс.
– Есть. Я же дружу с летучими мышами, уговорю их пустить Маркизу на чердак.
– А еду ей мы принесем? – догадался Афоня. – Главное, чтобы хозяева ничего не заметили…
Маркиза подумала и согласилась.
Афоня зря беспокоился: ему удалось утащить для Маркизы целый пакет сосисок. Но обстоятельства, при которых это произошло, его вовсе не радовали.
Оказывается, Димочка подслушал, как его хозяйка рассказывает подружкам, что ее муж хорошо готовит. Сама она больше любила возиться с техникой и чинила все в доме. Димочка тут же схватил маркер и написал напротив квартиры Афони: «Петров баба», «Петров подкоблучьник» и «Петров дурак».
Петров был кандидат математических наук и занимался любительским боксом, а ростом был под два метра. Поэтому он просто вышел из квартиры и схватил Димочку за руку, еще даже ничего не успел сказать, как мальчишка завизжал, извиваясь, засучил ногами и пообещал, что Петрова посадят в тюрьму пожизненно.
– Марш за тряпкой и вытирай все, что написал, – потребовал Петров.
Однако Димочка так и не вернулся с тряпкой. Вместо этого приехал наряд полиции, надел на ошарашенного Петрова наручники и отвез в отделение. Через два часа Петров, конечно, вернулся домой, но переполох поднялся изрядный.
А мама Димы, выходя на улицу, всем напоказ доставала айфон и хвасталась:
– Я своему сыночку ничего не запрещаю! Он должен вырасти свободной личностью, не испорченной никакими ограничениями!
Маркиза жила на чердаке уже три дня. Она-то и заметила первой жуткую черную тень.
Кошка забилась в угол. А тень наклонилась над мирно спящими днем летучими мышами.
Первое тельце, растерзанное и выеденное одним укусом, упало на пол.
Существо взяло вторую мышку, растянуло ее крылья и впилось в живот. Мышка забилась, запищала, но через несколько секунд все было кончено, от тела осталась только кровавая скорлупка, и несколько кровавых капелек упало на пол чердака. А неизвестная тварь явно только вошла во вкус. Третья летучая мышка уже трепыхалась в ее призрачных лапах. Тварь с наслаждением подцепила когтем ее шкурку и вспорола живот, вытаскивая один за другим внутренние органы: тоненькие ниточки кишок, сердце, легкие…
У Маркизы даже в глазах защипало от жалости к несчастному зверьку. Коты – хищники, но есть разница: ловить зверьков, чтобы съесть их, или вот так злонамеренно истязать? И Маркиза взвыла:
– Нетопыри! Вставайте! Вставайте, вас же сейчас съедят!
Летучие мыши просыпались – медленно, неуверенно, а тварь тем временем поймала еще одного из их стаи и принялась терзать. Теперь Маркиза могла рассмотреть ее длинные когти, ее желтые длинные зубы… и поняла, кто она.
Навья.
Неупокоенная душа покойника, умершего дурной смертью.
Хока что-то такое рассказывала о соседях-алкоголиках, спившихся до смерти, – но долгое время их призраки не беспокоили подъезд. Зло, разбуженное по глупости новыми соседями, дало возможность навье вернуться. И Маркиза усами почувствовала, что навья начала с летучих мышей только потому, что они первыми попались ей на зуб.
Летучие мыши взмыли в воздух и полетели. Маркиза сообразила, что еще чуть-чуть – и навья доберется до нее, потому что она единственная из живых, кто остался на чердаке. «Хоть бы этот хулиган Димочка написал свои заклинания возле чердака», – подумала она. Так был бы шанс задержать навью, хотя Маркиза чувствовала: для нее нужны заклинания помощнее.
Она вскочила на чердачное окно. Было невероятно высоко и так же невероятно страшно. Прыгать вниз Маркиза боялась. Она решила выбраться наверх, на крышу, но сделать это было не так-то просто. Одна ошибка, одно неверное движение – и лежать Маркизе белым трупиком на асфальте… А к ней уже протянулась черная рука-щупальце, от которой исходил явственный заах тления. Маркиза в ужасе уставилась на эту руку. Сквозь полусгнившую кожу просвечивало тухлое, раздутое мясо и бурые кровоподтеки. В некоторых местах кожа лопнула, и в трещины сочилась бурая жидкость, распространяя зловоние. На пальцах мясо отслоилось и висело клочьями. Однако этот оживший труп двигался, он хотел жрать и явно намеревался полакомиться кошкой.
Выбирать было некогда, и Маркиза прыгнула вниз.
Она успела раскрыться, как парашют, чтобы как можно мягче опуститься на землю, и вдруг заметила, что порывом ветра на чьем-то незастекленном балконе раздуло простыню. Маркиза извернулась в воздухе и вцепилась в самый край этой простыни. Она затрещала под коготками, даже немного порвалась, но Маркиза уже держалась крепко. С трудом она запрыгнула на балкон.
Это оказался балкон Петровны.
От пережитого ужаса Маркиза бессильно упала в уголке балкона, как тряпочка. Но задерживаться не стоило. Она пробежала по комнате мимо удивленной старухи и заскреблась в дверь.
– Это еще что такое? – заворчала Петровна, но присмотрелась. – А, это Наташина… что ты тут делаешь, кисонька? Может, молочка?
Маркиза не стала отказываться. Ей ужасно хотелось подкрепиться и хоть немного восстановиться. Ее ждали серьезные дела.
Она заколотила в дверь Джина Симмонса, потом бросилась к Кисику, потом – к Афоне. Наконец, друзья начали собираться.
– Что случилось? Что-то серьезное? – спросил Афоня, отлично понимая, что по пустякам Маркиза не стала бы так срочно всех собирать.
Кисик потерся мордочкой о ее мордочку. Он очень за нее беспокоился.
– Навья, – выдохнула Маркиза и упала на пол.
– Маркиза! – воскликнул женский голос. Это хозяйка Маркизы как раз шла домой с работы. – А я тебя везде ищу! Ну, пойдем домой, моя кошечка, моя лапочка! Разве можно так убегать!
Хозяйка так расчувствовалась, что даже погладила Кисика, и тот удивленно замер. Раньше она была категорически против их встреч.
Джин Симмонс поскреб лапой пол.
– Навья, – сказал он. – Это же неупокоенный мертвец? Серьезнее некуда, Афоня. Они, знаешь ли, людоеды. Раньше наши предки знали, как их остановить, но сейчас этого тебе и Нафаня, наверное, не скажет…
– Ой-вэй, что вы такое говорите, друзья мои, – пискнула сверху Хока. – Нафаня-то скажет, да кто его услышит? Люди его не понимают! А Нафаня, он домовой со стажем, уж он скажет, как скажет, так скажет, он все знает и про это, и про все!
– А мы не сможем? – спросил Афоня.
– Нет, тут люди должны, – вздохнула Хока и спряталась. Коты немного подождали, но она так и не появилась.
– Что-то в доме сдохло, – сказал Кисик. – Хока сказала меньше тысячи слов за один раз.
Но разрядить обстановку ему не удалось. Точно так же, как и придумать, что делать. Ни у кого не было идей.
Вечером прорвало трубу в подвале. Жильцы первого этажа вызвали аварийные службы, но аварию ликвидировать так и не удалось.
Коты снова собрались, чтобы повторить мозговой штурм; теперь они сидели возле квартиры Афони, и вдруг чуткая Маркиза спросила:
– Что это за запах? Похоже на мертвую крысу… и на рыбу?
Она обожала влажный корм из тунца и форели и запах рыбы угадывала с одного вдоха. Поэтому остальные ей поверили и осторожно пошли вниз, к подвалу.
На ступеньках, ведущих в подвал, лежала крыса. Та самая, которую не раз и не два трепал Кисик. Она была мертва, но конец ей пришел не от старости и не от голода.
Достаточно было посмотреть на ее размозженную голову – вернее, пустой череп, на вспоротое брюшко, на лежащие неподалеку кучки ее кишок, на оторванный хвост.
– Небось, Димочка этот садист до нее добрался, – с горечью сказал Кисик. – Бедняга! Хоть она и зверь с пониженной социальной ответственностью, мне ее так жалко…
– Вдруг это опять навья? Навья так же терзала летучих мышей, – прошептала Маркиза.
Но Афоня и Джин Симмонс нашли в себе силы осмотреть тушку несчастной. Вокруг нее виднелись какие-то малоразличимые следы, похожие на утиные, только очень большие, пятна тины и грязи.
– Водяной!
– А Водяной бывает очень злым, если его не остановить, – заметила Хока, свесившись с лестницы. – Таки это не фунт изюма, чтоб я так жила! Он добрый, если ему приношения принести да добром задобрить, он тогда и добрый, и хороший, и русалки его людям помогают – плотвы там подкидывают и всякого прочего, русалки, значит, помогают… А если люди ему никаких приношений не приносят, он всем покажет Кузькину мать!
– Кузька, – задумался Джин Симмонс. – Это какой же? Кот из третьего подъезда? Да нет…
– Это же начальник моста в Заколдованном лесу, – вспомнила Маркиза.
– А мать его – Баба-Яга! И видеть ее могут только мертвые!
– И чтоб она была такая добрая, как мы ее тут не хотим видеть, – прошептала Хока, посерев от ужаса.
У Джина Симмонса похолодели лапки.
Свирепые существа с Той Стороны пробирались в их дом, который некому было защитить. И четверо храбрых котов ничего не могли поделать.
– Нам нужно срочно найти, как справиться с положением, – решил Джин Симмонс. – Мы не можем лежать сложив лапы, даже очень благочестиво, и возносить молитвы котскому богу Непаникую. Правду говорят, что на Непаникуя надейся – а сам не плошай. Должен быть выход!
– Может, теневые жители? – предложил Кисик. – У них можно спрятаться…
– Люди туда не проберутся, – грустно возразил Афоня. – Это удавалось только Леночке. И то она не могла сама выбраться, пришлось Серенького Волчка звать…
– Афонька, Кисик, – перебила их Маркиза, – вы гении! Где нож, который он подарил нам на прощание?
***
Четверка котов из спецподразделения «АнтиНЁХ» шагала по извилистым подземельям теневых пещер. Теневые жители плелись за ними, взволнованно обсуждая происходящее.
На них не действовали заклинания, опрометчиво написанные Димочкой на стенах, и они ничего не боялись, кроме прямой угрозы. Поэтому они охотно согласились помочь котам в их миссии.
Та Сторона показалась котам очень красивой. Но теневые жители не решились ступить за землю Заколдованного леса.
– Если мы туда пойдем, то обратно не вернемся, – извиняющимся тоном сказал один из жителей. – Так что уж простите… Это вы, коты, можете жить одновременно во всех мирах.
Джин Симмонс приготовил нож.
Вокруг стояли огромные деревья. Могучие замшелые стволы возносили короны ветвей на колоссальную высоту. Где-то очень высоко щебетали птицы и цокали белки, под деревьями росла шелковистая трава-мурава, неподалеку журчал ручей. Пахло свежестью, зеленью, первозданной тишиной. Солнце пробивалось сквозь листву, пестря бледными зайчиками. И все-таки котам было не по себе, настолько не по себе, что Джин Симмонс еле заставил себя подойти к ближайшему пню и зубами всадить нож в него.
Вскоре послышался топот, и на поляну выбежал волк.
– Серенький Волчок! – обрадовались коты. – Привет… то есть гой еси! Исполать тебе, добрый лесной царь!
– Дак разве ж я царь всему лесу? – удивился Серенький Волчок. – Я так, волчий король. Уж что есть, то ес… ах ты, собака! Опять язык… – он перевернулся через нож, воткнутый в пень, и преобразился в плечистого богатыря. Коты с удовольствием разглядывали его в человеческой форме: синяя рубаха, кудрявая борода, золотистые волосы, у висков заплетенные в косицы, чтобы не мешать, блестящие синие глаза. О сущности Волчьего Короля напоминали только острые клыки, выглядывавшие изо рта, когда Серенький Волчок улыбался. – Что ж такое, как в волчьей форме заговорю – так и язык прикушу, – пожаловался он. – Ну, котейки, сказывайте, что за беда вас привела. Да не смущайтесь вы! Мне ли не знать – без важного дела на нашу сторону, в Навь, никто из живых не сунется.
– Ваши тоже на нашу сторону не очень лезут, – сказал Джин Симмонс. – А вот поди ж ты.
– На нас напали наши? – изумился Серенький Волчок.
– Честно! – заверил его Джин Симмонс. – Водяной и эта…
– Навья, – подсказала Маркиза.
– Пока что они убивают крыс, – сказал Кисик. – Мою знакомую прямо-таки растерзали.
– И летучих мышей…
– И мы боимся, что они за людей примутся, – завершил Афоня.
– Ох ты, окаянные, – прорычал Серенький Волчок. – Водяному-то я задам, а с Навьей что делать… пока я Водяного трепать буду, она все свое семейство вызовет, а коли навьи толпой нападут – быть беде. – Он подумал, но недолго: вскоре лицо его просветлело. – А позову-ка я Ивана Царевича! Вдвоем-то оно сподручнее!
Он вытащил из-под рубахи свисток, похожий на обычный свисток тренера, и свистнул.
Свист его пошел, как смерч, по всему лесу. Посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая птичья, столб пыли понесло куда-то вдаль, и котам на миг показалось, что даже солнце померкло. Вскоре послышался стук копыт, и одновременно с ним с другой стороны возник волк. Тоже очень крупный, но до короля ему было, конечно, далеко.
– Ты, сынок, вот чего, – обратился к нему Серенький Волчок. – Дуй-ка ты со всех лап к Матушке Яге, скажи – пусть своих гусей-лебедей собирает. Навьи в мире живых орудуют. А я пока займусь сам кое-чем.
Волк вытянулся в струнку, встав на задние лапы. Коты подумали, что он сейчас отдаст честь, но вместо этого волк стукнул себя лапой в грудь (очень торжественно), взвыл, подняв морду к небу, и умчался – только его и видели.
А на поляну выехал на богатырском коне Иван-Царевич.
Был он настоящим сказочным героем. Все у него было, что называется, при нем: и меч – вне всяких сомнений, кладенец, – и перо Жар-Птицы в шапке, и кафтан парчовый, и сапоги сафьяновые, и щит богатырский. И русые кудри из-под шапки, и борода, и внимательные карие глаза. Он приветствовал Серенького Волчка и котов поклоном.
– Коня тут оставь, а на меня садись, – посоветовал Серенький Волчок. – Так сподручнее доехать-то будет. Ну ты это… дай хоть обернуться сначала!
Коты думали, что знают, как быстро может нестись Серенький Волчок, но ошибались. В этот раз он несся так, что ветер выл в усах! К счастью, Иван-Царевич сгреб в охапку всех котов и придерживал, чтобы они не свалились.
Когда они наконец-то добрались до подъезда, там царил кавардак. Коты спрыгнули со спины Серенького Волчка и побежали вперед.
Из подвала вышел Водяной. Он выглядел как обычный старик – лысый, толстый, совершенно безопасный, только с полы его старомодного пиджака капала и капала вода, а на плоском неприятном лице блуждала злорадная усмешка.
– Что, котики, – сально ухмыльнулся он, – думали сбежать от меня, сладенькие мои? Да потоплю я вас, лапочки! Крысок, милашек, уже перетопил, теперь людишек затапливаю, а вас притоплю да сожру, няшечки!
– Перетопчешься, – хмыкнул Серенький Волчок, снова превращаясь в человека. – На, жабья твоя морда, получай!
– Ты? Сокровище мое, да как ты додумался сюда явиться, – забулькал Водяной. – Кто тебя сюда звал, прелесть моя?
– А не твое дело, жаба, – ответил Серенький Волчок и врезал Водяному так, что тот завертелся юлой и действительно превратился в огромную жабу. – Прочь! – и нога в тяжелом ботинке на ребристой подошве пнула жабу так, что она взлетела в воздух, на лету превращаясь в тысячу мутных зеленоватых брызг. – Ишь, распустился. Он-то не злой, – обратился Серенький Волчок к котам, – он просто вежеству не обучен. Кабы к нему по-доброму, так и он ласковый, а как забыли приветить – вот и бесится. Дурной он, что с него взять!
Коты перевели дух. Им уже казалось, что все разрешится проще простого.
Иван-Царевич, держа Меч-Кладенец в руке, бросился наверх.
Отвратительная протухшая Навья сползла с чердачной лестницы. Вонь разлагающейся плоти обдала котов и богатыря. Увидев Ивана-Царевича, Навья забеспокоилась. До этого она напоминала человека, только порядком сгнившего. Из прорех драной одежды выглядывало раздутое сине-бурое тело с колышущимся вспухшим животом, от лица мало что осталось: губы и веки сгнили, глаза засохли и выкатились из орбит, щеки обвисли… Но при виде богатыря кожа на этом лице вдруг лопнула, изо лба начали расти зловонные желтоватые рога, а изо рта – длинные клыки. Сама Навья стремительно начала увеличиваться в размерах.
– Что стоите, дурни, бегите, – рыкнул Серенький Волчок. – Вы ему не подмога!
Коты шарахнулись вниз и, только добежав до следующей лестничной площадки, осмелились обернуться. И тогда они увидели, что Иван-Царевич ничуть не испугался – он смело ударил Навью мечом, и та начала на глазах рассыпаться в прах. Но с чердака уже лезли ее товарки: как и опасался Серенький Волчок, они явились в беззащитный подъезд.
Серенький Волчок, развеселившись в предвкушении драки, издал торжествующий волчий вой.
А снаружи ему ответил жуткий рев.
Коты бросились к окну, и Джин Симмонс почувствовал, что у него отнимаются лапы от ужаса. «Непаникуй, – мысленно твердил он, – Непаникуй защищает. Отец Непаникуй!»
Но паниковать было отчего.
Потому что перед подъездом на «пятачке», где обычно размещались лавочки и сидели старушки, громоздилась гигантская чешуйчатая туша. Крылья, похожие на крылья летучей мыши, были полуразвернуты, могучие лапищи вцепились в асфальт, взламывая его когтями.
– Головы, – прошептал Афоня. – У него три головы!
– Да это же Змей Горыныч, – ахнул Кисик и немедленно загородил собой Маркизу.
– Дух вулканизма и пожара, – мяукнула та. – Ой…
– Ой-вэй, – запричитала Хока. – Все сгорим! Огонь в наших телах! Все сгорит, и останется лишь пепел! И мы будем рабы пепла!
– Ша, – оборвал ее Серенький Волчок.
Его синяя рубаха начала изменяться. Коты ожидали, что на нем появится богатырская пластинчатая кольчуга, но вместо этого Серенький Волчок выбрал что-то вроде очень плотного и надежного бронежилета.
Хока тут же осеклась, а Марфуша, выглянув, громко восхитилась.
– Ох ты, каков удалец! Сразу видно – не детина лядащий, а богатырь настоящий! От наплечников блестящих прямо глаз не оторвать!
Серенький Волчок даже зарделся от такого комплимента.
– Ой, – сказала Маркиза, – я думала, у тебя тоже Меч-Кладенец…
– Меч есть, только не Кладенец, – ответил Серенький Волчок. – Кладенцов на всех не напасешься. Да и что с тем мечом делать в наше-то время да с таким-то врагом? Супротив Горыныча ружьецо в самый раз. Только оно у меня устаревшее, ружьишко-то, – «БФГ» конструкция. Кабы знать, как новые-то сработать. Все эти скорчеры, бластеры, болтеры…
– А это я знаю, – оживился Кисик, заметил, с каким уважением посмотрела на него Маркиза, и приободрился еще больше. – Хозяйка каждую ночь про них читает!
– Сказывай, – велел Серенький Волчок. Кисик мяукнул, и Волчок кивнул.
В руках его, затянутых в латные перчатки, появились вместо «устаревшего ружьишка» тяжелые футуристические штуки. Одна, по словам Кисика, должна была стрелять миллионовольтными разрядами, вторая – болтами.
– Говорю ведь – в самый раз! – Серенький Волчок запрокинул голову и издал громкий вой. – Ну, чудище обло да озорно, выходи на бой!
Он шагнул прямо сквозь стену и очутился напротив Змея Горыныча.
Змей обрушил на него струю огня, так что Серенький Волчок едва увернулся, и ему опалило волосы. Но и он был не лыком шит! Он выстрелил в Змея Горыныча сразу с двух рук. Крыло у Змея Горыныча оказалось поджарено и пошло волдырями, а шея покрылась пятнами крови, и выбитые болтами куски шкуры и мяса полетели во все стороны.
– Так его! – закричали коты, «болея» за друга.
– Скорострельные, – похвалил новое оружие Серенький Волчок, увертываясь от нового залпа огня. – Не то, что «БФГ»!
Иван-Царевич из последних сил отбивался от стаи озверевших навий. Их костлявые гниющие руки, распространяя запах тухлятины, тянулись к его горлу, с рож отваливались куски мяса, оскаленные зубы уже готовы были обгладывать кости богатыря… И вдруг целая стая людей в лебединых крыльях опустилась на верхнюю площадку.
– Где тут неупокоенный элемент? – строго спросил их предводитель. – Наш дорогой руководитель товарищ Яга поручила нам разобраться.
– А-ы-ы-ы! – взвыли навьи, но гуси-лебеди – а это, несомненно, были они, – отлично знали, что делать. Каждый из них надел на руку длинную перчатку, а перчаткой ухватил навью за шкирку. Неупокоенные души беспомощно обвисли, на глазах принимая снова человеческий облик.
– Отправляемся, – скомандовал предводитель, и гуси-лебеди с душами взмыли в воздух.
Иван-Царевич утер пот со лба и… позвонил в дверь Кисика.
Теперь коты явственно видели, что на нем никакой не кафтан и не перевязь с мечом, а обычные джинсы и джемпер. Хозяйка Кисика выглянула из дверей.
– Ванечка! Братик! – обрадовалась она. – А я думала, ты самолетом…
– Нет, я плацкартой, – ответил он. – Привет, Кирочка, сестричка! А что это у вас тут за пожар? Смотрю, пожарная стоит…
– А, – поморщилась девушка. – Это новые соседи. Такая неприятная семья! Вроде и приличные на вид люди, а все время скандалят, сын их стены обрисовал всякими гадостями, а теперь еще и пожар в подъезде наделал… Может, хоть теперь они за ним смотреть начнут. Ну ладно, бог с ними, я тут кое-что вкусненькое тебе сготовила…
Тем временем Змей Горыныч, жалобно трубя, развернулся и пустился наутек, роняя сопли из огромных ноздрей. Серенький Волчок испустил ему вслед торжествующий вой.
***
– Ну, как дела? – по привычке спросил Джин Симмонс.
Хока снова поправилась, даже чересчур – за время ее вынужденного отсутствия на верхних этажах скопилось очень много кошмарных сновидений, и она отъелась за две недели и блаженствовала. Марфуша и Нафаня рьяно принялись за дело, и во всех квартирах подъезда отныне все шло идеально: техника не ломалась, коммуникации работали как часы, а еда готовилась такая, что пальчики оближешь. Водяного Серенький Волчок заставил исправить содеянное, и в подвале было необыкновенно сухо – впервые за все время существования дома не протекала ни одна труба, даже комары передохли.
Бабай гордо приосанился.
– Говорю же, кабы я взялся за воспитание, так был бы отличный парень, – гордо сказал он.
Родители Димочки после устроенного им пожара заплатили жильцам подъезда компенсацию за обгоревшие двери и провели косметический ремонт за свой счет, после чего пересмотрели свой педагогический подход и строго-настрого запретили Димочке хамить старшим, ругаться, писать на стенах, играть со спичками и… запрещать пришлось много чего. Ведь мальчику в течение одиннадцати лет никто не догадывался объяснить, что хорошо, что плохо, а что и по-настоящему опасно. Но Бабай был уверен, что с его помощью дело пойдет на лад.
– Родители-то из таковских, что сами не знают, где зло, а где добро, – сказал он.
– Жаль, что убитых зверей не вернешь, – грустно сказал Афоня, и Кисик кивнул.
– Маркиза! – воскликнула хозяйка Маркизы, которая как раз шла по лестнице. – Опять ты с этим полосатиком… Ну что мне с тобой делать?
– А у них любовь, – пошутил, поднимаясь вслед за ней, Иван, не догадываясь, как близок к истине. – Здравствуйте, Наташа!
– Здравствуйте, Ваня, – сказала Наташа и покраснела. – Любовь – это хорошо, а что мне с котятами потом делать?
– Пристроим как-нибудь, – беспечно ответил Иван. – А я как раз хотел вас спросить, вы вечером не заняты? Мы с Кирой собираемся в кино. Может, присоединитесь?
Наташа подумала.
– Ну, – нерешительно начала она, – можно…
Они подхватили каждый своего питомца и пошли вверх вместе.
Афоня проводил их взглядом и сказал:
– Ну, похоже, это дело мы закончили успешно.
– Точно, – согласился Джин Симмонс. – Но расслабляться не стоит!
